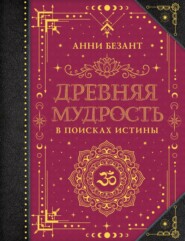По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Исповедь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В 1882 г. не наступил еще конец борьбе, в которую замешан был м-р Брэдло и все близкие ему люди. 7-го февраля он в третий раз говорил пред палатой общин и закончил речь предложением, принятие которого положило бы конец распре. «Я готов удалиться из парламента, сказал он, – на четыре или пять недель, если палата обещает за это время, или в течение промежутка времени, необходимого для решения подобного вопроса, заняться биллем о декларации. Я рад покориться закону, и если палата позволит мне указать ей путь к возможному между нами соглашению, я готов это сделать. Некоторые из достопочтенных членов говорили, что это был бы охранный билль Брэдло. Но Брэдло более горд, чем вы. Пусть билль пройдет без права применения его к выборам, произошедшим до утверждения его, я обязываюсь не претендовать на свое место теперь, и когда билль будет утвержден, я выступлю снова кандидатом. Я не боюсь. Если я не гожусь для моих избирателей, они могут сместить меня, но вы на это права не имеете. Только смерть может остановить мой протест». Но палата не вошла в соглашение. Он просил о 100,000 подписях для поддержки своих конституционных прав, а в течение 8-го, 9-го и 10-го февраля представлено было 1,008 петиций с 241,970 подписями; палата отнеслась к ним с полным презрением. Брэдло отказали в признании его места вакантным, лишая, таким образом, Нордгемптон одного депутата и закрывая путь всякому законному восстановлению прав. М-р Лабушер, сделавший все, что может сделать добросовестный товарищ для собрата, внес билль о декларации, но встретил суровый отпор. М-р Гладстон отказал в поддержке билля и все враги свободы стали торжествовать. Из состояния такого спокойного проявления полновластия палата была выбита смелым поведением члена, которого она старалась не подпускать к себе, который неожиданно для пораженной его поведением палаты пришел, произнес присягу, занял свое место и стал ждать дальнейших событий. Палата изгнала его – ей не оставалось, конечно, ничего другого делать после его поступка – и м-р Лабушер потребовал нового избрания для Нордгемптона, «депутат которого, Чарльз Брэдло, изгнан из палаты». Нордгемптон, преданный Брэдло по-прежнему, избрал его в третий раз, число его избирателей увеличилось на 359 против второго избрания, и это торжество встречено было с неописуемым энтузиазмом во всех больших городах Англии. Небольшим большинством в 15 голосов в палате, имеющей 599 членов, – и даже это небольшое большинство было следствием колебания правительства, – ему отказано было в праве занять свое место. Но теперь вся либеральная пресса приняла участие в споре; вопрос о присяге и декларации сделался пробным камнем каждого кандидата в парламент и правительство было предупреждено, что оно отчуждает своих лучших друзей. «Pall Mall Gazette» сделалась, наконец, выразителем назревшего общественного мнения: «Чем билль о присяге может принести ущерб правительству? Мы уверены, по крайней мере, в том, что, противодействуя биллю, правительство менее всего действует в свою пользу на выборах. Нет сомнения, что выборы будут делаться только по этому вопросу, и всякий либерал, отказывающийся вотировать за такой билль, потеряет поддержку радикалов в нордгемптоновском роде при всяких выборах. Либеральная пресса всей страны выказывает полное единодушие в этом отношении; нужно только, чтобы правительство выказало немного больше храбрости и признало, что даже на практике честность лучшая политика». Правительство не было согласно с этим и поплатилось за это, потому что одной из причин его поражения, последовавшего на выборах, было негодование, возбужденное его колебаниями и трусостью по отношению к избирательным правам. Я имела полное основание писать в мае 1882 года, что «Чарльз Брэдло, вследствие причиненного ему зла, сделался воплощением великого принципа». В самом деле, агитация разрасталась в Англии все сильнее, до тех пор, пока избранный опять на общих выборах он был, наконец, допущен к присяге и занял свое место; тогда уже он внес билль о присяге и провел его, не только давая этим право декларации членам парламента, но устанавливая, что свободомыслящие имеют право быть присяжными заседателями, и освобождая свидетелей от оскорблений, которые наносились отказывающимся приносить присягу; таким образом он закончил полной победой единственную в своем роде борьбу, и увековечил свое имя в конституционной истории Англии.
В палате лордов, лорд Редсдаль внес билль о недопущении атеистов в парламент, но в виду господствовавшего в то время общественного настроения, лорды отказались провести его, высказывая, конечно, глубокое сожаление по этому поводу. Но тем временем сэр Генри Тэйлер стал требовать в палате общин возбуждения преследований за святотатство против м-ра Брэдло и его друзей и в то же время начал поход против дочерей м-ра Брэдло, против меня и д-ра Эвелинга, за наше преподавание естественных наук. Это были все новые и новые осложнения нашей борьбы, но никто из нас не падал духом и не отчаивался в конечной победе свободомыслия.
Глава XI
Дальнейший ход борьбы
Вся эта неустанная борьба на религиозном поприще не делала меня слепой к бедствиям Ирландии, столь дорогой моему сердцу, сдавленной в тисках «принудительного билля» Форстера. Статья, которую я написала тогда под заглавием «принудительные меры в Ирландии и их последствия», появилась отдельной брошюрой и получила широкое распространение.
Я говорила в статье против выселения – 7020 человек было выселено за квартал, оканчивающийся мартом – и о том, что нужно назначить суд над заключенными по подозрению, о возмещении убытков тем, кто до аграрного закона выступал против беззаконий, устраненных аграрным законом; я доказывала, что «никакие меры не могут повести к успокоению Ирландии не только пока не будут освобождены ирландцы, томящиеся в тюрьмах, но пока благородный и несчастный Мэйкель Давитт не вернется в Ирландию свободным человеком».
Наконец, правительство переменило тактику и решило действовать с большей справедливостью; оно послало лорда Фредерика Кавендиша в Ирландию, дав ему полномочие освободить «заподозренных», но он едва успел доехать, как был убит. Это убийство вестника мира было истинно гнусным поступком. Я была в это время в Блэкборне, куда приехала читать лекцию «об ирландском вопросе», и только что направилась в залу собрания, радостная и преисполненная надеждой на близящееся спокойствие, как мне передали телеграмму об убийстве. Я никогда не забуду обнявшего меня ужаса и отчаяния. «Убит не один человек», писала я через два дня после того, «а убита только что народившаяся надежда на дружбу между двумя нациями, вновь раскрыта пропасть ненависти, которая уже близка была к исчезновению». Увы, убийство не преминуло привести к ожидаемым последствиям, и внушило правительству новую несправедливую меру. Оно поспешило внести в парламент новый принудительный билль, и провести его через все парламентские стадии; несмотря на всеобщее возбуждение, я продолжала проповедовать уклонение от решительных мер, хотя моя задача становилась все труднее. «Бесконечно трудно», писала я, решить в настоящую минуту ирландский вопрос. Тории неистовствуют и хотят отомстить целой нации за преступление, совершенное несколькими людьми. Виги тоже поднимают крик; многие радикалы, захваченные потоком, и чувствующие, что что-нибудь должно быть сделано, поддерживают действия правительства, забывая спросить, разумно ли то, что оно намеревается делать. У некоторых сохранилась еще стойкость убеждения, но их очень мало – слишком мало, чтобы помешать принудительному биллю стать законом. Но хотя нас, поднимающих голос против зла, которое мы не в силах предотвратить, немного, мы все-таки можем повлиять на то, чтобы сделать новый закон кратковременным, возбуждая общественное мнение к требованию отмены его, как можно скорее. Когда мера, принятая правительством, будет понята публикой, битва будет на половину выиграна. Теперь мера держится, благодаря доверию к правительству, но ее отклонят, как только настоящее её значение будет понято. Убийства, вызвавшие насильственные меры, потрясли Англию тем сильнее, что оказались непредвиденным переходом от радости и надежды к мраку и отчаянию. Новая политика была встречена так радостно, а вестник этого нового направления политики был убит прежде нежели высохло перо, подписавшее указы о милосердии и свободе. Нечего удивляться, что после криков ужаса последовали меры мести; но убийство было делом нескольких преступников, между тем как месть касалась всех ирландцев. Я старалась противодействовать панике, которая смешивает политическую агитацию и политическое правосудие с вопросом о преступлении и наказании; правительственная мера зажимает рот каждому ирландцу, и ставит, как мы увидим, всякое политическое действие в зависимость от добросовестности губернатора, чиновников и полиции. Я обрисовывала затем нищету крестьян в тисках землевладельцев, выселение на большую дорогу умирающей матери с грудным ребенком, потерю «всякой мысли о святости человеческой жизни, когда жизнь самых дорогих существ ценится менее высоко, чем шиллинги неуплаченных податей». Я критиковала новый закон и говорила следующее: «когда закон вступит в силу, суд присяжных, право сходок, свобода печати, святость семейного очага – все это очутится вдруг в руках губернатора, полного властителя Ирландии, а личная свобода каждого будет в руках каждого полицейского. Такова английская система управления Ирландией в 1882 г., и это называется биллем «об искоренении преступлений». Я не колебалась представить истину без всяких прикрас: «несомненно», писала я, «что цель убийц достигнута ими. Они увидели в новой политике правительства путь к сближению Англии и Ирландии; они знали, что вместе с дружбой придет справедливость, и что в первый раз с незапамятных времен обе страны протянут руку одна другой. Чтобы предупредить это, они вырыли новую пропасть – в надежде, что уж ее Англия не захочет перешагнуть, залили целою рекою крови пути дружбы и заградили трупом открывающиеся ворота примирения я спокойствия. Они достигли цели».
Во время этого разгара политической и общественной борьбы до меня дошли первые смутные слухи о теософическом обществе, о его принципах, не выставлявших, как я увидела, никаких определенных требований для вступления в члены общества, ничего, кроме – научного интереса к поэтическим и мистическим религиозным учениям востока. Узнала я также о докладе полковника Олькота, и вынесла впечатление, что общество исповедует какое-то странное учение о возможности общения с тенями мертвецов, о жизни духа, отдельной от жизни тела. Эти сведения доходили до меня через нескольких индийских атеистов, которые спрашивали моего мнения о том, могут ли свободомыслящие примыкать к теософическому обществу и теософы делаться членами национального общества свободомыслящих. Я ответила, судя по тем сведениям, которые имелись у меня, что несмотря на то, что свободомыслящие не имеют права отказывать в членстве теософам, если те пожелают вступить в их среду, есть однако громадная разница между мистицизмом теософов и научным материализмом свободомыслящих. Исключительная вера в материальный мир, которая составляет неотъемлемый элемент материализма, не оставляет места никакому сверхъестественному существованию; поэтому, последовательные члены нашего союза не могут примкнуть к обществу, исповедующему такую веру».
Е. П. Блаватская написала в «Theosophist» за август 1882 г. небольшую статейку в ответ на мои слова. Со свойственной ей деликатностью в полемике, она высказала предположение, что «статья, очевидно, написана под влиянием ложных сведений об истинном значении теософического общества. Нам кажется по меньшей мере непоследовательностью со стороны столь просвещенной и здравомыслящей писательницы – резонерство и издание автократических указов, после того как она сама так жестоко и так несправедливо страдала от слепого ханжества и общественных предрассудков в её неустанной борьбе за свободу убеждений». Приведя мои слова, она продолжала: «До тех пор, пока нас не убедят в противном, мы предпочитаем думать, что вышеприведенные строчки были внушены м-сс Безант кем-нибудь из наших недоброжелателей в Мадрасе, и являются скорее результатом мелкой личной мести, чем желания действовать согласно принципам научного материализма, составляющего основу атеизма. Мы можем уверить радикальную редакцию «National Reformer», что ее ввели в сильное заблуждение ложными сведениями о столь же радикальных, как и они, издателях «Theosophist». Они так же мало склонны к вере в «сверхъестественное», как м-сс Безант и м-р Брэдло».
Е. П. Блаватская, когда ей приходилось иногда говорить о происходящей в Англии борьбе, обнаруживала удивительно широкие взгляды. Она говорила с большим уважением о деятельности м-ра Брэдло и его парламентской борьбе, и отзывалась с большим сочувствием об услугах, оказываемых им делу свободы. Говоря в другом месте об ораторском искусстве, противоположном красноречию спиритов, находящихся в трансе, она упоминала обо мне. «Другая женщина оратор», писала она, «заслуживающая вполне свою громкую известность, как красноречием, так и ученостью – м-сс Анни Безант – хотя и не верит в руководящих поступками духов, или в данном случае хотя бы в свой собственный дух, однако говорит и пишет так много разумных вещей, что одна из её речей или глав её книг содержит больше полезных для человечества мыслей, чем многие из современных спиритов могут выразить втечение всей своей жизни». Я часто задумывалась над тем, стала ли бы я её последовательницей, если бы познакомилась в то время с ней или с какими-нибудь её произведениями. Мне кажется, что нет; я была еще слишком ослеплена успехами западной науки, слишком самонадеянна, слишком воинственна, слишком подчинена своим чувствам, чутка к похвалам и порицанию. Мне нужно было еще глубже познать глубину человеческого горя, услышать более громкие стоны «великого сироты» – человечества, более настойчиво почувствовать недостаток в большем знании и более ярком свете для помощи людям – и тогда только я могла бы смирить мою гордость и поступить в школу оккультизма, отбрасывая свои предразсудки и приступая к науке о душе.
Настойчивые усилия сэра Генри Тейлера и его друзей возбудить преследование за клятвопреступление достигли, наконец, цели и в июле 1882 г. м-р Фут, редактор «Freethinker», м-р Рамсэй, издатель и м-р Витль, типографщик, были привлечены к ответственности, при чем обвинителем выступил сам сэр Генри Тейлер. Сделана была попытка впутать в дело м-ра Брэдло, и обвинители соглашались оставить в стороне редактора и типографщика, если м-р Брэдло лично продаст им несколько экземпляров газеты. Но, несмотря на постоянную готовность м-ра Брэдло выгораживать своих подчиненных и брать на себя их грехи, он на этот раз не видел основания брать на себя ответственность за газету, которою он не заведывал, и которая, по его мнению, роняла дело партии своими карикатурами и давала лишнее орудие противникам. Он ответил поэтому, что готов продать обвинителям какие угодно книги, изданные им самим или с его согласия, и прислал вместе с тем каталог подобных изданий. Цель сэра Генри Тейлера была очевидна, и м-р Брэдло пояснил ее печатно в следующих словах: «Вышеприведенные письма ясно показывают, что сэр Генри Тейлер, не добившись закрытия естественно-научных классов в научном клубе, не будучи в состоянии убедить сэра Вернона Гаркура возбудить преследование против меня и м-сс Безант, как редактора и издательницы этой газеты, хочет взвалить на меня ответственность за содержание газеты, в которой я не принимаю никакого участия, на которую не имею никакого влияния и которой совершенно не интересуюсь. Почему сэр Генри Тейлер так пламенно желает судить меня за святотатство? Не потому ли, что по 9-му и 10-му §§ III гл. 32 такое обвинение «навсегда» закрывает доступ в парламент?» «Whitehall Review» откровенно выставила это желательной целью и м-р Брэдло вызван был в Mansion House по обвинению в печатании святотатственных статей в «Freethinker»; тем временем сэр Генри Тейлер хлопотал об отнятии у дочерей м-ра Брэдло преподавательского диплома; он получил также разрешение, приведенное к исполнение несмотря на свою недействительность, произвести ревизию банковых счетов м-ра Брэдло и моих, хотя я и не была причастна к этому делу. Оглядываясь назад, я поражаюсь невообразимой мелочностью, до которой дошли сэр Генри Тейлер и другие в своей защите религии. Старания сэра Генри Тейлера кончились однако неудачей, предложение его провалилось в парламенте самым скандальным образом и в то же время появился в печати отчет об успешной научной деятельности дочерей м-ра Брэдло, как в области педагогической, так и в самостоятельных научных трудах, и о том, что я оказалась единственной на всю Англию обладательницей почетного диплома по ботанике.
Следствием бесчисленных нападок, которые обрушивались на нас, было громадное распространение наших политических и богословских писаний, и мы перенесли в сентябре 1882 г. свой издательский склад в большой магазин на Fleet Street. Первыми двумя вещами, проданными там, была моя брошюра, заключавшая сильный протест против возмутительной политики Англии в Египте, и критический разбор книги Бытия, написанный м-ром Брэдло в промежутках его кипучей деятельности. Я бывала в складе ежедневно, за исключением времени отлучек из Лондона, до самой смерти м-ра Брэдло в 1891 г. и единственной моей помощницей была старшая дочь м-ра Брэдло, девушка с сильным характером и высокой душой, умершая внезапно в декабре 1888 г. В «National Reformer» помощниками моими были д-р Эвелинг, а потом м-р Джон Робертсон, теперешний радактор газеты. Там же с 1884 г. работал вместе со мной Торнтон Смит, один из самых преданных учеников м-ра Брэдло, сделавшийся одним из выдающихся ораторов национального общества свободомыслящих. Среди новых литературных предприятий, последовавших за расширением издательского дела на Fleet-Street, был маленький шестипенсовый журнал, редактируемый мной самой и носящий название «Our Corner». Первый номер появился в январе 1883 г. и в течение шести лет журнал выходил аккуратно и был крайне удобным для меня органом во время моей деятельности по рабочему вопросу. Сотрудниками «Our Corner» состояли Монкюр Конвэй, профессор Л. Бюхнер, Ив. Гюйо, проф. Эрнст Гекэль, Бернард Шо, д-р Эвелинг, Джойнс, Робертсон и многие другие; м-р Брэдло и я аккуратно писали каждый месяц.
Начало 1883 г. было бурное, повсюду шла борьба и вся Англия возбуждена была сильной конституционной агитацией, которая заставила правительство внести новый билль о декларации; либеральные ассоциации составляли повсюду решительные постановления; шли приготовления к борьбе против избрания вновь депутатов, изменивших своему мандату; около тысячи делегатов явились в Лондон от разных клубов, trade-unions и всякого рода ассоциаций; на Трафальгэр-сквере устроен был шумный митинг, в Вестминстер-Голе толпилась возбужденная масса народа. Инспектор Денинг попросил м-ра Брэдло выйти к толпе, которая опасается за его сохранность в стенах парламента; он вышел сказать, что «правительство обязалось тотчас же внести билль». Народ ликовал, оглашая воздух криками восторга. Таков был этот день, 15-е февраля 1883 г., истинный день победы для народа. Это было – ответь Англии на воззвание к справедливости, и ответ парламенту, бросившему вызов избирательному праву страны.
Едва кончился этот инцидент, как началось вторичное преследование за святотатство; м-р Фут, Рамсэй и Кемп привлечены были к ответственности и предстали на суд, состоявшийся под председательством судьи м-ра Норса, упрямого сторонника церкви и обрядностей. Суд кончился разногласием присяжных после блестящей речи м-ра Фута в защиту самого себя. Судья все время выказывал большую суровость и даже отказался выдать подсудимых на поруки между первым и вторым разбирательством. Они были заключены в Ньюгэт от четверга до понедельника и нам позволили говорить с ними только через решетку от половины девятого до половины десятого, когда они выпускались для прогулки на тюремный двор. Вторичный суд состоялся в понедельник и они были признаны виновными, при чем м-р Фут приговорен был к заключению на год, м-р Рамсэй на девять месяцев, м-р Кемп на три. М-р Фут более всех других держал себя с достоинством и мужеством в своем трудном положении, выслушал спокойно тяжкий приговор и ответил: «Милорд, благодарю вас; этот приговор достоин вашей веры». Мы постарались облегчить участь осужденных, взявши на себя ведение их дел. Д-р Эвелинг стал заведывать изданием «Freethinker» и журнала м-ра Фута «Progress»; то, что необходимо было сделать для поддержки их семей, было сделано, м-р и м-сс Фордер взяли на себя заведывание книжным магазином м-ра Рамсэя и чрез несколько дней все уже было налажено. Хотя большинство из нас не одобряло направления газеты, не было времени думать об этом, когда возбужденное обвинение в святотатстве закончилось обвинительным приговором, и мы все должны были сплотиться, чтобы помочь людям, попавшим в тюрьму из-за своих убеждений. Я начала серию статей «о сущности христианской веры и о том, отрицание чего должно считаться святотатством». Повсюду атеистическое движение приняло широкие размеры, и стало пробуждаться сознание, что пересмотр законов о святотатстве далеко не устарелое дело.
Очень сочувственно отнеслась к нам в то время Е. П. Блаватская, писавшая в «Theosophist»: «Мы даже теперь предпочитаем положение м-ра Фута положению его строгого судьи. Да, будь мы осуждены, как он, мы бы чувствовали больше гордости быть пострадавшим издателем, подобно ему, чем величавым судьей в роде м-ра Норса».
Настал день суда над м-ром Брэдло, Футом и Рамсэем, обвиненными в святотатстве, и на этот раз разбирательство происходило в королевском суде, под председательством верховного судьи лорда Кольриджа. Мне дозволено было сесть между м-ром Брэдло и м-ром Футом, так как мне поручено было приготовлять для м-ра Брэдло все справки, которые могли бы ему понадобиться, и отмечать пункт за пунктом то, чем он уже воспользовался. Фут и Рамсэй введены были под конвоем; м-р Брэдло потребовал, чтобы его дело рассматривалось отдельно, так как отрицал всякую ответственность за газету. На суде вполне выяснилось, что и он и я не имели никакого отношения к газете, что мы издавали ее до ноября 1881 г., а потом отказались, главным образом из-за затеянной в газете иллюстрации. Я была призвана свидетельницей и сейчас же вышли затруднения. Сэр Гардинг Гиффорд подверг меня строгому допросу, старался запутать меня, как только мог, но полная чистосердечность моих ответов обезоружила его.
Во время суда произошло несколько курьезных инцидентов; сэр Гардинг Гиффорд открыл заседание очень умной и очень недобросовестной речью. Все факты, говорившие в пользу м-ра Брэдло, были искажены или скрыты; все, что только могло служить орудием против него, было выставлено в ярком свете. Среди множества извращений истины, сделанных этим благочестивым прокурором, было и заявление, что перемена состава редакции «Freethinker» совершилась после возбуждения вопроса о преследовании газеты. Между тем перемена произошла в ноябре, а вопрос о преследовании возбужден в парламенте в феврале. Эта очевидная ложь достаточно характеризует недобросовестность его приемов, направленных на то, чтобы добиться несправедливого приговора.
После речи вызваны были свидетели. Сэр Гардинг не вызвал свидетелей, знакомых с фактами, как напр. Норриса, управляющего магазином, или типографщика Витля. Он тщательно устранил их, не желая, чтобы истина обнаружилась. Но он привлек к разбирательству дела двух клэрков, которые были одно время при складе и покупали множество номеров «National Reformer» и «Freethinker», совершенно не распространяя их в публике, но казавшихся Гардингу все-таки удобным средством произвести впечатление большой виновности подсудимых. Он вызвал также какого-то чиновника из Br?tish Museum, который принес с собой две огромные книги; они представляли собой годовые экземпляры «National Reformer» и «Freethinker», но зачем они были принесены, никто понять не мог; прокурор, я думаю, понимал это не больше других, а судья, посмотревши на книги поверх очков, отнесся к ним с полным пренебрежением, как к совершенно не относящимся к делу предметам. Затем кто-то из свидетелей показал, что м-р Брэдло платил налоги, как обитатель Stonecutter Street, в чем никто не сомневался. Двое полицейских показали, что видели его там. «Вы, я полагаю, видели там еще многих других», заметил верховный судья. В общем, это дело было одним из самых гнусных и несостоятельных, которые когда либо разбирались на суде.
Один свидетель, однако, имел большое значение – м-р Вудгэм, управляющий банка. Когда он показал, что м-р Малонэ, младший прокурор, проверял банковые счеты м-ра Брэдло, на суде пронесся ропот негодования и изумления. «Однако, однако!» послышались голоса адвокатов позади. Судья нагнулся над бумагами с видом недоумения и на минуту допрос должен был прекратиться из за всеобщего возбуждения. Если только сэр Гардинг Гиффорд не обладает большим актерским талантом, то очевидно, что и ему не был известен этот гнусный факт, потому что он выглядел таким же пораженным, как все его товарищи по суду.
Другой из произошедших на суде инцидентов показывает более всего умение м-ра Брэдло быстро понять положение дела и приноравливаться к обстоятельствам. Он хотел прочесть показание Норриса в Mansion House, чтобы показать, почему не призван был в свидетели заведывающий магазином; судья не согласился дозволить чтение. Произошла маленькая пауза; затем м-р Брэдло сказал: «В таком случае, я полагаю, что достопочтенный прокурор потому, быть может, не призвал Норриса, что…» и за этим все показание Норриса последовало в форме предположений. Судья на минуту опустил глаза и не мог удержаться от сдержанного смеха, вызванного удачной переменой орудия защиты и блестящим достижением цели; адвокаты, толпившиеся позади, смеялись совершенно открыто, заражая присяжных заседателей, улыбавшихся против воли; невозмутимым оставался только сам м-р Брэдло, продолжавший серьезно излагать вопросы, которые «могли бы быть предложены Норрису на суде». Цель защитительной речи м-ра Брэдло была ясная, и он сам формулировал ее: «я хочу только показать вам, что возбуждение этого дела одна из мер, предпринятых с целью сразить политического противника – что все это продолжение кампании, начатой против меня со времени моего вступления в парламент в 1880 г. Если бы обвинитель сам явился на разбирательство, я бы показал вам, что он был в палате одним из первых, поднявших против меня обвинение в святотатстве. С тех пор я не имел ни минуты спокойной до понедельника на этой неделе. Меня преследовали взысканиями и процессами. В прошлый понедельник палата лордов освободила меня навсегда от одного рода обвинений; сегодня, милостивые государи, я обращаюсь к вам с просьбой освободить меня от всех других. Три раза избиратели делали меня своим представителем, и сэр Генри Тейлер хочет, чтобы вы заклеймили меня постыдным приговором не за то, что я издавал еретические сочинения, а за то, что был лжецом. Я вовсе не желаю быть заключенным в тюрьму, но я предпочитаю это десять раз тому, чтобы мои избиратели на одну минуту подумали, что я способен лгать для избежания кары. Меня не судят в настоящую минуту за что либо написанное мною или под моим влиянием. Как милорд сам заявил сегодня утром в самом начале разбирательства, речь не идет о том, святотатственно ли обвиненное издание или нет? Можно ли защищать его появление или нет? Это не входит теперь в мою обязанность. и я не хочу разбираться в этом. Я даже не должен входить в разбирательство законов о святотатстве; не могу, впрочем, не высказать, что если бы мне пришлось защищаться теперь против них, я бы сказал, что это несправедливые законы, возрождение которых большое зло, потому что они принесут больше вреда тем, кто их вновь призвал к жизни, чем тем, против которых они возбуждены. Но меня судят не за то, что я сам высказывал, писал или издавал; это обвинение – попытка привлечь к ответственности за издание, с которым я не имею ничего общего, и я обращаюсь к вам с просьбой раз навсегда покончить с этим вопросом. Каждый раз, когда я выигрывал дело, против меня поднималось что-нибудь новое. Первое дело, возбужденное против меня, имело целью сделать мое избрание недействительным. Когда же я был избран вновь, мои противники думали разорить меня громадными денежными взысканиями, и когда взыскания ни к чему не привели, они затеяли теперешний процесс. Дело теперь не идет о защите моей ереси не потому, чтобы я не был готов защищать ее, если меня вызовут на это законным порядком и если в ней окажется что-нибудь, подлежащее преследованию законов. Я никогда не отказывался от данного мною однажды слова, от того, что я писал или совершал когда либо. Поэтому я прошу вас не дозволять, чтобы этот сэр Генри Тейлер, который не осмелился даже сам явиться на суд, видел в вас нож, которым можно убить из-за угла человека, пред которым он не осмелится стать лицом к лицу».
Заключение лорда Кольриджа было великолепно по языку, мысли и теплоте тона. Нельзя себе представить ничего более трогательного, чем конфликт между истинным религиозным чувством, ненавидящим ересь, и решимостью быть справедливым, несмотря на все предубеждения; он делал все усилия, чтобы его христианские предубеждения не передались также присяжным и не побудили их поступиться справедливостью. Он убеждал их делать то, чего требует справедливость, и не поступать с неверующим так, как они не действовали бы против обыкновенных подсудимых. Затем он говорил против преследований за убеждения, признал, что в священном писании существует много необъяснимого и высказал опасение, что священные истины, если во имя их возбуждается преследование, могут оказаться орудием насилия, что идет совершенно в разрез с евангельским духом. По ясности и нравственной высоте, эта красноречивая речь, произнесенная мелодичным голосом, была бесподобна, и лорд Кольридж показал на деле, что истинно христианский судья должен руководствоваться справедливостью по отношению к противникам своей религии.
Ожидание приговора привело всех в напряженное состояние, и когда, наконец, раздались слова «не виновен», их встретили громом рукоплесканий, строго, но справедливо остановленных судьей. Вся Англия с сочувствием отнеслась к приговору и осудила обвинение, как возмутительную попытку политических врагов м-ра Брэдло помешать его политической карьере. Так, «Pall-Mall Gazette» писала:
«Каковы бы ни были личные или политические протесты, возбуждаемые действиями м-ра Брэдло, даже его самые непримиримые враги не могут отрицать блеска целого ряда побед, одержанных им в суде. Его оправдание в деле о святотатстве, в субботу, было последним столкновением, в котором ему удалось самым решительным образом сразить своих врагов. Эта систематическая травля м-ра Брэдло, продолжающаяся уже столько времени, заключает в себе столько мелочности и пошлости, что следует заставить зачинщиков пострадать за нее. Мудрые и значительные слова, сказанные верховным судьей в заключительной речи, следует запомнить навсегда. «Следует карать тех людей», – говорил он, – «которые извращают закон даже с лучшими намерениями и, по словам апостола, творят зло, чтобы оно повело к добру, достойному осуждения». «Не придерживаясь строгости апостола, мы можем только сказать, что зачинщики подобных преследований должны быть присуждены к денежным взысканиям»».
В отдельном от м-ра Брэдло процессе гг. Фута и Рамсэя, м-р Фут сам защищал себя в очень талантливой речи, которую судья назвал в высшей степени замечательной. Лорд Кольридж обратился с внушением к присяжным, говоря им, что преследование несимпатичных большинству убеждений крайне несправедливо, и что никакое преследование, не доходящее до полного искоренения, не имеет значения; он упомянул также в саркастическом тоне о том, как легко достается следование добродетели преследователям. «В большинстве случаев, – сказал он, – преследование, если только оно не является более решительным, чем это возможно в Англии XIX в., должно быть бесполезным. Верно также то, что это очень легкая форма добродетели. Гораздо труднее спокойно и беспритязательно следовать в жизни тому, что мы считаем заветом Божиим. Это труднее исполняется и не производит сенсации в глазах света. Гораздо легче обратить свое усердие против кого-нибудь, отличного от нас, и под видом заботливости о славе Бога, нападать на человека, имеющего другие убеждения, но жизнь которого, быть может, более приятна Богу. И если нападения совершаются людьми, жизнь которых далеко не безупречна, и набожность которых заключается исключительно в возбуждении процессов против других, то это, несомненно, возбуждает большее сочувствие к обвиняемому, нежели к обвинителю. Еще хуже, если такого рода люди действуют не из убеждения, что Бог нуждается в их вмешательстве, и если к мотивам их поведения примешиваются партийные или политические чувства, совершенно чуждые всему, что есть высокого и благородного в человеческой природе; всякий, кто поступает таким образом не ради чести имени Божьего, а ради интересов партийных, кажется мне заслуживающим глубокого презрения».
В конце-концов, результатом процесса было значительное увеличение числа членов «национального общества свободомыслящих», широкое распространение наших изданий, популярность и влиятельное положение в обществе м-ра Фута и то, что он оказался мучеником за свободу слова. Его нарушение требований хорошего тона забудется, стойкость его убеждений останется навсегда в памяти. История не спрашивает, говорил ли что либо безтактное человек, пострадавший за свои еретические убеждения, она спрашивает, был ли он тверд в борьбе и верен познанной им истине? Наказание, которому подвергнут был м-р Фут по приговору суда, было очень тяжким: двадцать два часа в сутки он проводил в одиночном заключении, в его камере был один только стул без спинки, а для спанья – доска с тоненьким тюфяком, занятием его было плетение соломы, и только в последние месяцы заключения ему дозволено было читать…
Конец 1883 года прошел среди обычного тяжелого труда. Биль об уничтожении обязательной присяги был отменен, а агитация, возбужденная м-ром Брэдло, все разрасталась, либеральная пресса склонилась на его сторону. В Амстердаме состоялся вскоре международный конгресс, собравший в голландской столице многих из наших единомышленников. Для меня лично год этот представлял большой интерес, так как я познакомилась тогда впервые с рабочим движением. Я вникала мало до тех пор в экономические основания социалистического учения. Я не была знакома с социалистическим учением, так как изучала только в молодости английских экономистов старой школы. В начале февраля мне в первый раз попалась в руки газета, называемая «Justice», в которой были нападки на м-ра Брэдло.
Весна ознаменовалась двумя событиями – м-р Брэдло опять лишился депутатского места, вследствие возобновленного постановления палаты об его удалении, и с торжеством вернулся в палату, избранный в четвертый раз 4032 голосами, т. е. значительно возросшим с последних выборов числом избирателей. Другим событием было освобождение м-ра Фута из голлоуэзской тюрьмы и его триумфальное возвращение домой, устроенное друзьями. 12-го марта ему и его товарищам устроен был торжественный прием в научном клубе и передано было много подношений от друзей и сочувствующих.
17-го апреля в St. James's Hall, в Лондоне, между м-ром Брэдло и м-ром Гейдманом произошел публичный диспут, побудивший меня серьезно заняться этими вопросами.
В это время также я познакомилась с Джоржем Бернардом Шо, большим оригиналом в жизни. Он был гениален в своем искусстве выводить из себя энтузиастов партий и имел особую страсть выдавать себя за негодяя. При моей первой встрече с ним на лекции в South Place Institute он отрекомендовал себя «праздношатающимся», и я отозвалась о нем довольно резко в «Reformer», потому что праздношатающиеся были мне ненавистны, и вдруг я узнаю, что Бернард Шо очень беден, потому что его убеждения заставили его предпочитать материальную нужду духовному порабощению; назвал же он себя праздношатающимся только потому, что ему безразлично было какого о нем будут мнения. Конечно, я извинилась пред ним за свое строгое суждение, но почувствовала внутреннюю досаду за то, что он провел меня. Тем временем я все более отдалялась от политики и отдавалась все более народному делу. В июне я очутилась в числе протестующих против билля сэра Джона Леббока, который устанавливал норму в 12 часов – в день для труда малолетних рабочих. «12-ти часовой рабочий день – сущее варварство», писала я. «Если закон признает возможность 12 часовой работы, жизнь сделает это общим правилом По-моему, законным количеством рабочих часов «должно быть восемь часов в пять дней недели и не более пяти часов на шестой. Если работа изнурительного свойства, этот срок слишком большой». Новая окраска моего образа мыслей обнаружилась, когда я стала требовать, чтобы в народных школах детям давали есть, потому что иначе они падают под двойным бременем – обучения и голода.
В январе 1885 г. появились первые нападки на мои воззрения; они исходили от м-ра В. П. Баля, пославшего в «Reformer» возражение на высказанную мною мысль о снабжении пищей детей городских школ. Возникла небольшая полемика, в которой я отстаивала свой взгляд, уклоняясь от вопроса – социалистка ли я по своим убеждениям. Я не решалась примкнуть открыто к социалистической партии из-за её враждебного отношения к м-ру Брэдло. На его сильный, настойчивый характер, окрепший в резко выраженном индивидуализме, доводы молодого поколения не имели влияния. Он не мог изменить своих воззрений из-за того, что народилось новое понимание жизненных задач, и он не видел до чего отличен социализм наших дней от прежних социалистических мечтаний о неосуществимом идеале лучшего строя общества. Могла ли я решаться на поступок, который должен был привести к столкновению с самым дорогим другом, ослабить глубокую дружбу, так давно установившуюся между нами? Вся моя душа, благодарность, которую я чувствовала к м-ру Брэдло – все восставало против мысли о союзе с теми, которые так несправедливо поступали относительно него.
Общие выборы произошли осенью того же года, и Нордгэмптон в пятый раз избрал м-ра Брэдло, полагая этим конец долгой борьбе, потому что м-р Брэдло принес присягу, заняв свое место при возобновлении заседании в январе; тотчас же затем он внес в палату предложение «билля о присяге», который давал бы право каждому заменить присягу заверением истины своих слов. М-р Брэдло был избран большим количеством голосов, чем когда либо прежде – 4,315 голосов было за него; он вступил в парламент с ореолом своей громкой борьбы и сделался таким образом сразу одним из передовых деятелей, сила и значение которого были признаны всеми в палате. Произошла попытка вновь возбудить протест против его избрания, но председатель палаты, м-р Пиль, сразу разрушил ее. Сэр Мейкэль, Гикс Бич, м-р Сесиль Райкс и сэр Джон Геновэй обратились письменно к председателю, прося его принять участие в проектируемом протесте, но м-р Пиль ответил, что он не имеет ни власти, ни права не допустить к присяге законно избранного члена палаты. Этим закончилась шестилетняя парламентская борьба, из которой победитель вышел с расшатанным здоровьем и с окончательно расстроенными материальными средствами; следствием пережитых волнений была его ранняя смерть. Он достаточно долго жил, чтобы оправдать свое избрание, чтобы доказать свое значение парламенту и всей Англии, но умер слишком рано, не успев сделать для своей родины всего того, на что его делали способным его долгая подготовка, большие знания, отважность и высокая честность.
Я подверглась сильным нападкам за свою пропаганду со стороны радикальных членов партии свободомыслящих и, пересматривая теперь направленные против меня в то время статьи, я вижу, про меня говорили, что во мне «столько же твердости, как в кувшине с молоком». Тот же любезный критик говорил, что, по дошедшим до него слухам, «м-сс Безант, как большинство женщин, заимствует свои экономические идеи от знакомых мужчин, занимающихся этими вопросами». Я имела глупость оправдываться перед подобным противником, не убедившись еще что самозащита прямая потеря времени, которое могло бы быть употреблено с гораздо большей пользой на служение другим людям. Я бы, конечно, не стала теперь тратить времени на то, чтобы написать следующее: «С той минуты, как критик начинает пользоваться тем, что автор – женщина и этим опровергать высказываемые ею мысли, серьезный читатель понимает, что у критика нет более серьезных возражений. Положительно, все эти глупые нападки на женскую неспособность к самостоятельному мышлению и деятельности утратили свою силу и на них можно только ответить насмешкой над бесконечным «мужским самодовольством» критика. Могу прибавить, что подобные стрелы особенно недействительны против меня. Эти слова были излишни, как всякая самозащита, и вызывали, как всякое возражение, продолжение полемики. Но еще не пришла пора самообладания, знающего истинную цену суждений других людей, безразличного к похвале и к хуле; я еще не знала, что не нужно отвечать злом на зло, гневом на гнев; я еще не видела нравственного закона в словах Будды: «ненависть нельзя победить ненавистью; она побеждается только любовью».
По мере того как с наступлением зимних месяцев страдания населения увеличивались, митинги лишенных заработка становились все многочисленнее.
Начался 1887 год. Социалисты употребляли всю свою энергию на организацию помощи лишенным заработка; они побуждали разные общественные учреждения доставать заработок уволенным рабочим, вносили в муниципальные советы предложения о том, как утилизировать продуктивные силы незанятых рабочих, выискивая разные средства помочь бедственному их положению. Мне пришлось испробовать свою энергию в четырехдневном диспуте с м-ром Футом и в письменной полемике с м-ром Брэдло. Напечатанные отдельными брошюрами отчеты о диспуте и о полемике с м-ром Брэдло, разошлись в очень большом количестве. Серия дневных диспутов между ораторами различных партий организована была вскоре в South Place Institute и между мной и Корри Грантом произошел оживленный спор, в котором я доказывала, «что существование классов населения, живущих на незаработанные средства, губительно для общества и должно было бы быть прекращено законодательным порядком». Другой диспут произошел письменно в «National Reformer» между пастором Гэндель Роу и мной по вопросу: «имеет ли атеизм логические основания и возможно ли существование атеистической системы, которая бы руководила нравственной стороной человеческой жизни». С наступающей осенью нищета становилась все грознее, так что в сентябре я писала: «несомненно только одно – общество должно заняться рабочими, лишенными возможности заработка. Некоторое развлечение от дел доставлял нам устроившийся в то время чэринг-кроский парламент, в котором мы с большим рвением обсуждали «злобы дня». Организована была дружная партия, которая победила либеральное правительство, забрала в руки бразды правления и после тронной речи, в которой королева обращалась к палате с неслыханной до того (и после того) простотой и искренностью – мы внесли в парламент несколько биллей истинно героического характера. Бернард Шо, в качестве председателя городского управления, и я, в качестве министра внутренних дел, резко критиковали резкие меры правительства.
Следующий из моих письменных диспутов произошел в октябре на тему «о христианском учении», и это была пятая из серий моих чтений и диспутов в эту зиму. В том же месяце произошла тяжелая для меня, но необходимая перемена: я отказалась от очень ценного для меня положения соредактора «National Reformer», и номер от 23-го октября появился только за подписью Чарльза Брэдло. Эта перемена не имела влияния на мою работу в газете, но я из члена редакции сделалась только сотрудницей. Причины этого шага яснее всего изложены были мною печатно: «В течение последнего времени», писала я, «до меня стало доходить все более и более жалоб с разных сторон, сбивающих с пути различные мнения членов редакции по вопросу о социализме. Несколько месяцев тому назад я предложила устранить это осложнение, отказавшись от соредакторства; но мой товарищ по изданию, с свойственным ему великодушием, попросил меня не делать этого и посмотреть, нельзя ли вести дело по-прежнему. Но трудность, вместо того чтобы исчезнуть, все увеличивалась, и какой-нибудь исход становился неизбежным; мы оба чувствовали, что читатели в праве требовать разрешения неопределенного положения газеты. Раскол с м-р Брэдло по рабочему вопросу совершился по моей вине, а не по его, и поэтому я должна выйти из состава редакции. Во всех других вопросах нашей обширной программы мы сходимся и, вероятно, будем всегда продолжать смотреть одинаково. Перехожу по этому на прежнее положение сотрудника, снимая таким образом с «National Reformer» всякую ответственность за мои взгляды».
К этому м-р Брэдло прибавил следующее:
«Я считаю почти лишним прибавить к сказанному выше, как глубоко я сожалею о необходимости для м-сс Безант отказаться от совместного со мной ведения журнала, и как искренно я скорблю об её отказе от положения, в котором она оказала так много услуг делу свободомыслия и радикализма. Я надеюсь, что «National Reformer» не утратит в ней постоянную сотрудницу, содействие которой крайне драгоценно. В течение 13-ти лет эта газета обязана была значительной частью своих достоинств её неутомимому плодотворному труду. Я согласен с ней, что издание должно иметь определенное направление, и я считаю эту определенность тем более необходимой, что каждому сотруднику газеты предоставляется полная свобода пера. Я понимаю и выражаю глубокое уважение пред героическим самоотвержением, внушившим м-сс Безант строки, к которым я прибавляю эти несколько слов. Чарльз Брэдло.
Бесконечно тяжело было мне порвать связь, за которую я так дорого заплатила тринадцать лет тому назад; но справедливость требовала этого шага. Если приходится принять решение, сопряженное с нравственными страданиями, то долг чести требует, чтобы по возможности брать трудности и страдания на себя, нельзя возлагать жертвы на других или платить выкуп за себя чужими деньгами. Долг чести необходимо должен быть законом для человека с стремлениями к идеалу, и нарушение верности этому стремлению есть единственная истинная измена в жизни.
У меня была еще одна причина, побуждавшая меня отделиться от м-ра Брэло, но я не решалась назвать ее ему, потому что, с свойственной ему щепетильностью в вопросах чести, он бы упрямо отказался допустить мой выход из состава редакции. Я видела перемену, произошедшую в общественном мнении, видела, как постепенно склонялись на его сторону либералы, державшиеся прежде вдали от него; я знала, что на меня они смотрели крайне недружелюбно, и что, если бы мое участие в его действиях было бы менее заметным, ему было бы гораздо легче следовать своему пути. В виду этого, я старалась все более уходить на второй план и не сопровождала более м-ра Брэдло на митинги. Я уже не могла быть ему полезной в его общественной деятельности, напротив мое сообщничество приносило ему вред. Пока он был отверженным и окружен всеобщей ненавистью, я с гордостью стояла за него; но когда его стали окружать друзья, которые всегда являются вместе с успехом, я могла быть наиболее полезной ему, отстранив себя от его дела. Но всю литературную совместную работу я продолжала по-прежнему, и теоретические разногласия не нарушили его доброго отношения ко мне, хотя, после последовавшего вскоре присоединения моего к теософическому обществу, он потерял веру в здравость моих суждений.
В течение того же октября рабочими, лишившимися заработка, стали устраиваться процессии по городу и вследствие излишней строгости полиции дело дошло до нескольких столкновений. Сэр Чарльз Баррен считал своим долгом разгонять лондонские митинги вооруженной силой, подобно тому как это делается префектами континентальных городов, и неизбежным результатом его образа действий было возникновение враждебного чувства между народной массой и полицией.
Наконец, мы сформировали оборонительную лигу для помощи бедным рабочим, которых привлекали к суду и осуждали только на основании показаний полиции; сами же они не имели никакой возможности обратиться к законным средствам защиты. Я организовала для подобных случаев общество состоятельных людей, которые обещали являться каждый раз, когда их вызовут по телеграмме, будь то днем или вечером, и, внеся залог, брать на поруки всякого из рабочих, арестованных за пользование всегда существовавшим правом устраивать процессии и говорить на митингах. Беру один пример: арестованы были м-р Берлей, известный военный корреспондент, и м-р Винкс, обвиняемые в подстрекательстве народа к мятежу; вместе с ними взят был и рабочий Найт. Я пошла в полицейский комиссариат и предложила залог за Найта. Начальник полиции Гоуард согласился взять залог за Берлея и Винкса, но не за Найта. На следующий день, в полицейском управлении потребовали за Найта неправдоподобно большой залог в 400 ф. ст. Эта сумма доставлена была моими верными союзниками, и в следующем заседании прокурор м-р Паленд отказался от обвинения в виду отсутствия достаточных показаний. Вскоре запрещено было устройство митингов на Трафальгер-сквере и приняты были неожиданно крутые меры.
Мне приятно вспомнить при этом случае, с каким сочувствием м-р Брэдло отнесся к нашей тяжелой борьбе с полицией, и следующая выписка из его газеты показывает, с каким великодушием он умел признавать заслуги тех, которые шли по иному пути, чем он: «Так как я недавно выказал очень существенное разногласие», писал он, «с моей смелой и преданной делу союзницей, и так как это разногласие сделалось еще более заметным вследствие её выхода из состава редакции, то я чувствую тем большую потребность выразить ей мое сочувствие в настоящую минуту. Я бесконечно благодарен ей не только за организацию защиты жертвам полиции, но и за её ежедневные посещения полицейских участков и тюрем, где она значительно повлияла на улучшение обращения с заключенными с одной стороны и на успокоение раздражения с другой. Я не могу сказать, что считаю подобное занятие подходящим для женщины делом, особенно, среди лондонской зимы, но должен выразить свое мнение, что действовала она великолепно и принесла громадную пользу. Я особенно настаиваю на этом именно потому, что взгляды м-сс Безант и мои еще более разошлись, чем я это считал возможным, в принципиальных вопросах, составляющих основу борьбы, которая становится все более и более серьезной». Чарльз Брэдло всегда обнаруживал подобную широту взглядов и готовность признавать достоинства даже в людях, идущих против его принципов.
Негодование толпы возрастало; полицию старались бойкотировать, при чем тактичное и сдержанное поведение толпы не давало никакого повода прибегать к насильственным мерам. Наконец, положение полиции сделалось невыносимым и торийское правительство почувствовало недружелюбность лондонского населения; сэр Чарльз Баррен был тогда смешон и его заменило более распорядительное лицо.
Глава XIII
Чрез шторм к миру
Среди всех этих треволнений и душевной борьбы окрепло братство, в котором таился завет лучших дней. М-р Стэд и я сделались близкими друзьями; он и я проникнуты были общею любовью к человеку и общей ненавистью к притеснителям. Я писала по этому поводу в «Our Corner» за февраль 1888 г. следующее:
«В последнее время у людей, очень различных по своим теологических взглядам, возникла мысль об образовании нового братства, в котором никто не считался бы чужим, кто не отказывается работать в пользу человечества. Неужели достижение подобного идеала только мечта энтузиаста? Но ведь мы видели, как люди, так сильно расходящиеся между собой в вопросах религиозных, дружно работали в течение целых трех месяцев над тем, чтобы помочь жертвам насилия и поднять в них дух. Общая цель заставила всех нас согласно работать, и разве это не доказывает, что существует связь, которая сильнее антагонизма, и объединяющая идея, которая глубже разъединяющих теорий».
Как бессознательно приближалась я к теософии, которая должна была увенчать мою жизнь в моем слепом искании братского союза. Братство это было уже создано «старшими братьями» нашей расы, и к их ногам мне суждено было броситься в скором времени. Как глубоко было во мне стремление к чему-нибудь более высокому, чем все виденное до того, как сильно было мое убеждение, что есть нечто великое, к которому приводит служение людям, это видно из другого места в той же статье:
«Многие думали, что в наши дни фабрик и железных дорог, фальсификаций и подделок, жизнь может идти только ровным, будничным шагом и что сияние идеала уже не может озарить серого горизонта современной жизни. Но много симптомов показывают, что в человеческих сердцах пробуждается героизм старинных веков. Страстная жажда справедливости и свободы, волновавшая душу великих людей прошлого, находит в нас живой отклик и по-прежнему волнует сердца людей. Все еще жива вечная притягательная сила св. Граля, но ищущие не поднимают более глаз к небу, не ищут по морям и в далеких странах, потому что они знают, что удовлетворение божественного стремления лежит в страдании, окружающем их со всех сторон, что святыня таится в муках страдающих, доведенных до отчаяния бедняков. Если правда, что бывает вера, сдвигающая горы невежества и зла, то это вера в конечное торжество истины и справедливости; она только одна придает цену и смысл жизни и освещает самые мрачные тучи отчаяния светлой радугой бессмертной надежды».
Как шаг к началу объединения людей, готовых работать на пользу человечества, м-р Стэд и я основали недельную газетку в полпенса, «The Link». Направление её ясно из следующего эпиграфа, взятого из Виктора Гюго: «Народ застыл в молчании. Я буду толкователем этого молчания. Я буду говорить за немых. Я буду говорить великим людям о маленьких, сильным – о слабых… Я буду говорить за всех, кто полон отчаяния и молчит. Я объясню их глухой ропот, их вздохи, объясню внезапные волнения толпы, смутно выраженные жалобы и все зверские крики, которые издает человек в своем невежестве и среди мук… Я буду глашатаем народа, я все скажу».