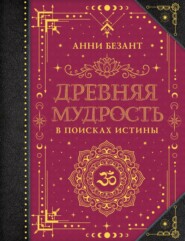По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Исповедь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В течение этих тяжелых месяцев нравственных страданий я находила некоторое облегчение от умственного напряжения в обычных заботах о бедняках нашей паствы, ухаживала за больными, старалась внести светлый луч в дома бедных. Я научилась в то время многому относительно землепашцев и условий сельского труда и это мне очень пригодилось впоследствии, когда я начала говорить с трибуны. В сельских околотках начинали тогда много говорить о земледельческом движении, во главе которого стал энергичный и преданный своему делу Иосиф Арч; мои симпатии были всецело на стороне землепашцев, потому что я была хорошо знакома с условиями их жизни. В одном коттедже я застала четыре поколения спящими в одной комнате – прадеда с своей женой, старую бабушку, овдовевшую мать и ребенка; трое жильцов дополняли зрелище восьмерых человеческих существ, скученных в узкой, душной лачуге. Другие котэджи были сараями, через разбитые кровли которых лил дождь и в которых ревматизм и лихорадки были постоянными сожителями человеческих существ. Знакомая с этим положением сельского населения, я могла только сочувствовать всякой организации, стремящейся облегчить участь бедняков. Но «союз сельских рабочих» встретил упорных врагов в фермерах, которые ни за что не соглашались давать работы членам союза. Следующий пример ярко характеризует положение дел. Один молодой семьянин, имеющий двух малолетних детей, имел неосторожность совершить грех, отправившись на собрание союза, и, что оказалось еще большим преступлением, рассказал об этом, вернувшись домой. Ни один фермер во всем околотке не хотел давать ему работы. Он понапрасну исходил все места по близости, нигде не мог сыскать работы и совершенно сбился с пути и стал пьянствовать. Придя к нему в коттедж, состоявший из одной комнаты и прилегающего чулана, я застала жену его в пароксизме лихорадки, одного ребенка больным у неё на руках, а второго мертвым на кровати. В ответ на мои нерешительные расспросы, она отвечала, что они в самом деле остались без хлеба, потому что мужу не дают работы. Почему же она оставила мертвого ребенка на кровати? Потому что некуда было положить его прежде чем принесут гроб. И к ночи несчастный, доведенный до пьянства рабочий, его жена не перестававшая томиться в лихорадке, больной ребенок и мертвый ребенок, все они улеглись на единственной кровати. Фермеры враждебно относились к союзу, потому что с успехом его связано было повышение заработной платы; им никогда не приходило в голову, что гораздо благоразумнее было бы платить меньшую арендную плату отсутствующему землевладельцу и высшее жалованье рабочим, обрабатывающим их пашни. Они покорно подчинялись гнетущему их бремени и с жестокостью относились к сеятелям их жатв, к строителям их амбаров. Они вступали в соглашение с врагами, а не с друзьями. Вместо того, чтобы примкнуть к земледельческому классу и образовать общий союз представителей сельского труда, они соединились с помещиками против крестьян; это привело к разорительной братоубийственной борьбе вместо легкой победы над общим врагом. Проникновение в истинное положение дел принесло мне большую пользу.
Ранней осенью луч света озарил мрак моей души. Я была в Лондоне с моей матерью и мы вошли раз, в воскресенье утром в St. George's Hall, где в это время произносил проповедь пастор Чарльс Войсэй. Слушая проповедь и взявши в руки некоторые из брошюр, продававшихся в зале, я с радостью убедилась, что были еще другие люди, переживавшие такие же страдания как и я, и отказавшиеся от догматов. Я опять пошла туда в следующее воскресенье, и когда служба кончилась, заметила, что выходящая масса молившихся проходила мимо м-ра и м-сс Войсэй, и что при этом многие, очевидно, совершенно не знакомые с ними, подходили к ним со словами благодарности. Я почувствовала горячую потребность после стольких месяцев одинокой борьбы поговорить с кем-нибудь, вышедшим из затруднений англиканского учения. Проходя мимо м-ра Войсэя, я остановилась и сказала ему: «я должна поблагодарить вас за то облегчение, которое принесла мне ваша сегодняшняя проповедь». В самом деле, так как я не сомневалась в существовании Божьем, то слова м-ра Войсэя о том, что «Он любит всех людей и Его благость простирается над всеми Его созданиями», как луч света озарил бурную пучину сомнений и отчаяния, среди которой я так долго уже мучилась. В следующее воскресенье я опять пришла слушать проповедь и получила приглашение от м-сс Войсэй посетить их в Дуличе. Их теизм казался мне свободным от недостатков, которые я находила в англиканском учении, и они открыли мне новый путь в вопросах веры. Я прочла книгу Т. Паркера «Рассуждение о религии», сочинение Франциска Ньюмана, мисс Ф. П. Коббэ и др.; напряженность моего нравственного состояния прошла, кошмар всесильного зла рассеялся; моя вера в Бога, еще нетронутая, очистилась от темных пятен, грязнивших ее, и я не сомневалась более в справедливости сомнений, смущавших мою душу.
До сих пор нравственное страдание было единственной ценой моих исканий истины; но отрешение от англиканской церкви прибавило бы внешнюю борьбу к внутренней, и кто знает, как это отозвалось бы на всей моей жизни? Колебание было тяжким, но коротким: я стала тщательно разбирать учение англиканской церкви и это привело к полной утрате веры. Я окончательно отошла от учения англиканской церкви и очутилась лицом к лицу с смутным будущим, в котором предчувствовала наступающую борьбу.
Чтобы избегнуть её, я сделала еще одну попытку; я обратилась к д-ру Пусэю, полагая, что если он не сумеет разрешить моих сомнений, то нечего и надеяться на разумный ответ на них. Я обменялась с ним несколькими письмами, но получила от него лишь указания на хорошо известные мне доводы Лиддона в его «Бамптонских лекциях». Наконец, по его приглашению, я поехала в Оксфорд для личной, беседы. Я увидела перед собой полного господина низкого роста, одетого в рясу и имеющего вид благодушного монаха; но его проницательные глаза, прямо и испытующе глядевшие в мои, свидетельствовали о силе и изворотливости ума в этой красивой, внушительной голове. Но ученый богослов пошел по ложному пути в обращении со мной; увидев меня убитой горем, робкой и нервной, он стал обращаться со мной, как с кающейся грешницей, которая пришла к исповеди; он думал, что я пришла к нему, как к духовнику, и не понял, что перед ним искательница истины, которая твердо решила добиться её и обрести твердую почву для своих верований. Я спросила, не укажет ли он мне какие-нибудь книги, которые пролили бы свет на мои вопросы. «Нет, нет, вы и так уже слишком много читали. Нужно молиться, много молиться». Когда я заявила, что не могу верить, он ответил: «Блаженны те, которые не видят и все-таки верят», и мои дальнейшие вопросы он остановил словами: «о, дитя мое, как вы непокорны, как нетерпеливы!» В самом деле, я была порывиста, горяча и неудержима в своем решении все знать и не говорить, что я верю, когда веры на самом деле нет; он не нашел во мне поэтому того покорства и смирения, с которым обыкновенно приходили к нему кающиеся грешники, прося его руководить их совестью. Он не имел представления о муках сомневающейся души; сам он, очевидно, никогда не переживал душевной борьбы, его вера была тверда как скала, непреклонна и вполне удовлетворена. Сомнение в догматах своей церкви равнялось для него самоубийству.
Медленно и грустно направилась я обратно к вокзалу железной дороги, убедившись, что последняя надежда на избавление исчезла. В знаменитом богослове я увидела обычный тип священнослужителей, умеющих быть нежными и участливыми лишь к грешнику, который приходит к ним смиренным, покорным и полным раскаяния. Но по отношению к скептикам и еретикам они становятся твердыми как железо, они готовы силой, а не доказательствами, остановить всякий протест против традиционных верований своей церкви. Из таких людей выходили в средние века инквизиторы, обладавшие безупречной совестью, строгие и непреклонные и вполне безжалостные к еретикам.
В течение той же осени 1872 г. я впервые познакомилась через м-ра Войсэя с м-ром и м-сс Скотт. В то время Томас Скотт был уже стариком с прекрасными белыми волосами и глазами ястреба, выглядывающими из-под нависших бровей. Он был могучего телосложения, и хотя здоровье его уже несколько пошатнулось в то время, его дивная львиная голова сохраняла свою внушительную силу и красоту, и носила отпечаток его исключительной по своим качествам натуры. Родившись в знатной и богатой семье, он провел первую молодость в странствованиях по всему свету, а после своей женитьбы поселился в Рамсгэте, сделав свой дом центром свободомыслия в английской литературе. Жена его, которую он называл своей правой рукой, по своей молодости годилась ему в дочки. Это была сильная, кроткая, благородная женщина, достойная своего мужа, что составляет самую большую похвалу. М-р Скотт издавал в течение многих лет, ежемесячно, серию брошюр, очень различных по оттенкам миросозерцаний авторов. Все брошюры были хорошо написаны и выдержаны в сдержанном, культурном тоне; м-р Скотт не допускал никакого исключения из этого правила. Издаваемые им писатели могли говорить, что угодно, но у них должно было быть, что сказать, и они должны были излагать это хорошим, выдержанным языком. М-р Скотт вел обширнейшую корреспонденцию со всеми, начиная от главы кабинета и до самых скромных частных лиц. В доме его встречались люди самых различных взглядов. Эдуард Майтланд, Е. Ванситтарт Ниль, Чарльс Брэй, Сара Геннель и множество других; церковные сектанты и светские люди, ученые и мыслители – все охотно приходили в этот дом, открытый для всех любителей истины и сторонников распространения свободомыслия между людьми. Для Томаса Скотта я несколько месяцев спустя написала свой первый очерк, выражавший все, что я тогда думала и подписалась женой священника. Я не могла распоряжаться именем, которое принадлежало не мне, и мы условились, что все написанное мною появится анонимно.
Наступил момент возвращения в Сибсэй и вместе с тем момент решительного действия.
Случилось так, что вскоре после этого памятного мне рождества, 1872 г., в нашей деревне появилась сильная эпидемия тифа. Канализация местности была самая первобытная и зараза быстро распространялась. Я всегда чувствовала влечение к ухаживанию за больными и нашла во время этой эпидемии дело, как-раз подходящее для меня; к счастью, я оказалась способной оказывать помощь, и это доставляло мне радушный прием в домах заболевших бедняков. Матери, которые имели возможность заснуть после долгих трудов, оставляя меня у изголовья больных детей, не могли, как мне приятно думать, слишком строго осуждать потом грешницу, рука которой так же нежно и иногда более искусно, чем их собственная, ухаживала за больными. Я полагаю, что природа предназначала меня в сестры милосердия, потому что я нахожу истинное наслаждение в ухаживании за больным, особенно если есть опасность, потому что тогда является странное и торжественное чувство борьбы между человеческим искусством и великим недругом, смертью. Странным образом влечет к себе эта борьба со смертью, которая ведется шаг за шагом; это чувствуется, конечно, только когда дело идет о борьбе за какую-нибудь жизнь вообще, а не за жизнь близкого человека. Когда больной очень дорог сердцу, в борьбу входит элемент личной муки, но если борьба происходит из-за чужого, является какая-то странная отрада без примеси личного страдания, и когда удается победить упорного врага, странное удовлетворение доставляет сознание отнятой у смерти добычи, возвращенной на землю жизни, которая была так близка к погибели.
Весной 1873 г. я открыла в себе существование силы, которая должна была определить очень многое в моей дальнейшей деятельности. Я произнесла тогда свою первую речь, сделавши это, впрочем, перед рядами пустых скамеек в сибсбэйской церкви. Мною овладел странный каприз попробовать, как это люди проповедуют, и во мне зашевелилось смутное сознание, что и я бы могла говорить, если бы представился случай. Я никоим образом не могла тогда предполагать, что мне предстоит стать оратором, но я чувствовала потребность излить в словах то, что меня волновало; я сознавала, что у меня есть что сказать и что я в состоянии выразить это. Запершись в громадной, тихой церкви, в которую я ходила упражняться в игре на органе, я взошла на проповедническую трибуну и произнесла свою первую речь о вдохновенности Священного Писания. Никогда я не забуду чувства силы и восторга – особенно силы, охватившее меня, когда голос мой раздался на далеком расстоянии под церковными сводами, и кипевшая во мне страсть вылилась в размеренные звуки, не прерываясь ни на минуту из-за недостатка в музыкальности и ритмичности. Мне в ту минуту хотелось только, чтобы церковь была полна обращенных на меня лиц, озаренных сочувствием моим словам; вместо этого, надо мной были ряды скамеек, наводящих тоску своей пустотой и тишиной. И как во сне пустое пространство мне показалось наполненным людьми, я увидела перед собой в воображении внимающие лица и оживленные взоры, фразы непринужденно полились с моих уст и эхо приносило их ко мне обратно от колонн старинной церкви. Я поняла тогда, что владею даром слова и что если когда либо – тогда мне это казалось невозможным – если когда либо мне пришлось бы говорить пред публикой, этот дар музыкальной речи привлек бы слушателей, что бы я ни пришла возвещать с трибуны.
Но это сознание оставалось в течение долгих месяцев тайной для всех, потому что я вскоре почувствовала стыд за нелепую проповедь в пустой церкви; но, как бы ни был нелеп этот эксперимент, я отмечаю его здесь, как первую попытку выражать свои мысли живым словом, что превратилось впоследствии в одно из самых глубоких наслаждений в моей жизни. И в самом деле никто не может знать, кроме испытавших это, какую отраду представляет легкое и плавное течение своей собственной речи. Какое наслаждение чувствовать, как толпа слушателей отзывается на самое легкое движение, как лица просветляются и омрачаются по произволу оратора; как отрадно сознавать, что родники человеческих чувств и страстей открываются при первом слове оратора, чувствовать, что мысль, волнующая тысячи слушателей, возбуждена мною и возвращается ко мне обобщенная волнением стольких сердец. Может ли быть в жизни более высокая радость, доставляющая более страстное торжество и полная в то же время интеллектуального наслаждения?
В 1873 г. брак мой был расторгнут. Я не сделала ни одного шага дальше, но мое уклонение от присутствия в церкви при конфирмации повело к разным толкам и один родственник м-ра Безанта убедил его в угрожающей опасности для его социального положения и служебной карьеры, если станут известны взгляды его жены. Мое здоровье, не оправившееся уже никогда с 1871 г., становилось все хуже и хуже и от постоянных волнений у меня обнаружилось серьезное страдание сердца. Наконец, в июле или сентябре 1873 г. дело дошло до кризиса. Мне было предложено подчиниться внешним церковным формам и присутствовать при конфирмации. Я ответила отказом. Тогда поставлена была более определенная альтернатива – подчинение или изгнание из дому, другими словами – лицемерие или разрыв. Я предпочла последнее.
Наступило бесконечно тяжелое время. Мать моя была убита горем. Для неё, с её общими и неясными представлениями об учении англиканской церкви, моя настойчивость на том, чтобы не выказывать веры, когда её не было, казалась непонятной. Она гораздо лучше меня понимала последствия моего ухода из дому и предвидела трудности, с которыми сопряжено самостоятельное существование молодой женщины моих лет. Она знала, как жестоко суждение света и как одно то обстоятельство, что женщина молода и одинока, возбуждает клевету и злобу. Я еще не подозревала тогда, до какой жестокости могут доходить люди, как ядовиты их языки. Теперь, узнав это, испытавши клевету и примирившись с ней, я чистосердечно заявляю, что если бы опять мне предстоял выбор, я поступила бы так же как в то время. Я предпочла бы пережить сызнова все это тяжкое время, чем жить среди общества под бременем сознательной лжи.
Тяжелее всего мне было бороться против слез и просьб моей матери; причиняя ей горе, я страдала сама в десять раз больше. Суровость других возбуждала во мне твердость духа, но трудно было оставаться непреклонной, когда мать, которую я любила больше всего на свете, становилась на колени, умоляя меня уступить. Мне казалось преступным причинять ей такое горе, и я чувствовала себя убийцей, когда её седая голова прижималась к моим коленям. Но что же сделать – жить среди лжи? Такого позора и она не допускала. В этот тяжелый кризис моей борьбы, я всеми силами стремилась к истине. И теперь, как всегда, остаются верными слова, что тот кто любит отца или мать – недостоин её, и что только тернистый путь честности ведет к свету и покою.
Много горя причинял мне также вопрос о детях, двух малютках, для которых я была не только матерью, но няней и товарищем. Отняли ли их у меня? Да, но только на некоторое время. Обстоятельства, излагать которых нет надобности, дали возможность моему брату выхлопотать мне формальный развод и когда все было улажено, я назначена была опекуншей моей маленькой дочери и оказалась обладательницей маленькой месячной пенсии, достаточной для того, чтобы не умирать с голода. Свобода досталась мне дорогой ценой, но и все-таки это была желанная свобода. Я поплатилась за нее домашним очагом, общественным положением, друзьями; но, достигнув свободы, я не знала, как ею лучше всего воспользоваться. Я бы могла жить с братом, если бы отказалась от своих свободомыслящих друзей и вела бы мирную жизнь, но я ничуть не желала вновь налагать на себя оковы и по своей неопытности решила жить самостоятельным трудом. Трудность заключалась в том, чтобы подыскать работу, и я издержала много шиллингов, записываясь в разные конторы и терпя повсюду неудачу. Я попробовала взяться за вышивание, предлагаемое «дамам в стесненных обстоятельствах», и заработала около 4? шилл. за несколько недель усидчивого шитья; пыталась также обратиться к одной бирмингамской фирме, которая великодушно предлагала каждому увеличивать свои доходы при её посредстве; я послала требуемую небольшую плату и получила небольшой пенал при письме, в котором мне поручалось распространять между своими знакомыми безделушки подобного рода, от пеналов до столовых судков включительно. Я не чувствовала себя способной навязывать знакомым пеналы и судки и не вошла в предлагаемую сделку; подобные же неудачи в многочисленных других попытках дали мне почувствовать, как трудно пробить себе дорогу в жизни. Но все это не поколебало во мне решения устроиться самостоятельно вместе с моей маленькой девочкой и с моей матерью, Я наняла маленький домик на College Road в Норвуде, недалеко от Скоттов, которые были со мной в высшей степени любезны. Переезд туда назначен был на следующую весну и до того я приняла приглашение в Фолькстон, где у меня была бабушка и две тетки, и стала приискивать там занятий. Занятия вскоре нашлись. Местный священник нуждался в гувернантке и одна из моих теток рекомендовала ему меня: я поселилась у него с моей маленькой Мабель, при чем квартира и содержание нас обеих были единственной платой за мой труд. Я сделалась гувернанткой, нянькой, экономкой и кухаркой, и все-таки рада была, что нашла хоть какую-нибудь работу, которая помогала мне не растрачивать моего маленького дохода. Не думаю, однако, что когда либо я изберу поваренное искусство своей профессией; я ничего не имею против приготовления разных сложных соусов и печения пирогов, но следствием возни с кастрюлями и сковородами являются постоянные обжоги на руках. Приготовление какого-нибудь нового соуса полно особой прелести для неопытной кухарки, с любопытством ожидающей, каков может быть результат её стараний и может ли какой-нибудь запах, кроме запаха лука, сохраниться в получаемой смеси. В общем моя стряпня (конечно, по поваренной книге) была удачной, но я не могла справляться с уборкой дома – на это у меня не хватало физической силы. Этот любопытный инцидент моей жизни оборвался очень скоро, потому что одна из моих учениц заболела дифтеритом и из кухарки я превратилась в сиделку. Мабель я отослала к моей матери, которая обожала ее и пользовалась в награду своей любви снисходительной взаимностью трехлетней баловницы; трудно себе представить более пленительную картину, чем вид золотистых кудрей, выделявшихся на фоне белых волос, когда девочка прижималась к бабушке; детская грация Мабель составляла истинно художественный контраст с особой статностью, которую сохраняла в старости моя мать. Едва только у моей маленькой пациентки опасность миновала, как самый младший мальчик заболел скарлатиной. Мы решили изолировать его в верхнем этаже дома; там я очистила комнату от ковров и занавесей, завесила двери простынями, пропитанными дезинфекционной жидкостью, и заперлась с больным ребенком; кушанье мне оставляли на ступенях лестницы и я отрезала себя от всяких сношений с домашними. Когда же опасность миновала, я вернула отцу порученного мне пациента, радуясь, что болезнь не распространилась ни на кого другого в доме.
Наступила весна 1874 г. и через несколько недель мы с матерью должны были зажить по семейному в своем новом домике. Мы строили всевозможные планы, и загадывая о том, как должна сложиться новая жизнь, погружались в воспоминания о прежних годах, проведенных вместе. Мы обсуждали воспитание Мабель и то, какое участие в нем будет принимать каждая из нас. Какими все это оказались напрасными, несбыточными мечтами! Моя мать уехала в Лондон и через две недели я получила телеграмму, что она опасно больна; ближайший курьерский поезд примчал меня к ней. Доктор объявил её состояние безнадежным и сказал, что она проживет не более трех дней. Я передала ей приговор доктора, но она заявила решительным тоном: «я чувствую, что не умру еще теперь», и это оказалось верным. У неё наступил припадок страшной прострации – биение сердца почти совсем прекратилось; это был настоящий поединок со смертью, но грозная тень отступила. Я ухаживала за матерью дни и ночи с отчаянием в душе – судьба коснулась теперь самого дорогого для меня существа; я силой любви не давала ей умирать и обоюдными усилиями мы долго боролись против врага. Наконец, наступила водянка и роковой исход неумолимо приближался. Тогда, после восемнадцати месяцев уклонения от церковных обрядов, я в последний раз причастилась. Мать моя чувствовала сильную потребность приобщиться перед смертью, но упрямо отказалась сделать это, если и я не причащусь вместе с нею. «Если причастие необходимо для спасения души», настойчиво говорила она, «то я не хочу спастись, зная, что для Анни спасение невозможно. Я предпочитаю погибнуть вместе с ней, чем быть спасенной без нее». Я отправилась к одному знакомому пастору и изложила ему положение дела; как и следовало ожидать, он отказал мне в причастии. Я обратилась к другому и результат был тот же. Тогда мне пришла в голову мысль о настоятеле Вестминстерского аббатства, Стенли, любимце моей матери и человеке, известном как самый либеральный человек среди англиканского духовенства. Что, если я обращусь к нему? Я не была знакома с ним и чувствовала, что моя просьба может показаться дерзкой; но была возможность, хотя и весьма слабая, надеяться на успех, и на что бы я ни решилась тогда, чтобы облегчить последние дни умирающей матери? Не посоветовавшись ни с кем из окружающих, я отправилась в аббатство, робко спросила как пройти к настоятелю и с замирающим сердцем отправилась вслед за человеком, который указывал мне дорогу. На минуту я осталась в библиотеке, затем вошел настоятель. Я никогда с тех пор не чувствовала такой неловкости, как во время минутной паузы, когда он стоял, ожидая, чтобы я заговорила и устремляя на меня вопрошающий взгляд своих светлых, спокойных и проницательных глаз.
Очень робко и, вероятно, очень нескладно изложила я ему свою просьбу, заявляя, с резкой искренностью, что мать моя умирает и хочет приобщиться пред смертью, требуя и от меня этого же. Я рассказала ему, что два пастора отказали мне в разрешении участвовать в церковном обряде, что я обращаюсь к нему доведенная до отчаяния, чувствуя, как велика моя дерзость, но помня только одно, – что мать моя умирает.
Лицо его приняло выражение большей мягкости. «Вы хорошо сделали, что пришли ко мне», сказал он своим тихим, музыкальным голосом, при чем его пристальный взгляд сделался удивительно нежным, хотя и не менее прямым. «Конечно, я отправляюсь к вашей матери и если вы не откажетесь поговорить со мной о своем душевном состоянии, я, быть может, смогу найти способ исполнить желание вашей матери».
Я едва сумела выразить свою благодарность, до того меня тронуло его участливое отношение; после тревоги и боязни отказа реакция была до того сильна, что причиняла страдание. Настоятель Стенли сделал более нежели я просила. Он сам вызвался навестить мою мать в тот же день, поговорить с ней и только на следующий день прийти приобщать ее.
Он исполнил обещание и приехал в тот же день в Бромптон, поговорил с матерью полчаса и потом принялся толковать со мной.
На следующий день мать моя приобщалась Св. Тайн. Мне пришлось вынести большую борьбу с самой собой, прежде чем я обратилась с такой большой просьбой к незнакомому человеку; но теперь я была вполне вознаграждена, видя как улеглось душевное страдание моей матери под влиянием светлой, гуманной личности Стенли. С бесконечным тактом он успокоил её тревогу обо мне, уговаривая ее не опасаться различия убеждений в тех случаях, когда душа стремится к истине. «Помните», – говорил он ей, как она мне передавала, – «помните, что наш Бог – Бог истины и что поэтому никакое искание правды не может возбуждать в нем гнева».
После этого он еще раз был у нас, и после разговора с матерью у нас с ним завязалась опять длинная беседа. Я решилась спросить его, когда разговор принял подходящее направление, как это он, с своими широкими взглядами, находил возможным оставаться членом англиканского духовенства. «Мне кажется», – мягко возразил он, – «что я приношу большую пользу истинной религии, оставаясь в церкви и стремясь к расширению её границ извнутри, чем если бы я оставил ее и работал извне». И он стал объяснять, как он независим в положении настоятеля Вестминстерского аббатства и как поэтому он может придать аббатству большее национальное значение, чем это было бы возможно в иных обстоятельствах. Во всем, что он говорил, видна была его любовь к великому национальному памятнику, и легко было понять, что исторические воспоминания, любовь к музыке, живописи и стройной архитектуре аббатства были тем, что связывало его с «старинной национальной церковью Англии». Он связан был с церковью не умом, а чувством, и с чуткостью культурного ученого боялся того, что старинные памятники могут очутиться в руках, чуждых искусству.
Смерть моей матери приближалась все быстрее. Я наскоро устроила несколько комнат в нашем маленьком домике, чтобы перевезти мать в лучший воздух Норвуда; доктор позволил повезти ее в коляске. На следующий вечер ей вдруг сделалось хуже; мы уложили ее в постель и вызвали по телеграфу врача. Но он ничем не мог помочь, и она почувствовала сама близость смерти. Самоотверженная до конца, она думала только о том, что оставляет меня одинокой. «Я тебя покидаю одну», вздыхая повторяла она; и в самом деле я почувствовала с ужасом, в котором не осмеливалась признаться самой себе, что когда она умрет, я в самом деле останусь одинока.
Еще два дня пробыла она со мной, и я не отходила от неё ни на минуту. Десятого мая упадок сил вызвал у неё легкий бред; несмотря на это, однако, она продолжала следить заботливым взглядом за моими движениями по комнате до тех пор, пока глаза её не закрылись навсегда; когда солнце спускалось все ниже на небе, дыхание её все более слабело, наконец тишина смерти охватила нас, и матери моей не стало.
Оглушенная и придавленная своей утратой, я прожила следующие несколько дней в каком-то тумане. Я не допускала, чтобы кто либо касался умершей кроме меня и любимой сестры моей матери, жившей у нас во все время болезни. Я оставалась холодной и не пролила ни одной слезы, даже когда гробовая крышка скрыла от меня лицо матери; не плакала я также и на протяжении всего длинного пути в Кенсэль-Грин, где похоронены были муж и маленький сын моей матери, и тогда, когда мы оставили ее в сырой, размытой весенними дождями земле. Я не могла поверить, что все наши мечты умерли и похоронены, и что наш дом рушился прежде еще, нежели он был построен настоящим образом. Дом мой воистину достался мне опустелым, и комнаты, залитые солнцем, но не освещенные её присутствием, казалось, оглашались гулким откликом пустых стен, без устали повторявших: «ты совершенно одинока».
Но я имела при себе свою маленькую дочь, её милое личико и резвая фигурка облегчали одиночество, между тем как её настойчивое требование внимания и ухода заставили меня вернуться к будничным заботам и интересам. Жизнь моя была очень тяжелая в те весенние я летние месяцы; я сильно нуждалась в деньгах и не могла приискать работы. Первые два месяца после смерти матери были самыми мрачными в моей жизни и полными тяжких материальных забот. Маленький домик в Colby-Road был очень дорог для моих средств, а искание работы не увенчалось успехом. Не знаю, что бы я делала, если бы не находила всегда поддержку у м-ра и м-сс Томас-Скотт. В течение этого времени я написала для м-ра Скотта брошюры о Вдохновении, об Искуплении, Посредничестве и Спасении, Вечных Муках, Религиозном воспитании детей, природе, противопоставленной религии откровения, и те немногие гинеи, которые я зарабатывала таким образом, приходились мне очень кстати. Дом м-ра и м-сс Скотт тоже был для меня всегда открыт и это имело для меня большое значение; часто случалось, что у меня хватало денег только для пищи на двоих, а не троих, и тогда я уходила на целые дни в британский музей, заявляя, что буду обедать «в городе», т. е. на самом деле совершенно не обедать. Если я не приходила в течение двух вечеров к моим гостеприимным соседям, м-сс Скотт приходила узнавать, что случилось и уводила меня к себе, и часто ужин у них в доме имел существенное значение для моего физического состояния. В 1879 г., когда Томас Скотт лежал мертвый, я с искренним чувством писала в своем дневнике: «Дом Т. Скотта был открыт для меня в пору, когда я терпела наибольшую нужду. Когда я приходила к ним, уставшая и изможденная, после целого дня занятий в музее, ничего почти не евшая, его радушное приветствие: «ну, как живете, голубушка?» заставляло меня сразу забывать свое одиночество. Ни к кому на свете – за исключением одного человека – я не отношусь с большей благодарностью, чем к Томасу Скотту».
Те немногие драгоценности, которые у меня остались, так же как и лишние теперь туалеты были обменены на предметы более необходимые и ребенок по крайней мере не терпел уже ни в чем недостатка. Моя служанка Мэри была изумительно экономна и вела хозяйство на самые скудные средства, умея при этом придать дому в высшей степени уютный и привлекательный вид. Вспоминая о тяжелых днях той поры, я думаю о них теперь без сожаления. Напротив того, я рада теперь, что прошла через это испытание, потому что оно научило меня питать сочувствие к тем, кто так же борется, как я тогда, – и всякий раз, когда я слышу из бедных уст слова: «я голоден» – я вспоминаю страдания, причиняемые голодом, и, хотя бы на одну минуту, чувствую это страдание.
Присутствие ребенка приносило мне большую отраду, поддерживая жизнь в моем исстрадавшемся, одиноком сердце. Мабель играла целыми часами около меня в то время, как я работала, и для того, чтобы я чувствовала себя счастливой, мне достаточно было перекинуться с ней словом от времени до времени. Когда мне нужно было уходить без неё, она провожала меня до дверей и прощалась со мной с дрожащими губами; она стояла целыми часами у окна, дожидаясь моего возвращения и её сияющее личико было всегда первым, попадавшимся мне на глаза при возвращении домой. Часто я приходила усталая, голодная и упавшая духом и тогда блеск маленьких глазок, следящих за мной, напоминал мне, что я должна глядеть бодро, чтобы не смущать своей малютки, и усилие сбросить с себя уныние ради неё изгоняло его совсем и вернуло свет в мою душу. Она была отрадой и радостью моей жизни, моя златокудрая малютка с сияющими глазами и страстной, любящей и настойчивой натурой. В моем усталом, истерпевшемся сердце стало крепнуть новое чувство, сосредоточенное на этом маленьком слабом существе; в ребенке я опять нашла кого любить и о ком заботиться, и могла удовлетворить таким образом одно из самых сильных влечений моей натуры.
Глава VI
Чарльс Брэдло
В течение всех этих месяцев моя духовная жизнь не останавливалась; я прокладывала себе путь вперед медленными и осторожными шагами. Умственная и общественная сторона моей жизни доставляла мне отраду, которой я никогда не испытывала в годы рабства, Во-первых, я наслаждалась сознанием свободы, возможностью открыто и искренно высказать каждую свою мысль. Я имела право сказать себе, что свобода досталась мне дорогой ценой, и заплатив эту цену, я наслаждалась купленным освобождением. Ценная библиотека м-ра Скотта была в моем распоряжении; его светлый ум возбуждал мою умственную деятельность, заставлял меня работать над доказательствами того, что я утверждала, и вводил меня в области мышления, неведомые мне до того. Я стала работать более чем когда либо, и не опасалась уже результатов, к которым может привести чтение.
Я часто бывала в небольшой церкви South Place Chapel, где Монкюр Конвэй был одним из главных проповедников и беседы с ним помогли мне в значительной степени расширить взгляды на более глубокие религиозные вопросы.
Наконец я сказала м-ру Скотту, что хотела бы написать рассуждение «о сущности и бытии Божием».
Он пристально взглянул на меня: «Так вы уже, значит, подошли к этому вопросу, голубушка. Я знал, что этим кончится. Пишите непременно».
В то время, как эта брошюра еще была в рукописи, случилось нечто, имевшее влияние на всю мою последующую жизнь. Я познакомилась с Чарльсом Брэдло.
Однажды поздней весной я разговаривала с м-сс Конвэй – одной из самых нежных и вместе с тем сильных натур, с которыми мне приходилось встречаться в жизни; ей и её мужу я многим обязана за дружеское отношение ко мне в дни бедности, когда у меня было так мало друзей. В течение разговора она спросила меня, бывала ли я на чтениях научного клуба в Old Street. С свойственной людям глупой привычкой повторять мнения и предрассудки других, я ответила: «нет я никогда не хожу туда. Говорят, что м-р Брэдло обладает очень грубым, неприятным красноречием. Ведь это так и есть?»
– Он лучший английский оратор, какого мне приходилось слышать, – ответила она, – за исключением, быть может, Джона Брайта. Власть Брэдло над толпой совершенно безгранична. Согласитесь ли вы с его теориями, или нет, но послушать его вам следует.
В июле того же года я зашла в книжный магазин Е. Трулева, об изданиях которого узнала из какой-то книги; мне нужно было достать у него некоторые брошюры контистов. На столе в магазине лежал номер «National Reformer» и, привлеченная заглавием, я купила газету. Севши в омнибус, который отправлялся на вокзал Victoria, я спокойно развернула газету и принялась читать; поднявши случайно глаза, я с трудом смогла удержаться от смеха при виде какого-то старого господина, который глядел на меня с выражением беспредельного ужаса. Вид молодой женщины, прилично и скромно одетой, и держащей в руках атеистическую газету, нарушил очевидно его душевный покой, и он так пристально стал глядеть на газету, что мне хотелось передать ему ее на прочтение; это неуместное желание я однако подавила в себе.
Первый прочтенный мною нумер газеты, с которой я впоследствии была так близко связана, был от 19 июля 1874 г.; в нем были напечатаны два длинных письма некоего м-ра Арнольда из Нордгэмпона, сильно нападающего на м-ра Брэдло; краткий и замечательно сдержанный ответ последнего был напечатан после писем Арнольда. В газете помещена была также статья о «национальном обществе свободомыслящих», и из неё я узнала об организованной пропаганде свободомыслия. Я почувствовала, что если подобное общество существует то я непременно должна быть его членом; я написала короткое письмо издателю «National Reformer».
«Для того, чтобы поступить в члены «национального общества свободомыслящих» нужно только быть в состоянии искренно признать четыре принципа, изложенные в «National Reformer». Это всякий может сделать, не признавая себя непременно атеистом. Говоря откровенно, мы не видим средины между полным признанием церковного авторитета во всем, как этого требует римская католическая церковь, и между самым крайним рационализмом. Если, рассмотревши еще раз основные принципы общества, вы сможете признать их, мы повторяем вам свое приглашение».
Я записалась в действительные члены общества и мое имя напечатано было в «National Reformer» 9-го августа. Я получила извещение, что лондонские члены могут получать членские свидетельства в научном клубе по воскресеньям вечером, и что их будет выдавать м-р Брэдло. Я отправилась туда 2 августа 1874 г. и это было моим первым посещением собрания свободомыслящих.
Зала была переполнена и как только пробил час, назначенный для лекции, раздались громкие рукоплескания, высокая мужская фигура быстро направилась из залы на эстраду и с легким поклоном в ответ на приветствия аудитории Чарльс Брэдло сел на свое место. Я поглядела на него с интересом; он изумил меня и произвел сильное впечатление. Серьезное, спокойное, сильное и благородное лицо, массивная голова, живые глаза, большой, открытый лоб – неужели это человек, которого мне описывали как неистового агитатора и невежественного демагога?
Он начал говорить спокойно и просто, и по мере того, как он развивал свою мысль голос его становился сильнее и отчетливее и наконец стал разноситься на всем протяжении залы как трубный звук. Хорошо знакомая с сюжетом, я могла оценить достоинства его изложения и видела, что его знания так же обширны, как блестяще его красноречие. Дар слова, страсть, сарказм, пафос, направленные на отрицание укоренившихся в английском обществе предразсудков производили сильное впечатление и громадная аудитория, увлеченная силой оратора, следила, притихнув и сдерживая дыхание, за его речью; после блестящего заключения еще несколько секунд длилось молчание и тогда только буря рукоплесканий сменила всеобщее напряжение.
Брэдло сошел с эстрады, держа в руках несколько свидетельств, оглянулся вокруг и вручил мне мое с вопросом: «Вы м-сс Безант?» затем он сказал, что ему хотелось бы поговорить со мной, дал мне книгу, которой пользовался во время лекции. Много времени спустя я спросила его, как это, никогда не видевши меня до того, он узнал меня и подошел ко мне. Он засмеялся и сказал, что сам не может объяснить причины, но что, взглянув на лица присутствовавших он был уверен, что именно я Анни Безант.
Со времени этой первой встречи в научном клубе началась дружба, длившаяся неизменной до тех пор, пока смерть не разорвала земных уз. Мы встретились друзьями, а не чужими; поняли друг друга с первого взгляда. Многим я обязана его дружбе и чувствую великую благодарность к его памяти. Некоторые из его советов навсегда остались в моей памяти. «Не говорите никогда», говаривал он, «что у вас есть определенный взгляд в каком-нибудь вопросе, пока вы не познакомились еще с самыми сильными возражениями против более близкого вам взгляда». «Не считайте себя основательно знающей какой либо предмет прежде, чем вы ознакомились с тем, что о нем было сказано самыми выдающимися умами». «Нельзя делать ничего дельного на общественном поприще, если не работать много дома над тем, о чем придется говорить перед слушателями». «Будьте самым строгим судьей относительно самой себя, прислушайтесь к своим речам и критикуйте их; читайте нападки своих противников и старайтесь отыскать заключающееся в них зерно правды». «Не теряйте времени на то, чтобы читать мнения, служащие отголоском ваших; знакомьтесь с взглядами, идущими в разрез с вашими и вы увидите такие стороны истины, которые прежде ускользали от вас».
Во все время нашей долголетней дружбы он был для меня самым строгим и в то же время наиболее дружески расположенным критиком: он доказывал мне, что людям нашей партии, стоящим по уму и знаниям многим выше тех, которыми мы руководим, крайне легко достаются неразборчивые похвалы и неразборчивое поклонение. Необходимо было поэтому, чтобы мы сами были своими строжайшими судьями, и были бы вполне уверены что основательно знакомы с предметом, который преподаем другим. Он спасал меня от поверхностности, к которой легко бы могла привести меня роковая легкость речи; когда я начала испытывать опьяняющее действие легко достигаемых похвал, его критика слабых пунктов, его нападки на слабую аргументацию, его утонченное образование были для меня неоценимой поддержкой, и все что есть хоть немного ценного в моей деятельности, в значительной степени результат его влияния, в одно и то же время и возбуждавшего и удерживавшего меня.
Одной из его самых привлекательных черт в частной жизни была его чрезвычайная любезность с женщинами. Внешняя изысканность манер казалась очень грациозной при его статной и массивной фигуре и была скорее чужестранной, чем английской чертой – англичане, вообще, за исключением тех, которые бывают при дворе, в высшей степени невежливы. Я его спросила раз, где он научился быть не по-английски вежливым и предупредительным в общежитии – он стоял с приподнятой шляпой, когда спрашивал что либо, хотя бы у горничной, или помогал даме садиться в экипаж. На мой вопрос он с легкой усмешкой ответил, что только в Англии он изгнан из общества. Во Франции, Испании и Италии его радушно принимали в самых высоких общественных сферах и возможно, что бессознательно он усвоил принятые за границей манеры. Кроме того, он совершенно не понимал различий в общественном положении; ему было абсолютно безразлично, говорит ли он с лордом, или с рабочим.
Наша первая беседа после встречи на собрании произошла несколько дней спустя в его маленьком кабинете в Turner Street, маленькой комнатке, заваленной книгами; эта обстановка совершенно не подходила к нему. Впоследствии я узнала, что он потерпел неудачу в делах из-за своих убеждений, и что, решивши избегнуть банкротства, он продал все свое имущество, за исключением книг; услал жену и дочерей в деревню, к своему тестю, а сам нанял две маленькие комнаты в Turner Street, где можно было устроиться очень дешево и задался целью выплатить все свои долги, явившиеся следствием его борьбы за религиозную и политическую свободу.
Глава VII
За делом
После первой беседы в Turner Street, м-р Брэдло приехал ко мне в Норвуд. Любопытно, что он не принял моего первого приглашения и советовал мне хорошенько подумать, прежде чем звать его к себе. Он сказал мне, что ненависть к нему в английском обществе простирается и на людей, стоящих в дружеских с ним отношениях, и что я могу дорого поплатиться за хорошее к нему отношение. Но когда я вторично написала ему, повторяя свое приглашение и говоря ему, что все могущие оказаться последствия я приняла во внимание, он сейчас же приехал ко мне. Его слова оправдались, моя дружба с ним удалила от меня даже многих из называющих себя свободными мыслителями, но поддержка и радость, которые принесла мне эта дружба, тысячу раз вознаградили меня за связанные с нею потери, и я никогда не испытала ни тени сожаления о том, что встретилась с ним в 1874 г. и приобрела в нем истинного друга. Он ни разу не сказал мне жесткого слова; когда мы расходились в мнениях, он не старался навязать мне своих мыслей; мы обсуждали все пункты разногласия как равные; он оберегал меня, как истинный друг, от всякого страдания и делил со мной то горе, которое нельзя было предотвратить. Все, что было светлого в моей бурной жизни, исходило от него и было результатом его нежной заботливости, постоянного участия, великодушной дружбы. Он был наиболее чуждым эгоизма человеком из всех, кого я знала, и соединял необыкновенную силу характера с большим терпением. Моя живая, порывистая натура находила в нем спокойную силу, которой ей недоставало самой, и училась у него сдерживать свои порывы.