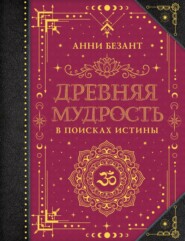По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Исповедь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он был в высшей степени веселым и приятным товарищем в редкие часы отдыха, выпадавшие на нашу долю. В течение долгих лет он приходил ко мне утром после нескольких часов, которые уделял обыкновенно для приема бедных, нуждающихся в юридических или иных советах; он приносил с собой книги и бумагу и работал у меня целыми днями, не мешая работать и мне в его присутствии, обмениваясь лишь от времени до времени несколькими словами, делая перерыв только для завтрака и обеда, и работая опять вечером до десяти часов, когда он уходил домой, сохраняя свою привычку рано ложиться спать. Иногда он проводил со мной час, играя в карты. Все наше время почти всецело уходило на занятия и общественные дела, но иногда мы устраивали себе праздник, и тогда он превращался в мальчика, готового на всевозможные шалости и поражал неожиданностью своих оригинальных выдумок. Все окрестности Лондона полны для меня светлых воспоминаний о наших странствованиях – Ричмонд, где мы бродили по парку и отдыхали под вековыми деревьями, Виндзор с своими рощами, Кью, где мы пили чай в странно убранной маленькой комнатке, Гэмптон-Корт с своей романтической природой, Меденгэд и Тэплоу, куда нас привлекала река, и более всего Броксборн, где м-р Брэдло любил проводить целые дни с удочкой в руках и бродить по берегу, который он знал до малейшей извилины. Он был страстным рыболовом и научил меня всем тайнам этого искусства, высказывая мне глубокое презрение за мое отвращение к рыбе, попадавшейся мне на удочку. Во время этих прогулок он говорил мне о своих надеждах на будущее, о своей работе, о долге, который он должен исполнить относительно людей, считавших его своим вождем, о том времени, когда он попадет в парламент и будет стремиться к осуществлению на законодательном поприще тех реформ, за которые он ратовал пером и словом. Как часто он воодушевлялся, говоря о своей любви к Англии, своем преклонении пред парламентом, своей гордости прошлым своей родины. Очень ясно сознавая, какое пятно накладывали на нее завоевательные войны и жестокость в обращении с завоеванными народами, он все таки оставался англичанином до мозга костей; более всего, конечно, он считал долгом англичан, как нации, достигшей могущества и обладающей им, понимать нужды подвластных ей народов и быть справедливой добровольно, если даже ничего к этому не принуждает. Его заступничество за Индию в последние годы его жизни не было внезапно принятым на себя обязательством. Он защищал ее, заступался за нее в течение многих лет в печати и с кафедры и был ярым борцом за её права задолго до того, как сделался членом парламента.
Чрез несколько дней после нашей первой встречи м-р Брэдло предложил мне место в редакции National Reformer и маленькое жалованье, которое мне было назначено – только одна гинея, так как проповедники реформ были народ бедный – было очень существенным пополнением моих средств. Мое сотрудничество началось с 30-го августа 1874 г., со статьи, подписанной псевдонимом «Аякс», и продолжалось до самой смерти м-ра Брэдло; с 1877 г. я сделалась помощницей редактора, чтобы избавить м-ра Брэдло от всяких технических хлопот и утомительного чтения рукописей; некоторое время я принимала также участие в издательской стороне дела. Вначале я писала под псевдонимом, потому что для работы, которую я исполняла для м-ра Скотта, было бы пагубно появление моего имени на столбцах страшного «National Reformer» и до тех пор пока эта работа – начатая и уплаченная заранее – не была закончена, я не чувствовала себя вправе пользоваться своим именем. Впоследствии я стала подписывать свои статьи в «National Reformer», а брошюры, которые я писала для м-ра Скотта, появлялись под псевдонимом.
Избранный мною псевдоним был внушен знаменитой статуей «Аякса, взывающего о свете», снимок с которой находится в хрустальном дворце близ Лондона. Раздающаяся из мрака мольба о свете, хотя бы этот свет принес с собой крушение всего, вызывала горячий отзвук в моей душе. Видеть, знать, понимать, даже если свет ослепляет, знание удручает и понимание разбивает самые дорогие надежды – этого жаждал всегда стремящийся в высь дух человека. Многие видят в этом слабость, безумие, но я уверена, что сильнее всего это стремление сказывается в лучших людях нашей страны, что с уст тех, кто больше всего помогал снять бремя невежества с изможденных согбенных плеч спотыкающегося человечества, чаще всего срывался среди мрака и пустоты молящий страстный возглас: «дайте нам свет».
Свет может прийти в виде ослепляющей молнии, но все-таки это будет свет, который озарит нас.
Теперь, наконец, наступило время воспользоваться даром слова, который я открыла в себе в Сибсэйской церкви; он должен был помочь мне действовать на сердца и умы всей Англии. В 1874 г. я впервые пыталась говорить, а в 1875 окончательно взяла в руки это сильное оружие и не переставала уже с тех пор пользоваться им. В первый раз я попыталась говорить на одном собрании на открытом воздухе, взяв на себя чисто фактический доклад; я увидела тогда, что могу говорить свободно и гладко; во второй раз я приняла участие в прениях либерально-социалистического союза по вопросу об открытии музеев и картинных галерей по воскресеньям. Первую лекцию я прочла 25-го августа 1874 г. в зале кооперативного института. М-р Грининг, тогдашний секретарь института, предложил мне прочесть лекцию, предоставив мне самой выбор сюжета. Я решила, что первая моя лекция будет посвящена женскому вопросу и избрала поэтому темой реферата «политическое положение женщин». В этот августовский вечер перед собранием в кооперативном институте выступила очень нервная женщина. Когда приходится идти к зубному врачу и стоишь уже у дверей с желанием спастись бегством, прежде чем представительный лакей откроет двери и взглянет на посетителя с улыбкой сострадательного участия и сознания своего превосходства, тогда мир кажется мрачным и жизнь сплошным заблуждением. Но эти чувства ничтожны и слабы в сравнении с замиранием сердца и дрожанием колен у злополучного лектора, в первый раз выступающего перед публикой – пред его глазами поднимается зловещий призрак человека, взявшего на себя роль оратора, но лишившегося вдруг языка, а перед ним ряды внимающих лиц, внимающих – молчанию. Но к моему удивлению, это жалкое чувство исчезло как только я поднялась со стула и взглянула на лица, толпящиеся предо мной. Я не чувствовала более смущения и нервности от начала лекции до конца, и слыша как мой голос звучал над головами сосредоточенно внимающих слушателей, я ощущала радость от сознания своей силы и была чужда всякого страха. Начиная с того вечера и до сегодняшнего дня я испытывала всегда то же самое; до начала лекции или собрания, на котором я должна говорить, я прихожу в нервное состояние, хотела бы провалиться сквозь землю, чувствую страшное сердцебиение, а иногда близка к обмороку. Но как только выхожу на эстраду, как становлюсь опять совершенно спокойной, чувствую себя властительницей толпы и вполне владею собой. Я часто внутренне смеюсь над своим волнением и дрожью, зная, что все пройдет, когда я начну говорить, и все-таки я не могу победить физической боязни, хотя и знаю, что она ложная. Мне говорят иногда: «у вас слишком больной вид, чтобы выходить на эстраду». А я слабо улыбаюсь, говорю, что это ничего не значит, и часто думаю, что чем нервнее я чувствую себя пред началом, тем увереннее буду говорить, выйдя на эстраду. Вторую лекцию я прочла 27-го сентября, в маленьком храме м-ра Монкюра Конвэя в St. Paul's Road и повторила ее несколько недель спустя в одной униатской часовне, где, был священником Петер Дин. Это была лекция об «истинной основе нравственности»; она была напечатана впоследствии отдельной брошюрой и имела большой успех. Вот все, чем ознаменовалась моя ораторская деятельность в течение 1874 г., но, кроме того, я принимала закулисное участие в избирательной борьбе в Нордгэмптоне, где открылась кандидатура на место члена парламента, вследствие смерти м-ра Чарльса Гильпина. М-р Брэдло выступал в этом участке кандидатом радикальной партии в 1868 г. и получил 1,086 голосов, затем в феврале 1874 г. он получил 1,653 голоса; эта толпа избирателей образовала сплошную и лично преданную партию приверженцев, которым и удалось осуществить избрание своего вождя в 1880 г. после 12 лет упорной борьбы, и вновь избирать его много раз в течение долгой борьбы, последовавшей, за его избранием и кончившейся его полным торжеством. Они никогда не колебались в своей преданности «нашему Чарли», но крепко стояли за него и в периоды неудач, как и в дни торжества, когда он был изгнанником так же, как и тогда, когда он являлся триумфатором; они любили его глубоким страстным чувством, настолько же делающим честь им, как и драгоценным для него. Он иногда плакал как ребенок при виде доказательства их любви к себе, хотя и обладал твердостью духа, не слабевшей ни пред какой опасностью, и умел спокойно переносить ненависть и глядеть с суровой невозмутимостью в глаза врагам. Твердый как железо по отношению к врагам, он делался слабым как женщина, встречая доброту; упругий как сталь, он не поддавался никакому давлению, но ласка делала его мягким как воск. Джон Стюарт Милль уже в 1868 г. понял его своим проницательным взглядом и имел смелость признать это. Он сильно поддерживал его кандидатуру и сделал крупный взнос в кассу избирательных издержек. В своей автобиографии он писал (стр. 311, 312):
«Он (Чарльс Брэдло) пользовался симпатиями рабочих классов; я слыхал, как он говорит, и вынес высокое мнение о его способностях; он сам доказал, что менее всего может считаться демагогом, выступивши ярым противником господствующих в демократической партии взглядов на два столь важные предмета, как теория Мальтуса и пропорциональное представительство. Люди подобного склада, которые, разделяя демократическое миросозерцание рабочих классов, решают все-таки политические вопросы совершенно самостоятельно и имеют храбрость защищать свои индивидуальные взгляды против народной оппозиции, очень нужны, как мне кажется, в парламенте; и я думаю, что взгляды м-ра Брэдло (если даже он слишком невоздержанно высказывал их) не должны препятствовать его избранию».
Говорили, что, поддерживая кандидатуру м-ра Брэдло в Нордгэмптоне, м-р Милль потерял свое место в парламенте, как представитель Вестминстера; при тогдашнем состоянии общества это предположение могло оказаться истиной.
Во время этих выборов, в сентябре 1874 г. (это были вторые выборы в том же году, так как общие выборы состоялись в феврале, м-р Брэдло был выставлен кандидатом и потерпел поражение, будучи сам в это время в Америке), я отправилась в Нордгэмптон, чтобы корреспондировать о ходе избирательной кампании в «National Reformer» и провела там несколько дней в водовороте борьбы. Виги были ожесточены против м-ра Брэдло еще более ториев. Настойчивые усилия направлены были на то, чтобы найти кандидата для либеральной партии, который в состоянии был бы воспрепятствовать избранию м-ра Брэдло, и разъединяя либеральную и радикальную партии между собой, допустил бы скорее избрание тори, чем ненавистного радикала. Гг. Бэль, Джэмс и д-р Пирс являлись на сцену и тотчас же исчезали. М-р Яков Брайт и Арнольд Морлэй были названы кандидатами, но без всякого успеха. Произносилось также имя м-ра Эртона. Майора Лумлэя ввел и поддерживал м-р Бернал Исборн. Д-р Кенили выразил свою готовность выручить вигов. М-р Тиллет из Норвича, м-р Кокс из Бельпера тоже были приглашены, но ни один из них не соглашался выступить противником истинного радикала, который вел две избирательные кампании в Нордгэмптоне и был избранником радикальных рабочих уже в течение шести лет. Наконец, м-р Вильям Фоулер, банкир, взял на себя задачу передать представительство либерального и радикального избирательного участка члену торийской партии, и в самом деле ему удалось устроить избрание м-ра Мируэтера, торийского адвоката безупречной репутации. М-р Брэдло получил 1,766 голосов, т. е. на 133 голоса больше против февраля.
Во время этих выборов я впервые видела нечто похожее на народный мятеж. Сильные нападки вигов на м-ра Брэдло и гнунсые клеветы, которые распространялись о нем, затрагивая его личную жизнь и семейные отношения, довели до бешенства всех, кто его знал и любил, и когда выяснилось, что виги одержали победу благодаря неразборчивости своих средств и тому, что они передали участок тори, общее возмущение перешло в открытую ярость. Один пример может служить образчиком того, до чего доходили клеветники. Известно было, что м-р Брэдло разошелся с своей женой, и на основании этого говорили, что, будучи противником брака, он бросил жену и детей, доведя их таким образом до рабочего дома. Причина разлада была известна лишь немногим, потому что м-р Брэдло относился по-рыцарски к женщинам и ни за что бы не ограждал своей собственной чести ценой доброго имени женщины, на которой женился в молодости и которая была матерью его детей. Но со времени его смерти, единственная, пережившая его дочь, открыла, из преданности к памяти отца, печальную истину: она выяснила, что м-сс Брэдло была склонна к пьянству; долгие годы муж переносил её недуг и делал все возможное, чтобы вылечить ее; наконец, отчаявшись в излечении, он поместил свою жену в деревне, на попечение родственников, оставил ей дочерей, а сам уехал работать для прокормления семьи. Ни один человек не мог бы поступить более благородно и разумно в таких тяжелых обстоятельствах, но, быть может, с его стороны было излишним донкихотством скрывать настоящее положение дел и не заботиться о том, что о нем говорят в обществе. Его норгэмптонские избиратели не были знакомы с фактами, но знали его правдивым, благородным человеком, и эти злые нападки на его личный характер доводили их до бешенства, Во время избирательной агитации произошло несколько стычек из-за этих клевет, и в борьбе с такими низкими орудиями врагов, народ потерял всякую власть над своими страстями. Когда м-р Брэдло сидел совершенно обессиленный в отеле после объявления результата выборов, хозяин вбежал к нему, умоляя его выйти к толпе и постараться успокоить ее, потому что иначе дело может дойти до кровопролития в «Пальмерстоне», где жил м-р Фаулер; толпа осаждала двери и бросала камни в окна. Позабывши свою усталость, м-р Брэдло вскочил на ноги и поспешил на защиту тех, которые оскорбляли его и одержали теперь победу над ним. Ставши сам у входа, где только что сняли и разбили дверь, он повалил несколько человек из самых неистовых громителей, оттиснул толпу назад, успокоил ее убеждениями и порицанием и наконец, рассеял ее. Но в девять часов ему нужно было уехать из Нордгэмптона, чтобы поспеть на пароход в Америку в Квинстоун, и когда узнали об его отъезде, подавленный им мятеж снова разгорелся. Наконец, вмешалась полиция, прочитано было постановление о мятежах, вызваны солдаты, полетели камни, расшибались головы и окна, но никаких серьезных последствий стычка не имела. Больше всего пострадали «Пальмерстон» и типография «Mercury», органа вигов; в них совершенно исчезли окна и двери. На следующий день после выборов я вернулась домой и серьезно заболела воспалением легких. Вскоре после моего выздоровления я оставила Норвуд и поселилась в маленьком домике в Бэзуатере, где оставалась до 1876 г.
В том же году (1875), когда я выступила с пропагандой свободомыслия, основано было теософическое общество. Я часто с удовольствием вспоминала впоследствии, что в то время, когда я начала свою ораторскую деятельность в Англии, Е. П. Блаватская работала в Америке, подготовляя почву для образования теософического общества, которое и было основано в ноябре 1875 г.
Открытое чтение лекций я: начала в South Place Chapel в январе 1875 г.; м-р Монкюр Конвэй был председателем. В «National Reformer» 17-го января появилось извещение, что м-сс Анни Безант («Аякс») прочтет лекцию «о гражданской и религиозной свободе». Таким образом я отбросила свой псевдоним и вышла на поле битвы, с поднятым забралом. Диалектическое общество в течение многих лет устроивало свои собрания в помещении, нанимаемом у клуба социальных наук. Когда члены начали собираться, как всегда, 17-го февраля, дверь оказалась закрытой и им пришлось оставаться на лестнице. Выяснилось, что не прочтенная еще лекция «Аякса» показалась нестерпимой дли слабых нервов «социальных наук» и вход в обычную залу заседания был закрыт на этот раз и навсегда членам диалектического общества. Последние перекочевали вместе с «Аяксом» в отель Charing-Cross.
12-го февраля я в первый раз отправилась читать лекции в провинцию, и устроив в тот же вечер собрание в Биркенгэде, поехала ночным поездом дальше в Глэзгоу. Там происходили какие-то бега, кажется собачьи и многие из пассажиров, толпящихся на дебаркадере, были грубы и неприятны. Моим знакомым удалось все-таки найти мне купе и они не отходили от меня до отхода поезда. Но уже когда поезд двинулся, дверца вагона шумно распахнулась и кондуктор впихнул пассажира, который шатаясь уселся на диван. Придя немного в себя, он встал, и рассыпав по полу деньги, которые держал в руке, мутным взором глядел в пространство. Я с ужасом увидела, что он пьян. Положение мое было не из приятных, так-как поезд был курьерский и остановка предстояла очень не скоро. Мой неприятный спутник ползал несколько времени по полу, собирая рассыпавшиеся деньги; затем он медленно поднялся и обратил внимание на присутствие еще одного человека в купе. Он несколько времени пристально глядел на меня и затем предложил закрыть окно. Я кивнула головой в знак согласия, не желая вступать с ним в разговор и чувствуя смертельный ужас от сознания, что очутилась среди ночи в курьерском поезде наедине с человеком, недостаточно пьяным, чтобы быть беспомощным, но слишком пьяным, чтобы владеть собой. Никогда до того и никогда с тех пор я не ощущала такого ужаса. Я вижу его до сих пор, еле держащегося на ногах, с блуждающими глазами и отвисшим ртом; я же сидела не двигаясь и наружно совершенно спокойная, как это всегда бывает со мной в опасности, прежде чем я вижу возможность исхода, и только нащупывала в кармане перочинный ножик, приняв отчаянное решение пустить в ход это слабое оружие при первой надобности. Мой сопутчик стал подходить ко мне, когда вдруг послышался резкий шум и поезд замедлил ход.
– Что это? – промолвил мой пьяный сопутчик.
– Это тормозят, чтобы остановить поезд, – ответила я медленно и спокойно, хотя чувство облегчения, которое я ощущала, еле позволяло мне отчетливо произносить каждое слово.
Пьяный уселся с тупым видом глядя на меня, а чрез несколько минут поезд подъехал к станции – остановка была следствием поданного сигнала. Моя неподвижность сразу исчезла. Я побежала к окну, подозвала кондуктора и быстро сказала ему, что путешествую одна и очутилась в купе с полупьяным человеком. С обычной вежливостью железнодорожных служителей, он перевел меня в другое купе, перенес туда мой багаж, закрыл меня на ключ и наведывался ко мне. на каждой станции, пока мы не прибыли благополучно в Глэзгоу.
В Глэзгоу мне наняли комнату в отеле общества трезвости, и мне показалось до того необычайным и грустным очутиться вдруг одной, одинешенькой в чужой гостинице и в чужом городе, что и готова была разрыдаться. Это чувство, которому я не хотела поддаться из гордости, зависело, вероятно, отчасти от серого и неприглядного вида окружавшей меня обстановки. Теперь все это изменилось, но в то время гостиницы общества трезвости были крайне неопрятны. Воздержание от спиртных напитков и грязь не стоят, казалось бы, в связи одно с другим, но все-таки мне редко случалось бывать в гостиницах общества трезвости, в которых вода употреблялась бы в больших количествах для иной цели, чем для питья. Из Глэзгоу я отправилась на север, в Абердин, где меня встретила строгая, требовательная аудитория. Ни один звук не прерывал молчания, когда я вошла в залу и поднялась на эстраду; осмотрительные шотландцы не намеревались аплодировать неведомой ораторше с первого взгляда на нее; им нужно было сначала узнать, какова она. Они слушали угрюмые и молчаливые; я не могла тронуть их; они были созданы из гранита, подобно ихнему городу, и минутами мне казалось, что я рада была бы снять с себя голову и бросить ею в них, лишь бы прошибить эту крепкую стену. Около двадцати минут спустя какая-то удачная фраза вызвала шиканье одного из пресвитерьянцев. Я не замедлила ответить на вызов, это вызвало взрыв рукоплесканий, и лед растаял. Никогда с тех пор я не имела основания жаловаться на холодность абердинской аудитории. Обратный путь из Абердина в Лондон был тяжелым и длинным; мне приходилось ехать третьим классом в холодную февральскую погоду. Но все эти трудности содержали в себе долю радости, которая искупала все физические неудобства и сознание того, что я нашла себе дело, вносило в жизнь новую отраду.
28-го февраля я в первый раз появилась на эстраде в научном клубе в Лондоне, и была встречена с той теплотой и задушевностью, с которой свободомыслящие всегда готовы встретить всякого, кто приносит жертвы для того, чтобы вступить в их ряды. Зала этого клуба соединяется в моем уме с воспоминанием о многих тяжких столкновениях, о победах и поражениях, при чем побежденная или победительница, я всегда встречала там радушный привет. Любовь и преданность, с которой эти товарищи по убеждению поддерживали меня, вознаграждали меня в стократ за те слабые услуги, которые я имела возможность оказывать делу свободы; это дружеское отношение препятствовало возникновению какой либо горечи в моей душе по поводу неприязни некоторых, которые, быть может, забыли справедливость и доброе чувство. На здоровье мое ораторская деятельность оказала укрепляющее влияние. У меня всегда была несколько слабая грудь и когда я обратилась к доктору с вопросом, выдержу ли длинные часы лекций и речей, стоя на эстраде, он ответил: «это или вылечит или убьет вас». На самом деле это окончательно вылечило слабость легких и я сделалась сильной и здоровой, между тем как прежде всегда отличалась слабостью и болезненностью.
Было бы скучно передавать шаг за шагом историю восемнадцати деть моей ораторской деятельности; поэтому я избирала только несколько инцидентов, иллюстрирующих целое. И замечу также кстати, что часто мне и другим делали упреки, что нас привлекает к пропаганде выгодность пропаганды. Упрек этот противоречив почти до комичности истине. Однажды, я провела неделю в Нортумберлэнде и Дергэме, прочла двенадцать лекций и в результате оказался дефицит в одиннадцать шиллингов. Конечно, нечто подобное не могло повториться в позднейшие годы, когда, благодаря упорному труду, я создала себе имя, но я думаю, что каждый из моих единомышленников может вспомнить подобные же инциденты из времени своих дебютов. Несомненно, что каждый из нас, начиная, с м-ра Брэдло и до самого незначительного из его сподвижников, мог бы гораздо легче найти себе хороший заработок во всякой другой области труда и пользоваться при этом всеобщим одобрением, вместо нападок, которыми их осыпало общество. Я много читала в первые годы в Нортумберлэнде и Дергэме; рудокопы, живущие там, в большинстве случаев хитрый и упрямый народ, но к тем, кому они доверяют, они относятся с большой сердечной теплотой. В Сегилле и Бедлингтоне мне часто приходилось ночевать у них в хижинах и обедать у них за столом. Я ясно вспоминаю один вечер, когда мой хозяин, сам рудокоп по ремеслу, пригласил около дюжины товарищей ужинать вместе со мной. Разговор шел о политике и вскоре я убедилась, что мои собеседники более сведущи в английской политике, лучше понимают политические метода и, в общем, более интересны, чем большинство обыкновенных людей, которых приходится встречать на званых обедах в так называемом «обществе». Они принадлежали к неинтеллигентному классу, презираемому «джентльменами» и не имели внешних достоинств последних, но в политическом отношении они были гораздо более развиты и подготовлены к исполнению гражданского долга. Я так же отлично помню, как тряслась десять миль на повозке мясника, отправляясь читать лекции в каком-то отдаленном от железной дороги местечке. На каменистой и крутой дороге нас так растрясло, что у меня ныли все кости и мне казалось, что, выйдя на эстраду, я упаду наземь, как мешок, на половину наполненный камнями. Как эти радушные, добрые рудокопы были добры ко мне, как заботились о моих удобствах и с каким материнским участием относились ко мне женщины! Да, если мои противники, не знавшие меня лично, были часто злы и жестоки по отношению ко мне, то я находила вознаграждение в любви и почете, которым окружали меня простолюдины всей Англии: их привязанность брала верх над ненавистью и облегчала часто мое усталое, страдающее сердце.
Во время чтений в Лейчестере, в 1875 г., я натолкнулась на первый пример искажения истины врагами, и это доставило мне больше страдания и горя, чем это можно выразить. Один из моих ярых клерикальных противников объявил в прениях, следующих за лекцией, что я автор книги под заглавием «элементы социальных наук». Я никогда не слыхала об этой книге, но когда он заявил, что она стоит за отмену брака, и прибавил, что м-р Брэдло согласен с автором книги, я поспешила возразить ему. Не будучи знакома с книгой, я была хорошо знакома с взглядами м-ра Брэдло и знала, что в вопросе о браке он был скорее консерватором, чем революционером. Он был врагом учения «свободной любви» и открыто содействовал агитации, которую так героически вела в течение многих лет м-сс Иосифина Бутлер. Вернувшись в Лондон после лекции, я, конечно, навела справки о книге и её содержании, и узнала, что она написана одним доктором медицины несколько лет тому назад и прислана для отзыва в «National Reformer», так же как и в другие журналы и газеты. Книга состояла из трех частей – первая защищала с медицинской точки зрения то, что принято называть «свободной любовью»; вторая часть была чисто медицинская; третья состояла из ясного изложения закона о росте народонаселения по теории Rev. м-ра Мальтуса и – идя по следам Дж. Стюарта Милля – доказывала, что состоящие в браке обязаны добровольно ограничивать количество детей сообразно с своими средствами к существованию. М-р Брэдло, разбирая книгу, сказал, что она написана «с честной и чистой целью», и рекомендовал рабочим книгу для ознакомления с теорией роста народонаселения. Его враги воспользовались этой рекомендацией и объявили, что он разделяет взгляды автора на временность брачного союза и, несмотря на его неоднократные протесты, они приводили изречения против брака из книги, как взгляды самого м-ра Брэдло. Гнуснее такого образа действия ничего нельзя придумать, но таковы были на самом деле орудия, которые употреблялись против него в течение всей его жизни, причем нападавшие на него очень часто представляли самый невыгодный контраст с ним. Не находя никакого предлога к обвинениям в его писаниях, они воспользовались этой книгой, чтобы уронить его в глазах тех, которые не были знакомы с его взглядами из первых рук. Его враги опасались не его взглядов на брак – в этом отношении, как я уже упоминала, он был консерватором, – а его радикализма. Чтобы дискредитировать его как политического деятеля, они старались запятнать его в глазах общества с нравственной стороны, а для этого утверждение, что человек стремится «уничтожить брак и семью», самое подходящее орудие, которое должно непременно нанести рану. Это было источником его самых тяжелых конфликтов, еще более усилившихся вскоре вследствие его защиты теории Мальтуса. На меня тоже обрушились те же нападки и я вдруг очутилась оплеванной за взгляды, которых совершенно не разделяла.
Чтение лекций и дело пропаганды сопровождалось часто печальными инцидентами в то время. В Даруэне, в Ленкешире, в июне 1875 года, бросание камней считалось дозволенным аргументом против излагающей свои взгляды. В Свэнси, в марте 1876 г., опасность буйного отношения слушателей была настолько велика, что хозяин потребовал ручательства за невредимость помещения и ни один из моих знакомых в городе не решился брать на себя председательство на моей лекции. В сентябре 1876 г., в Гойлэнде, вследствие происков м-ра Геббльтвэта, методиста старинного образца, и двух протестантских миссионеров, зала, куда я пришла читать лекцию, оказалась переполненной толпой, которая встретила меня ревом, обступала эстраду, грозила мне кулаками и вообще выказывала больше жара, чем сочувствия. Воспользовавшись наступившей на минуту паузой, я начала говорить, и шум сменился тишиной. Но когда я уходила из залы, шум возобновился и я медленно пробиралась к выходу среди толпы, которая бесновалась, грозила и наступала на меня, при чем, однако, те, которые были ближе всего, почему-то отступали и очищали мне дорогу. Выйдя из залы на улицу, толпа сделалась еще отважнее в темноте и стала подступать ко мне с кулаками; но один только из направленных на меня ударов достиг меня и попытки опрокинуть коляску не удались, благодаря кучеру, который пустил лошадей во всю прыть. Несколько позже м-р Брэдло и я были вместе в Конгльтоне, куда нас пригласили м-р и м-сс Кольстенгольм-Эльми. М-р Брэдло говорил на митинге в тот же вечер под аккомпанемент летящих в дребезги окон, и я, сидя с м-сс Эльми около эстрады, получила сильный удар в затылок от камня, брошенного кем-то в залу. От места собрании до нашего дома нужно было пройти версты полторы и все время за нами шла толпа, бросая камни, распевая из всех сил гимны и прерывая их от времени до времени проклятиями и ругательствами. На следующий вечер я читала лекцию и наша свита бросающих камни поклонников проводила нас до самой залы собрания. Среди лекции кто-то крикнул: «Вон ее!» и известный в околотке силач по имени Бербери, который пришел на митинг вместе с несколькими друзьями только для того, чтобы мешать, встал как по сигналу против эстрады и громким голосом прервал меня. М-р Брэдло, занимавший председательское кресло, пригласил его сесть и когда он все-таки продолжал мешать, объявил ему, что нужно или сидеть спокойно, или выйти из залы. «Выведете меня!» крикнул Бербери, становясь в вызывающую позу. М-р Брэдло сошел с эстрады, подошел к буяну, который тотчас же бросился на него и хотел его повалить. Но он не принял в соображение громадной физической силы своего противника и когда свалка кончилась, Бербери оказался побежденным. Среди всеобщего возбуждения он был оттеснен к двери, при чем м-р Брэдло пользовался им же, чтобы оттеснить его товарищей, порывающихся вступиться за него; у дверей он сдан был, наконец, полиции. Председатель вернулся тогда к своим нормальным функциям, обратившись ко мне с кратким внушением: «Продолжайте». Я стала говорить дальше и смогла спокойно закончить лекцию. Но когда мы вышли на улицу, начиналось опять бросание камней и один из них расшиб висок м-сс Эльми. Постепенно этот бурный элемент нашей деятельности ослабевал и то, что я испытала в этом отношении, сущие пустяки сравнительно с приключениями моих предшественников. Первые раза появления м-ра Бредло на эстраде сопровождались серьезными свалками и точно также м-сс Гэрриет Ло, очень энергичная и талантливая ораторша, пережила не один бурный вечер, когда читала лекции и произносила речи.
В сентябре 1875 г. м-р Брэдло опять отправился в Америку, чтобы заработать там деньги для уплаты долгов. К несчастью он заболел тифом и его надежды освободиться от долгов были разбиты. Его жизнь была долго в опасности, но благодаря искусству врача и ухаживающей за ним сиделки он выздоровел. В Baltimore Advertiser было сказано:
«Эта длинная и серьезная болезнь разрушила его планы и отдалила достижение цели, с которой он приехал в Америку; но он выказал себя воплощением мягкости и терпения во время своей болезни в чужой стране, и вызвал глубокую симпатию во врачах и ухаживающих за ним людях своей благодарностью за малейшее, оказываемое ему внимание».
Его мужественное отношение к смерти также вызывало всеобщее изумление, особенно в виду особых обстоятельств его болезни на чужбине и вдали от всех близких. В нем не было ни тени страха от сознания близкого конца. Пастор Фротингэм публично выражал свое высокое мнение о м-ре Брэдло в своей церкви, говорил о его полном достоинства спокойствии, и, будучи сам религиозным человеком, имел однако смелость выразить свое уважение к спокойной силе духа.
М-р Брэдло вернулся в Англию в конце сентября, превратившийся в тень, слабый как ребенок, и еще в течение долгих месяцев носил следы своей борьбы со смертью.
Частью моих осенних занятий во время его отсутствия было чтение изданных потом отдельной книжкой шести лекций о французской революции. Это бурное время имело для меня необычайную привлекательность. Я много думала о нем, строила разные теории и меня очень привлекала идея рассказать события того времени с народной точки зрения. Я прочла для этого массу текущей литературы революционной поры, основательно изучила монументальное сочинение Луи Блана, затем Мишлэ, Ламартина и других. К счастью для меня, м-р Брэдло имел громадную коллекцию книг об этом предмете и пред отъездом из Англии привез мне целый ворох книг, освещавших революцию с аристократической, церковной и демократической точек зрения; я прочла их все очень внимательно, и до того прониклась духом того времени, что французская революция стала казаться мне драмой, в которой я сама принимаю участие, и действующие лица которой мои личные друзья или враги. В этом, равно как и во многом другом в моей общественной деятельности, я многим обязана м-ру Брэдло за его влияние; благодаря ему, я старалась всесторонне знакомиться со всяким предметом и особенно тщательно изучать те идеи, с которыми я менее всего была согласна, прежде чем считать себя в праве говорить, высказывать свое мнение о предмете.
Начиная с 1875 г. я исполняла должность вице-председателя национального общества свободомыслящих – общества, основанного на широком понимании свободы и избравшего своим лозунгом: «мы ищем истину». М-р Брэдло был председателем и я состояла его помощницей до тех пор, пока он не сложил с себя этой обязанности в феврале 1890 г. Девять месяцев спустя я сделалась членом теософического общества. Под разумным и умелым ведением м-ра Брэдло клуб приобрел большую силу как в религиозных, так и в политических, делах, огромная масса его членов, как мужчин, так и женщин, были свободомыслящими и вместе с тем, радикалами в политике и образовали зерно серьезных работников, которые в свою очередь могли группировать вокруг себя, еще большие, массы других и иметь таким образом сильное влияние на общественное мнение. Раз в год, созывалось общее собрание членов, и не одна глубокая постоянная дружба начиналась во время этих годичных собраний, так что по всей Англии раскинулась сеть преданных последователей «нашего Чарли». Это были те люди, которые покрывали расходы, сопряженные с выбором его в парламент, поддерживали его в избирательной борьбе, приезжали в Лондон, чтобы устраивать демонстрации в его пользу. И вокруг них нарастала громадная партия, «наибольшее количество приверженцев, которое имел какой либо политический деятель за исключением Гладстона», как сказал однажды один выдающийся человек, который расходился с ним в религиозных взглядах, но очень ревностно поддерживал его в политике. Приверженцы Брэдда были рудокопы, ткачи, сапожники, мастеровые всевозможных профессии, сильные, стойкие люди, на которых можно было положиться, и которые любили его беспредельно.
Глава VIII
Брошюра д-ра Нольтона
Начался 1877 г. и в самом начале его поднялась борьба, которая хотя и кончилась полной победой, но принесла с собой горе и страдание, о которых тяжело даже вспоминать. Один американский врач, д-р Чарльс Нольтон, убежденный в истине учения Rev. м-ра Мальтуса, понял, что эта теория или не будет иметь практического значения или будет способствовать увеличению проституции, если не учить семейных людей ограничению семьи сообразно с средствами к существованию; исходя из этой мысли он написал брошюру о добровольном сокращении семьи. Она была напечатана в тридцатых годах – кажется около 1835 г. – и свободно циркулировала как в Англии, так и в Америке около сорока лет. Философы Бентамовской школы, как напр. Дж. Стюарт Милль, защищали учение Нольтона, и влияние увеличения народонаселения на бедность обитателей страны сделалось аксиомой в политической экономии. Работа д-ра Нольтона была физиологическим трактатом о брачной гигиене и родительской ответственности. Автор был сторонником ранних браков во имя чистоты общественных нравов; но так как ранний брак людей с малыми средствами большей частью сопровождается большим количеством детей и ведет к пауперизму или недостатку необходимой пищи, одежды, воспитания детей и устройства их в жизни, то д-р Нольтон стоял за пропорциональность роста семьи с средствами к существованию и указывал средства ограничения семей. Брошюра эта не вызывала никаких преследований до тех пор, пока какой-то бристольский книгопродавец не пустил в продажу несколько экземпляров, снабженных им самыми неприличными иллюстрациями, за что был привлечен к ответственности и осужден. Издатель «National Reformer», бывший также издателем книг м-ра Брэдло и моих, купил среди прочих изданий и брошюру д-ра Нольтона; его за это привлекли к суду и, к нашему огорчению, он сам признал свою вину, ходатайствуя только о снисхождении. Мы сейчас же взяли у него обратно свои издания, и после тщательного обсуждения всех обстоятельств решились сами издать преследуемую брошюру д-ра Нольтона, чтобы поднять вопрос о праве свободного обсуждения интересующего общество вопроса, даже и в том случае, когда вместе с советом ограничивать рост семьи даются указания, как исполнить этот совет. Мы наняли маленькую книжную лавку, напечатали брошюру и послали извещение в полицию, что начнем продажу в известный день и известный час, и что будем продавать сами, чтобы не привлечь к ответственности никого постороннего. Мы отказались от своих должностей в «национальном обществе свободомыслящих» чтобы не нанести ему вреда, но как исполнительный комитет сначала, так и годовое собрание потом, отказались принять нашу отставку. Наше отношение к брошюре д-ра Нольтона было очень определенное; если бы нам принесли ее для издания, мы бы несомненно отклонили ее, так как серьезного интереса по своему содержанию она не представляла. Но раз автор подвергся преследованию за советы ограничения семьи, то вопрос перешел на почву свободы печати. В предисловии к новому изданию было сказано следующее от имени издателей:
«Мы печатаем новым изданием этот памфлет, искренно убежденные, что во всех вопросах, касающихся блага народа, будь то вопросы религиозные, политические или социальные, необходима полная свобода обсуждения. Мы лично не разделяем всех взглядов д-ра Нольтона; его «философская проэма» кажется нам полной философских, заблуждений и – так как никто из нас не медик – мы ничуть не берем на себя ответственности за его медицинские взгляды; но мы убеждены, что прогресс возможен только при помощи обсуждений и прений, а прения невозможны, когда взгляды идущие в разрез с общепринятыми, подавляются; мы стоим поэтому за право провозглашения всяких мнений, каковы бы они ни были, для того, чтобы публика имела возможность познакомиться со всеми сторонами вопроса и обладала бы таким образом достаточным материалом для образования здравого суждения».
Мы не обманывали себя относительно опасности, которую навлекали этим вызовом властям, но не опасение неудачи и сопряженного с этим тюремного заключения, останавливало нас. Нас страшила перспектива страшных недоразумений, могущих возникнуть, неминуемых отвратительных нападок на честь и нравственную чистоту. Должны ли были мы, проповедники высокой нравственности, решиться идти навстречу процессу за издание книги, которая на суде будет называться «безнравственной», и рисковать таким образом нашим будущим, зависящим в значительной степени от нашей репутации в глазах общества? Для м-ра Брэдло подобный процесс означал гибель его шансов на избрание в парламент и создавал его же руками орудие, которое в руках врагов могло сделаться смертоносным. Я же рисковала потерей доброго имени, которым я дорожила и которое сумела сохранить за собой до сих пор. Но я видела воочию страдание бедняков, женщин и детей плачущих о хлебе; всякий рабочий зарабатывал достаточно, чтобы прокормить четырех, но для восьми или десять членов семьи его заработка не хватало. Неужели же я предпочту свою собственную сохранность, свое доброе имя спасению этих несчастных? Не все ли равно, что погибнет моя репутация, лишь бы найти исцеление этим страдающим тысячам людей? Чего стоили все мои слова о самопожертвовании и жизни для других, если в минуту испытания их силы я колеблюсь. Таким образом, страдая, но не падая духом, я пришла к твердому решению. Я сознавала, что ошибаюсь, быть может, в своем понимании вопроса, что избранное мною лекарство, быть может, недействительно, но я была твердо убеждена, что в нравственном отношении я права, жертвуя всем для помощи нуждающимся. Теперь я могу только радоваться, что устояла тогда в внутренней борьбе более тяжкой, чем все выпадавшее на мою долю впоследствии. Я научилась равнодушно относиться ко всем осуждениям извне, не подтверждаемым внутренним голосом совести. Долгая пора страданий, наступившая после того, была великолепной школой терпения.
За день до начала продажи, мы послали сами несколько экземпляров главному делопроизводителю магистратуры в Гильдголе, начальнику городской полиции в Ольд-Джюири и лондонскому прокурору. При каждом экземпляре послано было извещение, что мы будем сами продавать книгу от 4–5 ч. пополудни на следующий день, в субботу 24 марта. Так мы и поступили, при чем, для избежания лишних хлопот, предложили быть ежедневно в магазине от 10–11 утра, чтобы облегчить наш арест, если власти решат преследовать нас. Предложение было охотно принято и после короткого замедления – во время которого депутация от христианской общины явилась к м-ру Кроссу, чтобы убедить торийское правительство начать преследование против нас – дано было распоряжение и мы были арестованы 6-го апреля. К нам посыпались сочувственные письма со всех сторон и в числе пославших их были Гарибальди, известный экономист Ив Гюйо, французский профессор конституционного права Аколла, и на ряду с этими, сотни писем от мужчин и женщин из рабочего класса, которые благодарили и благословляли нас за начатое нами дело. Любопытно, что получалась масса писем от жен англиканских священников и проповедников всевозможных сект.
После ареста нас препроводили в полицейский участок в Bridewell Place и оттуда в Гилдголь, где заседал альдермен; мы предстали пред ним, между тем как в глубине залы теснилась целая толпа людей, предлагавших взять нас на поруки. Допрос очень скоро кончился и предварительное следствие назначено было десять дней спустя на 17 апреля. К вечеру судья нас отпустил на свободу без всякого ручательства и залога и взявши с нас только слово явиться к разбирательству. Так ясно было для всех, что мы боремся из за принципиального вопроса, что от нас ни разу не требовали залога и в течение всего дальнейшего разбирательства. Чрез два дня наше дело назначено было к рассмотрению в центральном уголовном суде, но м-р Брэдло ходатайствовал о мандате о certiorari, чтобы перевести дело в королевский суд. Верховный судья, лорд Кокбурн, обещал уважить ходатайство, если «рассмотрев книгу мы увидим, что цель её законное желание расширить знание в какой-нибудь области человеческой жизни», но отказать в нем, если наука окажется только покровом для грязных помыслов. Книга дана была на прочтение судье Миллору и мандат был выдан.
Разбирательство началось 18-го июня, в присутствии лорда верховного судьи Англии, специального жюри, затем сэра Гардинга Докифарда, обвинявшего нас от имени торийского правительства, и нас самих, взявших на себя собственную защиту. Лорд верховный судья стоял за полное оправдание, говоря, «что никогда еще не выступали пред судом с более неосновательным и несправедливым обвинением», и назвал нас «двумя энтузиастами, побуждаемыми желанием оказать добро специальному классу общества». Затем он перешел к великолепному изложению закона о росте народонаселения и в заключении превозносил нашу отважность и доказывал честность намерений Нольтона. Все присутствовавшие на суде считали наше дело выигранным, но не принимали при этом в соображение религиозную и политическую вражду, существовавшую против нас в обществе и то, что в жюри участвовали такие люди, как м-р Вальтер из «Times». Через час и тридцать пять минут последовала резолюция, бывшая в некотором, роде компромиссом: «мы единогласно убеждены», гласил текст резолюции, «что книга, подлежавшая рассмотрению, направлена на растление общественной нравственности, но в то же самое время мы вполне очищаем подсудимых от всякого обвинения в неблаговидных побуждениях в издании книги». Лорд Кокбурн был смущен этой резолюцией и заявил, что на основании её ему придется постановить приговор о виновности. Тогда несколько членов жюри оставили свои места, так как было условлено (мы узнали это потом от одного из них), что если резолюция не будет принята такой, как она составлена, то жюри вторично пойдет совещаться, так как шесть членов, были против обвинения. Но старшина, сильно возбужденный против нас, хотел воспользоваться представившимся шансом добиться обвинения, и никто из сочувствующих нам не имел храбрости выступить против него в решительный момент, таким образом требуемая старшиной резолюция «виновны» прошла. Судья отпустил нас из суда, взявши с нас слово явиться через неделю для выслушивания приговора.
В этот день мы подали кассационную жалобу, требуя нового разбирательства дела, отчасти ссылаясь на формальные неправильности, а отчасти на то, что резолюция, оправдав нас в злом умысле, была в нашу пользу, а не против нас. В этом пункте суд не соглашался с нами, считая, что часть обвинения, говорившая о неблаговидности наших мотивов, была излишней. Затем поднялся вопрос о приговоре и верховный судья всеми силами старался выгородить нас; нас оправдали в намерении совершать противозаконное, и требовали только, чтобы мы подчинились решению жюри и обещали не продавать книги. Но этого обещания мы не хотели дать; мы требовали права продажи и намерены были добиться его. Судья уговаривал нас, доказывал, сердился. Наконец, принужденный произнести приговор, он объявил, что если бы мы уступили, он освободил бы нас без всякой кары; но так как мы идем против закона и выказываем к нему презрение, а это было большим преступлением в глазах верховного судьи, то он счел своим долгом назначить строгое взыскание, шестимесячное тюремное заключение каждому из нас, штраф в 200 ф. ст. и обязательство выплатить 500 ф. ст. в два года, и все это, как он опять повторял, потому что, «они бросили вызов законам». Но, несмотря на эту строгость, он вошел с нами в разного рода соглашения; он освободил нас, взяв с м-ра Брэдло подписку на выплату 100 ф. ст. Это поведение самым комичным образом противоречиво высказываемым им взгладам на наше дело и на нас самих, так как мы были приговорены оба вместе к уплате около 1,400 ф. ст., не говоря уже о тюремном заключении. Но тюрьма и денежный штраф. оказались пустым призраком, приговор не приведен в исполнение и мы очутились на полной свободе.
За этим последовало тревожное время для нас. Мы твердо решили продолжать продажу брошюры. Также ли твердо решили наши враги преследовать нас? Этого мы не могли знать. Я написала брошюру, озаглавленную «закон роста населения», приводя аргументы, которые убедили меня в истинности закона, в страшной нищете и нравственном падении, происходящих от чрезмерного количества детей и отсутствия всяких удобств в жизни. Я защищала ранний брак как средство для уничтожения проституции, и ограничение семей для спасения от пауперизма; наконец, знакомила с тем, что делает возможным ранний брак без этих дурных последствий. Эта брошюра была пущена в обращение как изложение нашего собственного взгляда на предмет и мы опять возобновили продажу Нольтона. М-р Брэдло перенес войну в неприятельский лагерь и начал дело против полиции, требуя возвращения нескольких захваченных ею изданий: дело он выиграл и получил обратно брошюры, с торжеством вернул их в наш склад и мы стали продавать их, сделав на обложке надпись: «спасенные из рук полиции». Мы продолжали еще в течение некоторого времени продажу брошюры Нольтона. до тех пор, пока не узнали, что издание больше преследоваться не будет; когда это выяснилось, мы прекратили дальнейшее издание, заместив его моим «законом роста населения».
Но самая тяжелая часть борьбы еще только должна была начаться для меня. Моей брошюре грозили преследованием, но его не последовало; более чувствительное оружие было теперь поднято против меня. В августе 1875 г. сделана была попытка отнять у меня опеку над моей маленькой дочкой. Ее хотели спрятать от меня навсегда во время её обычного посещения отца, у которого она ежегодно проводила один месяц; но я стала угрожать актом habeas corpus. Теперь же поняли, что дело о Нольтоне может быть присоединено к обвинениям, которыми меня преследовали, и что этот двойной заряд может оказаться действительным. Меня известили в январе 1878 г., что подано ходатайство об отнятии у меня ребенка, но что никакого решения не может последовать до следующего апреля. Мабель была в это время опасна больна скарлатиной, и хотя об этом сообщено было её отцу, я все-таки получила, сидя у её постели, копию ходатайства в суд. В ходатайстве сказано было, что «вышеупомянутая Анни Безант стремится при посредстве лекций и писаний пропагандировать принципы атеизма. Она также сделалась сообщницей отщепенца проповедника и писателя, по имени Чарльса Бредло, читая вместе с ним лекции и издавая книги и брошюры, в которых отрицается церковь и вселяется неверие».
Далее мне ставилось в обвинение издание Нольтоновской брошюры и книги «о законе роста населения». К несчастью, ходатайство пошлина рассмотрение сэра Джоржа Джесселя, человека благочестивого, соединявшего с ветхозаветным формализмом, мораль светского человека, скептически относящегося к всякому проявлению искренности, и презирающего всякую преданность делу, которое не пользуется популярностью. Обращение его со мной при моем первом появлении на суде показало мне, чего я могу ожидать. Я уже знакома была раньше с представителями английского правосудия и испытала на себе любезность и доброту лорда верховного судьи, полное беспристрастие и полную достоинства приветливость судей в кассационном суде. Каково же было мое изумление, когда в ответ на доклад м-ра Инга о том, что я лично явилась отвечать за себя, я услышала восклицание, сделанное громким, неприятным голосом:
– «Сама явилась? Дама будет сама защищать себя? Никогда не слыхивал ничего подобного! Неужели в самом деле эта дама будет сама говорить»?
Так как лондонские газеты были в свое время переполнены описаниями моих прежних появлений на суде для своей защиты и передавали похвалы лорда верховного судьи моей самозащите, то мнимое изумление сэра Джоржа Джесселя казалось несколько преувеличенным. После целого ряда подобных же замечаний, высказанных резким и неприятных тоном, сэр Джорж Джессель попытался добиться своей цели прямым запугиванием меня.
– Это и есть та дама?
– Я ответчица по этому делу, милорд, м-сс Безант.
– Так я советую вам, м-сс Безант, взять себе защитника, если у вас есть на это средства, и я полагаю, что они имеются.
– При всем желании повиноваться вашему лордству, я принуждена настаивать на своем праве лично защищать свое дело.
– Вы, конечно, можете поступать, как вам угодно, но я полагаю, что вам лучше было бы взять защитника. Предупреждаю вас, что в противном случае вы не должны ожидать от меня никакого снисхождения. Я не буду слушать вас долее, чем этого требует дело, и не позволю вам задевать посторонние вопросы, как это обыкновенно делают люди, сами ведущие свою защиту.
– Надеюсь не делать этого, милорд; но во всяком случае мои доводы будут находиться вполне под вашим контролем.
Это многообещающее начало может быть образчиком общего хода процесса – он был сплошной борьбой против умного прокурора, имевшего в лице сэра Джоржа Джесселя не судью, а своего сообщника. Только один раз произошла стычка между судьей и прокурором. М-р Инс и м-р Барнвел доказывали, что защита Мальтуса делала меня неподходящей опекуншей моего ребенка. М-р Инс. утверждал, что воспитанная мной Мабель погибнет для добра на земле, и будет обречена на вечные муки и в загробном мире. М-р Барнвель умолял судью признать, что моя опека над девочкой «будет пагубна для будущего положения её в обществе, не говоря уже о том, что ей предстоит в вечности». Если бы процесс не имел для меня такого глубоко трагического значения, меня очень бы смешила эта смесь точки зрения светских кумушек хороших видов на замужество и ада, выставленных как аргумент для того, чтобы отнять ребенка у его матери. Но м-р Барнвель забыл принять во внимание, что сэр Джорж Джессель еврей.
Я требовала опеки над ребенком на том основании, что права на нее предоставлялись мне при разводе, произошедшем уже после моего отречения от англиканской церкви, и что моих взглядов было недостаточно, чтобы нарушить законное постановление. С другой стороны было установлено, что уход за ребенком образцовый, и что моя личная репутация совершенно безукоризненна. Судья согласился с тем, что я очень заботливо воспитала ребенка, но утверждал что одного моего протеста против религиозного воспитания моего ребенка совершенно достаточно для того, чтобы лишить меня опеки. Воспитание вне церковного влияния он считал не только предосудительным, но зловредным, достаточным для того, чтобы погубить ребенка, и он решил, что уже из-за одного этого ребенку не следовало бы ни дня больше оставаться у такой матери.
С тем же ожесточением и с такой же грубостью нападал он на мою защиту Мальтуса и вызвал этим даже нарекания других судей, говоривших впоследствии с большим неодобрением о его поведении в процессе. Но как бы-то ни было, сэр Джорж Джессель был всемогущ у себя в суде, и он лишил меня ребенка, отказываясь даже отложить исполнение приговора до тех пор, пока я представлю апелляцию на его решение. Посланный от отца пришел ко мне в дом и девочку увезли силой, несмотря на её крики и протесты, на её слабость после болезни и возбужденное до крайности от ужаса и волнения состояние. Мне не разрешено было даже видеться с ней, и тогда я объявила, что если меня не будут пускать к ребенку, я буду ходатайствовать о восстановлении супружеских прав для того, чтобы видеться с детьми. Вследствие всех этих происшествий напряжение было до того велико, что я чуть не лишилась рассудка, проводила целые часы, шагая взад и вперед по пустым комнатам, и стараясь довести себя до изнеможения, чтобы иметь возможность забыться. Одиночество и тишина дома, в котором девочка моя была озарявшим все солнечным лучем и оглашавшей дом музыкой, давили меня как кошмар. Мне все слышалось протаптывание танцующих ножек и веселый звонкий смех, раздающийся в саду. Во время бессонных ночей мне недоставало в темноте ровного дыхания ребенка; каждое утро я напрасно ждала ручек, обвивающихся вокруг моей шеи и мягких, сладких поцелуев. Наконец здоровье мое не выдержало, у меня сделалась горячка и милосердной рукой заменила физическим страданием и бредом муку от сознательного отношения к моей утрате. Во время этой страшной болезни, каждый день м-р Брэдло приходил ко мне, работал у меня в комнате, кормил меня льдом и молоком, и ухаживал за мной как мать; он спас мне жизнь, которая казалась мне не нужной в первые месяцы мучительного одиночества. Когда я выздоровела, я стала пытаться уничтожить декрет, который м-р Безант получил во время моей болезни и по которому я лишилась права вести процессы против него, и даже председатель суда, узнавши, что мне не дают видеться с детьми и не выдают денег, высказал сильное порицание образу действия относительно меня. Наконец разводный акт 1873 г. признан был достаточным ограждением м-ра Безанта от всяких судебных ходатайств с моей стороны, будь то о разводе или о восстановлении супружеских прав, а параграфы, поручавшие мне опеку над девочкой, были отменены. Апелляционный суд утвердил приговор в апреле 1879 г., признав абсолютное первенство власти отца над правами матери. Это лишение матери всяких прав над ребенком возмутительная несправедливость, которую парламент уже устранил с тех пор, и муж не имеет уже в своих руках этого орудия пытки, тем более способного причинять страдания, чем сильнее и нежнее привязанность жены к ребенку.
Одного только я добилась в апелляционном суде. Суд признал мое право видеться с детьми и направил меня для получки разрешения к сэру Джоржу Джесселю, говоря, что не сомневается в его согласии дать разрешение. Ссылаясь на это, я обратилась к председателю суда и получила право свободно видеться с детьми. Но вскоре я увидела, что мои посещения поддерживают в Мабель постоянное волнение и тоску по мне, и что, видаясь со мной, она скоро начнет понимать возмутительные интриги, которые велись против меня в присутствии детей и будет страдать от этого. Поэтому, после тяжелой внутренней борьбы, я решила отказаться от права видаться с ними, чувствуя, что только таким образом я спасу их от постоянно возобновляющегося конфликта чувств, который непременно сделал бы их несчастными и повел бы к осуждению одного из родителей. Я решила уйти от них, чтобы спасти их от разлада, и решила, что лишившись собственных детей, я сделаюсь матерью для всех беспомощных сирот, которым только смогу помочь и заглушу свою душевную муку тем, что постараюсь облегчить горе другим.