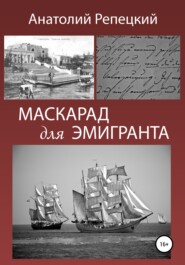По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Всему свое время
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Каспар поделился новостью со своей женой; к его удивлению она отнеслась к этому совершенно спокойно, поскольку это для Марии совершенно не новость.
– Не хотела тебя настораживать раньше времени, – просто ответила староста, – но учти, Марен – это еще не все, кажется, детей может быть больше.
Действительно, на следующий год деревня Кунан потрясла округу демографическим взрывом. Младенцев родилось даже больше, чем было создано Марией импровизированных супружеских пар; скорее всего, в этом прослеживалась выдающаяся роль Фломажо, недаром он получил кличку «ночной кузнец». Если прибавить к этому, что в их среде появился, невесть откуда упорный слух о том, что Франция, их прежняя родина снова ввязалась в войну с соседями, то легко можно догадаться, как легко и безболезненно умирала жившая в них прежде идея возвращения домой. После пережитых ужасов недавней войны – они упорно не забывались – им не хотелось участвовать больше в никакой другой.
– Не думаю даже, что можно увидеть среди нас человека настолько глупого, способного отправиться во Францию, зная, что там на него снова наденут мундир и погонят на войну, – высказался Гильом, – на войну, где его убьют или покалечат. Теперь уже точно, раз он уже один раз уцелел под Севастополем.
Но главным препятствием была все та же невозможность раздобыть лодку и документы. Здесь в этой заброшенной деревушке морякам ничего не угрожало, по крайней мере, сейчас; поселившись в домах, погибших на реке Альме крестьян, войдя в их семьи и приняв их фамилии, они механически стали ими, крепостными крестьянами Российской империи. Об этом в церковных книгах когда-то были сделаны соответствующие записи об их рождении и крещении, и теперь они продолжали существовать под защитой этих записей. Их считали крестьянами деревни Кунан; управляющий, так же как и помещик этих нескольких окрестных деревень сложили головы в сражении на Черной речке. Единственным должностным лицом, осведомленным о том, кто они на самом деле, была староста Мария, которая все это и организовала. Была, правда, еще церковь святых Анны и Захария построенная Михаилом Семеновичем Воронцовым еще в 1838 году, и они обязаны были ее посещать. Но именно в этот момент в ней сменились священнослужители, кроме того, протекция старосты и, наконец, тайна исповеди позволили хранить их инкогнито.
Теперь же, когда их команда после гибели стряпчего из чувства предосторожности перестала бывать в городе, Георг, наоборот, стал там частым гостем. Мать Марии Александра Афанасьевна тепло приняла юного француза и определила его на место своего внука, перенеся на него всю свою любовь, предназначенную павшему на Альме Витюше. Георг топил печку, ходил на рынок и помогал по хозяйству, куда входили собака Шарик, кошка Афина и коза Стерва. Козу первоначально звали Серна, за кроткий нрав и большие глаза с миндалевидным разрезом, но это было еще во времена ее юности, а когда козочка подросла, то за свой крайне вздорный характер заслуженно и навечно получила новое звучное имя. Собака и кошка были полностью на плечах бабушки Шуры, но с козой она справиться не могла, да и не желала с ней связываться, этим сложнейшим делом занимался ее покойный супруг. Не появись в доме Георг, дни рогатой, несмотря на два-три литра прекраснейшего молока ежедневно, были бы сочтены. Теперь все погожие дни коза проводит за городом на бечевке, и он наведывается к ней пару раз в течение дня. Наевшись вдоволь травы, коза любит подолгу стоять на краю крепостного рва, рассматривая свое отображение в стоячей воде. Георг сидит рядом на камне, ему тоже видно отсюда много интересного. Взять хотя бы этот ров: он довольно внушителен, как в глубину, так и по ширине. Когда русские солдаты, штурмующие город под началом генерал-лейтенанта Хрулева, подбежали к нему, то оказалось, что их лестниц в два аршина длины недостаточно, чтобы перебраться на другой берег. Ров был на целый аршин шире и глубже и полон воды. И те воины, кто пытался преодолеть его без лестницы долгое время вообще не могли выбраться наружу, настолько круты и осклизлые были его берега. И еще нужно учесть: все время по ним сверху со стен и крыш домов турки вели прицельный огонь.
Во время вечернего чаепития Георг выкладывает все, что услышал там, у рва от такого же пастуха, как и он сам.
– А что, перед штурмом нельзя было разведать, какой глубины ров? – спрашивает он и смотрит на Василия Васильевича, отставного майора, участника штурма Евпатории. Но тот молчит почему-то, набивая трубку душистым самосадом, привезенным ему из-под Феодосии. Кроме него и Георга за столиком под шелковицей Иван Дмитриевич – брат покойного хозяина дома и Егор Иванович, денщик майора. Иногда, после того, как на столе уже появляется самовар возле них остается и Александра Афанасьевна; она следит, чтобы к чаю потребляли варенье и печенье, все ее собственного приготовления. Кроме этого, она еще вставляет свои замечания, и с ними считаются. Как-никак она местная жительница и всю эту войну видела из окон собственного дома. Вот и сейчас она берет слово вместо майора.
– Как же они могли разведать, если вокруг одни басурмане. Русскому человеку к городу не подойти – его враз схватят, так же как и не выйти. А татары, те все за турок были.
Теперь все смотрят на Василия Васильевича; он тоже местный, и хотя во время оккупации находился в действующей армии, о многом, что здесь случалось, осведомлен.
– Александра Афанасьевна, верно, говорит. Вы посудите, в городе на одиннадцать или двенадцать тысяч людей две трети были татары, – майор окутывает окружающих приятным ароматом «дюбека», – а те, оставшиеся четыре, тоже ведь не все русские. Большинство – это греки, караимы, армяне да евреи; так что русских, скорее всего, было менее всех. Только татары держались сплоченной массой, все же остальные разделялись на отдельные группы чаще по профессии. Греки были баркасники и занимались рыбой, караимы солью и торговлей, евреи же, каждый держался своего дела, не примыкая ни к каким обществам. Городские чиновники были русскими, но большинство их бежали, а тех, кто остался, турки тотчас арестовали. Поэтому доносить нашим командирам было некому. Хотя беженцы из города, известно были, только думаю, что человеку бежавшему ночью пусть даже и через этот самый ров, было не до его размеров. Только бы спастись!
– Как же вам самой удалось уцелеть? – интересуется Егор Иванович у хозяйки, – страсти всякие рассказывают про басурманов! Вот вы же остались, не уехали. Аль неправда все?
– Я бы уехала, Егорушка, да не могла; ведь уехали те, кому, было на чем ехать. А здоровые, кто мог передвигаться хоть как-то, все пеши ушли. Всё люди бросили и ушли. Я же не могла, со мной матушка моя покойница, царство ей небесное, осталась. Она совсем неходячая была, а татары лошадей с телегами никому не давали, ни за какие деньги. Этим они, между прочим, явно обнаружили свою приверженность к нашему врагу. А как уцелела, сама не знаю. Возможно, спасло нас поселение на квартиру французского офицера; дом наш, вы видите, приличный, и недалеко от моря. Вначале нас совсем намеревались выселить, но услыхав, что мы с мамой говорим по-французски, оставили. Нас поселили в маленькую комнату, а залу и еще две комнаты занял постоялец. Должна вам сказать, наш хозяин важный был; во дворе палатку поставили для охраны и турки или татары к нам вовсе не заглядывали. Не думала я, что придется к постояльцу обращаться, но пришлось. Случай такой вышел. Покидая Евпаторию перед высадкой в ней неприятеля, губернское начальство приказало полицейским уничтожить городские запасы зерна, поскольку вывезти его уже не успевали. Они принялись дружно поливать морской водой и известью, что должно привести его к порче. Дело двигалось довольно бойко, пока по доносу татар не появились вражеские солдаты и не арестовали городовых. Полицейских объявили изменниками турецкому правительству и приговорили, что они будут повешены. Среди них был сын моей сестры, и она безутешно рыдала в моей комнате и умоляла меня помочь спасти его жизнь. Я обратилась к французу, мы уже знали, что он был в чине полковника, и он обещал разобраться. Через некоторое время он, несколько смущаясь, сообщил мне, что вопрос слишком серьезен. Сделать пока ничего нельзя, так как дело находится в руках турецких властей, но просил нас пока не отчаиваться. Я не знала, как быть. Мне пришлось обманывать сестру, говоря, что все решится, а пока что сама плакала вместе с ней. Но действительно, вскоре мы услышали, что вместо Топал-Омер-паши комендантом города назначен французский адмирал. Адъютантом и переводчиком у него был поляк Токарский, женатый на дочери евпаторийского уездного судьи. В борьбу за жизнь наших полицейских теперь смогла включиться супруга судьи, а также и наш квартирант. Что-то из этого, но скорее – все вместе – сработало, смертная казнь была отменена, вместо этого заключенных на первом же корабле отправили в ссылку в Лондон. Поселили их там, на вольных квартирах и выплачивали приличное жалованье. Настолько приличное, что они могли регулярно присылать богатые посылки крымской родне, а после замирения благополучно возвратились в Евпаторию.
Рассказы бабушки Шуры для меня были очень интересны, да и не только для меня, но и для всех остальных, поскольку во время войны они были в действующей армии и о жизни горожан имели смутное представление. Многое мы услышали от нее, но она сама упорно считала себя не слишком осведомленной, особенно о том, что происходило за пределами города, потому пригласила однажды на ужин, нарочно для нас, своего дальнего родственника помещика Василия Саввовича Ракова. Всю войну провел он в Евпаторийском уезде, где и проживал, потому был не только в курсе всех событий, но и непосредственным участником многих из них. Георг запомнил его рассказы почти дословно, и часто размышлял затем над услышанным, все более удивляясь стране, в которой он вдруг очутился.
– Утром первого сентября 1854 года в виду Евпатории появился вражеский флот около восьмидесяти кораблей, а на следующий день была высадка. После нее неприятель первым делом занялся добыванием фуража, для чего рассылал в окрестности многочисленные отряды, а затем принялся за укрепление городских стен. На строительных работах безжалостно использовалось и городское и сельское население. Город обнесли довольно высоким валом и оградили глубоким рвом. После этого турки почили от своих дел и с необыкновенно важным видом победителей предались обычному кейфу. За чашкой кофе у них бесповоротно было решено, что Крыму осталось еще недолго ждать до присоединения к Турции. Должен заметить, что отношение турок к населению Евпатории было вполне европейским. Относительно же татар, которые косо смотрели на русских при занятии города, говорили, что они в тот же день убили нескольких христиан. Я не могу точно подтвердить, но … слухом земля полнится. Мне передавали, как отнесся к этому комендант города Топал-Омер-паша. Он говорил, что хотя по Корану убиение христиан, особенно во время войны, не представляет ничего предосудительного, все же не стоит забывать, что на стороне Турции сейчас воюют христианские государства – Англия и Франция. И именно только потому нельзя избивать христиан – это вызовет неудовольствие союзников. Отношение же татар евпаторийских, как городских, так и уездных в общей массе со дня прибытия неприятельских войск было таково. Хотя они и не могли скрыть своей приверженности к туркам, но все же не выражали ни чем своего озлобления против властей и народа. Если же в уезде мы и встречали с их стороны грабежи и разбои, то исходили они от отдельных личностей беспокойного характера, личностей, которые и мирное время проявляли именно эти свои пороки. Они собирались в вооруженные группы и врывались обычно ночью к зажиточному хозяину, чаще всего таковыми оказывались русские или греки. Разбойники заявляли, что их послало турецкое правительство за «контрибуцией», на основании чего, выполняя волю султана, они требуют выдачи всего скота, в случае, если им скота не дадут, то они призовут турецкие войска и тогда возьмут не только скот, но и все имущество. Что здесь было делать? Иногда татары-грабители, таким образом, сводили кое с кем свои личные счеты. Тут я не могу не упомянуть имя благородного Мемет бея Балатукова. О нем надо заметить, что хотя князь был и мусульманин, но душой он был предан России и любил русский народ. И он оказал нам, русским, большую услугу; благодаря сильному влиянию, которым князь пользовался среди татар, мы обязаны сохранением многих русских деревень. Дело в том, что татары тогда отличались гораздо большим фанатизмом, чем теперь; не трудно было турецким муллам поднять их против христиан. И в этом отношении Балатуков выступил защитником русских; он вовремя сумел остановить общее волнение татар, и только малая часть их, отъявленные башибузуки, не поддались его увещеваниям.
В этом месте Василий Саввович остановился и посмотрел на часы, висевшие на стене.
– Я вас еще не утомил окончательно? А то эта тема для меня волнующая и говорить могу о ней сколько угодно. Ну, если нет, то хотелось бы отдельно рассказать вам о тех интересных метаморфозах, происшедших в жизни крымских татар, после того, как в Евпатории высадилось турецкое войско. Самый наглядный пример: из города в окрестные деревни выезжали отряды вооруженных татар, которые от имени коменданта или, как они его называли – правителя города – Топал-Омер-паши и грабили местных помещиков. Тех же, кто сопротивлялся, не желая отдавать скот, они связывали и силой приводили в город, где турецкие власти подвергали их аресту и принуждали работать на городских укреплениях. Когда же вместо паши на должность градоначальника заступил французский адмирал, то приводы помещиков в город прекратились, ибо союзники никак не одобряли подобные действия турок. Но вместе с турецкой армией в Евпаторию прибыли муллы в несметном количестве; вот тут-то и сказалось их пагубное влияние на татар, как города, так и уезда. Нам неизвестно полное содержание их проповедей, но, как утверждали христиане, понимающие татарский язык, а таких в городе было большинство – суть их сводилась к призыву собираться под священное знамя великого султана. Бросайте все и идите к своему повелителю, и вы все получите от него великую милость. Весть эта с неимоверной быстротой в первые же дни распространилась по уезду, и сельские татары, не только евпаторийские, но и других уездов стали ежедневно большими толпами стекаться в город. Они бросали аулы, с фанатическою радостью шли к своим единоверцам, мечтая о будущем величии Турции и гибели России. Но как жестоко они ошиблись, как сильно поплатились за свои надежды. В спешке они брали только самое ценное имущество да угоняли скот, да и то не весь. Мне самому пришлось посетить несколько таких брошенных евпаторийских аулов. Вид их был ужасно жалкий. Уныло стоят два-три десятка домов, нигде не души; мертвая тишина, лишь изредка залает или, что еще хуже, завоет брошенная собачонка. В самих хатах и во дворах все разбросано в беспорядке. Впечатление, что не один – два человека, а сразу вся деревня была на ногах, суетилась, металась, в спешке хватая все подряд и так же все подряд бросая снова. И ушли все сразу, повинуясь единому порыву. Чуланы и ямы были завалены отборным зерном. Все это было теперь ничье, каждый мог стать его хозяином. Конечно, так оно на самом деле и было. Многие помещики воспользовались случаем. И кроме них я лично знал многих бедняков, которые только этим и занимались. Огромными повозками разъезжали они по брошенным аулам и забирали все, что можно было продать, причем с большой выгодой. Но надо сказать, что не многие из этих людей смогли удержать легко нажитое: у большинства, все, что легко далось, так же легко и ушло. Вся причина была в кутежах, которым народ предавался в ту пору безо всякого удержу, кто для того, чтобы вином заглушить тяжелые мысли, кто от радости от столь нежданного обогащения. Из-за пьянства, вновь образовавшиеся богачи, так и прежние из богатых превратились в нищих.
Но больше всех пострадали татары. Они надеялись, что султан оценит их преданность и вознаградит каждого по-царски. Вначале действительно было похоже на то, что их надежды оправдаются. Турецкое военное начальство, чрезвычайно нуждаясь в рогатом скоте, первых переселенцев принимало с признательностью и обещало доложить о них султану. Но, когда их в Евпатории появилось больше, чем надо было, отношение к ним резко изменилось. Целые толпы татар бродили уныло по улицам, не находя себе пристанища и исполняя разные тяжелые работы; положение их стало крайне жалкое. Лишившись всего, что копили целыми годами, и, придя сюда без ничего, только с радужными надеждами, которые вселили в них муллы, – они разочаровались до крайности и до такой же степени пали духом. Кроме того, в городе грязь и вонь от такого скопления людей и скота стали просто невообразимые. Невозможно даже себе представить, как в городе, рассчитанном ранее на проживание десяти тысяч человек, размещалось более ста тысяч, да еще скота столько же, если не больше. Снизойдя к их просьбам и безвыходному положению, турецкое правительство решило посадить их на корабли и отправить в Турцию. Но здесь подстерегала еще более страшная участь: корабли, на которых они плыли, настигла ужасная буря и большинство несчастных беженцев погибло. Следует заметить, что в те времена Черное море с особой свирепостью набрасывалось и отправляло на дно всех, независимо от того, стремились они в Крым или бежали оттуда. Говорят, что в один только шторм, что разразился в начале ноября пятьдесят четвертого года у крымских берегов, вражеских судов погибло около двух сотен.
Вспоминая все пережитое в то время, я, как очевидец тех событий совершенно беспристрастно могу сказать, что наши татары за весь период крымской войны не заслуживали ни одного справедливого упрека. В продолжение нескольких месяцев они были полными хозяевами уезда, где в тот момент не было ни единого представителя власти, ни одного солдата. Подстрекаемые при этом фанатическими проповедями турецких мулл, они удержались на стезе послушания, остались кротки и умерены, насколько кроткой на их месте вряд ли могла быть любая другая нация, – заключил Василий Раков свой рассказ.
Нам он всем очень понравился, но вечер воспоминаний был бы не полным, если бы в нем не нашлось места для штурма Евпатории 5 февраля 1855 года и наши взоры тут же опять обратились к Василию Васильевичу. Однако старания наши не увенчались большим успехом.
– Милые мои, да об этом уже столько написано генералами, да столь знаменитыми, как Тотлебен или Богданович, что уж мне, майору, добавить к этому? Скажу только, что компания была славная и провели мы ее на должном уровне, что бы наши злопыхатели ни плели про это. А то, что город не взяли, так мы его и не могли взять при таком раскладе сил, которых у супостата было больше, особенно артиллерии, ведь те пушки, что были на судах стоящих на рейде, доставали ядрами даже до нашего тыла. Так вот, хотя главная цель – взятие города – не была достигнута, все же эта попытка принесла русской армии явную выгоду. Из страха, что штурм может повториться, неприятель вынужден был держать в Евпатории крупные силы, лишенный всякой возможности применить их в Севастополе.
– А я вам скажу, дорогие мои, – вмешалась Александра Афанасьевна, – как только начался штурм и наши пушки стали бить по укреплению, сколько страху нагнали они на турок! Начали они тут же свою кавалерию грузить на корабли, а как у них еще стали рваться погреба пороховые да ящики зарядные, то они и свою артиллерию на погрузку потащили. Нам все в окно видно было, мы уж обрадовались, думали, в бега бросится вражина, но к обеду наше наступление остановилось и погрузка на корабли тоже.
Егор Иванович приносит готовый самовар, бабушка разливает всем свежий чай, накладывает в розочки варенье, раскладывает бублики, блины; Георгу, как младшему самые лучшие порции. Под огромной раскидистой шелковицей мирная картина чаепития, как будто совершенно недавно и не было ужасной войны и страшного горя на маленьком кусочке крымской земли. Но оно было, и все об этом помнят и никогда не забудут.
– Закончилась война, ушел неприятель, – задумчиво произносит Раков, – но мы-то остались, и мы должны помнить о защитниках нашего отечества. Они лежат за околицей города и ждут нас, коленопреклоненных возле их могил. На русского солдата в те времена навалилась невиданная иноземная сила в расчете одолеть его легкой победой. И тогда стало ясно нам всем, что надо делать, что надо отстоять свое отечество, отстоять свою землю, прогнать врага. Необходимость обороны стала всем понятна, Россия сосредоточилась на этой цели. Супротив врага встал русский народный дух. Защитники Крыма показали всем, что крепость и сила русского народа не в штыках и пушках, а в нем самом, что укрепления его не бастионы и форты, а собственная грудь и кровь. Любовь к родине движет русским народом и творит чудеса. Однако дальше этого, дальше именно такой обороны, тогдашняя Россия не могла пойти; она не в силах была обороняться от тягостных требований Европы, зашедших за пределы необходимости. Многое может сделать русский народ, но в то время, по меткому выражению, не помню кого, он мог только умирать за Россию, но не умел жить для нея!
Все это припомнилось Георгу, как только они вошли в знакомую улицу, припомнилось так отчетливо, будто бы и не были отделены те события целой вереницей лет. А сейчас у него, где-то в самом уголочке души, возникла и тихонечко звучит неземная музыка, в ней слились, казалось, уже забытые и в то же время никогда не забываемые звуки его юности, протекавшей когда-то в этом старинном доме. В этих звуках голоса, увы, давно ушедших людей, воспоминания о них приятны и вызывают легкую грусть; в этой музыке шум близкого моря, звон церковных колоколов, крик муэдзина, резвящихся детей, уличных торговцев и чаек. Но он пройдет мимо старого дома, не останавливаясь, лишь украдкой прикоснувшись ладонью к его теплой стене; в нем давно уже живут чужие люди, с которыми он даже не знаком. Внук с тележкой отправится на Пересыпь, к родственникам, а он поспешит в церковь к своему духовнику и другу, священнику отцу Никифору.
Заглянув за ограду, Георг убедился, что ничего нового в мире не произошло: отец Никифор, как и всегда в любую погоду, за исключением разве что проливного дождя, работал в церковном саду. Они обнялись, и Георг попросил благословления. По случаю гостя садовая лопата будет отложена в сторону, под старой акацией они станут пить чай, и Георг, может быть, уговорит батюшку рассказать ему еще раз о том дивном случае, невольным свидетелем которого ему выпало быть почти три десятка лет тому назад.
Вечером перед тем самым днем знакомый крестьянин из Отар-Мойнак привез большую телегу прекрасного перегноя и свалил его возле западных ворот храма. Теперь все это предстояло перенести внутрь к могилкам Якова Чепурина и Иосифа Сербинова на восточную половину двора. Сам перегной смешан уже с дерновой землей, но в ней оказались мелкие камешки и корешки, и ему приходилось тщательно перебирать все это богатство, прежде чем погрузить в корзину. Когда он сидел возле кучи еще с первой корзиной, прошли мальчишки, два постарше с удочками и третий, совсем маленький, с жестяной банкой. Они поздоровались и на вопрос: куда вы так рано, ребята? дружно ответили, рыбачить, дедушка! Через полчаса они предстали его взору уже плывущие в лодке наискосок в сторону порта. Он видел, как они остановились довольно далеко от берега и закинули удочки. С восточной стороны двора они ему были не видны, но когда он приходил к перегнойной куче за очередной порцией, то первым делом смотрел в сторону рыбаков; что-то тревожное сидело в его душе. И вот, взглянул машинально снова в ту сторону, и не сразу его сознание смогло охватить смысл увиденного: залив был пуст! Паническим взором он обшаривал горизонт, метался им вдоль берега – лодки не было нигде. Чистая безмятежная гладь воды, слегка порозовевшей в лучах восходящего солнца, совершенно пуста, нет даже ни одной чайки. И тут он увидел две круглые детские головки, мелкими толчками плывущие к берегу. Две! только две! а где же третья?! И вдруг над морем, от того места, где была прежде их лодка, пронеслось стремительно что-то белое и исчезло за храмом с противоположной стороны. Отец Никифор немедленно бросился туда и увидел лежащего на траве мальчика. У него не было никакого представления о том, как он здесь оказался, да и не было времени совершенно предаваться размышлениям; он припал к его груди и долго держал на ней ухо, пока услышал там положенное тук-тук, тук-тук, затем прислушался к устам и уловил выходящее из них дыхание. И тогда счастливые, облегчающие и душу, и сердце слезы побежали из его глаз. Слезы благодарности к Всевышнему. Мальчик был жив! Он снова поспешил к западным воротам и с облегчением высмотрел лежащие на песке две фигурки. Конечно, если бы их сейчас сюда, подумал батюшка, но тут же осудил себя: слишком много я захотел! И пошел в сад. Мальчик лежал в прежней позе, но щеки у него уже чуточку порозовели, и грудь равномерно вздымалась – он спал. Тревожить его сейчас нельзя никоим образом, можно испугать ненароком, а вот чай к его пробуждению заварить просто необходимо. И он отправился в придел поставить чайник. После его возвращения ребенок, наконец, открыл глаза и сел; он долго смотрел перед собой, и, казалось, ничего не видел. Затем начал осматриваться и увидел священника, но в его взгляде ничего не изменилось – он с одинаковым выражением взирал на деревья, ограду и храм, как и на человека. Батюшка рискнул привлечь его внимание и шевельнулся. После этого в лице ребенка что-то изменилось, кажется, он пытался что-то вспомнить и вопросительно взглянул в глаза отца Никифора, словно надеясь прочесть в них подсказку. Губы его шевелились беззвучно, наконец, речь появилась.
– Я утонул? Где я теперь? А ты кто? – он выдал сразу три вопроса, и они явно утомили его.
– Я батюшка, помнишь, ты приходил в церковь с мамой в прошлое воскресенье?
Он вспомнил, кивнул согласно и протянул к священнику руки. Тот поднял его и понес к храму, сейчас будем пить чай. Хорошо?
– Хорошо, – ответил малыш, – а у тебя сильные руки. Теплые и сильные, как у нее!
– У нее? – священник остановился. – А она кто?
Мальчик закрыл глаза, помолчал, затем снова их открыл и улыбнулся.
– Она тетя. Она …– он запнулся, – нет, она птица. Или нет, она тетя с белыми крыльями.
– Ты ее узнал? Ты видел ее когда-то раньше.
– Нет, не узнал. Но я ведь не видел ее лица, только у нее был голос, как у моей бабушки.
– Голос? Ты слышал голос? – отец Никифор снова остановился. – Что же она сказала?
Она сказала …– он вдруг умолк, и батюшка проследил за его взглядом. К церкви со всех ног мчались его компаньоны. – Но я не помню, что она сказала. Что-то хорошее, а не помню.
– Вовка! Ты как? – закричали мальчики, еще не добегая до ограды.
– Я хорошо! Я нормально, – и он заерзал, явно собираясь высвободиться. Но его не отпускали. – Пока ты выпьешь чай, они тебя подождут, я тебе обещаю, – сказал батюшка и унес его в трапезную. Там он ему налил кружку, дал мятный пряник и вышел к ограде. Снизу смотрели две перепуганные и заплаканные мордашки, но все это – испуг и слезы – было для них уже в прошлом, а сейчас они уже почти счастливые. Потому как главное – все живы!
– Ну, расскажите мне все по порядку. Только, чур, не врать! Чья лодка?
– Лодка? Кажется деда Акима, но мы точно не знаем, мы замок, того … гвоздиком. Открыли и поплыли, а потом, когда остановились, в нее вода набираться стала, да так, что грести уже невозможно, не двигалась она больше. Ну, мы Вовку оставили вычерпывать, думали, что он не доплывет, а сами за помощью … Оглянулись, а уже все … И еще нам показалось, что прилетела большая белая птица и Вовку из воды вытащила. И понесла сюда. Ну, а мы думали … А что теперь?
Отцу Никифору понятно, о чем они думали. – Теперь идите к деду Акиму и падайте на колени, он добрый и все простит, – объяснил он мальчишкам. – В остальном родители разберутся.
Вовка уже выпил чай и сразу бросился к забору, собираясь покинуть церковный двор кратчайшим путем, но наткнулся на указующий жест в сторону ворот и побежал вокруг. Встреча была бурной и радостной; дети хлопали друг друга по плечам и выкрикивали что-то бессвязное, но очень веселое, что нельзя было понять взрослому уху. Они были довольно далеко, когда Вовка вдруг оглянулся и, увидев стоящего у ограды батюшку, бросился назад.
– Я вспомнил! Батюшка, я вспомнил! Когда она несла меня, она сказала мне тихонько: не бойся, внучек, я с тобой. Я спасу тебя сейчас и всегда буду приходить, и спасать тебя. – После этих слов мальчик поднял вверх лицо, оно стало у него вдруг серьезное, как могло быть у взрослого, но у него оно еще серьезней; их взгляды встретились.
– Это, правда, дедушка? – в его взгляде не только любопытство, в нем еще и тревога.
– Правда, внучек. Но ты должен всегда помнить свою бабушку, как только ты ее забудешь, тогда она больше не придет. Помнить и молиться. Я тебя научу.
– Хорошо. Я ее никогда не забуду! – тревога исчезла, его лицо просветлело, и он убежал.
Священник хорошо помнил старенькую Матрену. И не только он: многим в городе была известна общительная и доброжелательная бабушка Мотя, и теперь ее часто вспоминали при случае. Несмотря на возраст, ее трудолюбие восхищало, а энергия казалась неиссякаемой. Она обстирывала богатые семьи и убирала у них же; на небольшом огородике возле дома выращивала цветы и зелень, которые сама продавала на рынке; нянчила чужих детей, не забывая своих собственных. Интересно было видеть ее ни свет, ни заря спешащей на рынок с двумя корзинами в руках с привязанным на спине внуком. При всем этом она работала дворником городской управы, и ее участок возле Каменных ворот был всегда образцово чистым. Поговаривали, что она еще иногда сторожила ночью на рынке, подменяя своих подруг при случае. Кроме служебных, у нее еще были и общественные хлопоты, и самой важной из них – сборы умерших в последнюю дорогу и их отпевание, причем самых бедных, с которых она никогда не взяла ни гроша, умудряясь сама помочь хоть копейкой. И всегда старалась для церкви, убираясь внутри и снаружи, и приношениями: какими бы они ни были для самой церкви, для нее они всегда были значительными.
Заболела она вдруг, внезапно и тихо отошла без мучений. Отца Никифора позвали, когда поняли, что уже не только дни, а уже и часы ее сочтены. Когда он совершал требу, она заплакала.