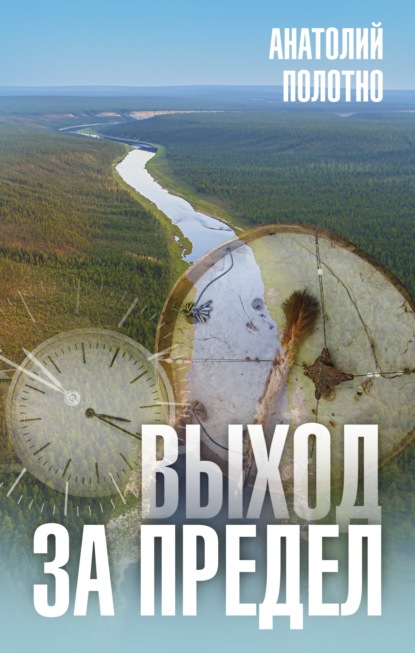По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Выход за предел
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А что это? – и он открыл следующий предмет на своем столе.
– Это, – проговорил изумленно Евдоким Васильевич, – икона. Очень древняя икона. Работы, пожалуй, что Феофана Грека. Невероятно!
И поднял глаза на хозяина кабинета.
Тот ухмыльнулся и, открыв следующий экспонат, сказал: «Сюда смотри!» Заключенный перевел взгляд на стол и обмер. На сукне лежали крупные, хорошо сохранившиеся украшения звериного стиля, которым по возрасту было, может быть, не менее тысячи лет. Когда он сказал об этом гражданину начальнику, тот накрыл на столе предметы старины, вызвал охрану, и зэка этапировали в пересылку, оставив его там на долгие восемь лет подметать библиотеку.
Два года он регулярно бывал в этом большом кабинете, где проводил поверхностную экспертизу разных произведений искусства на предмет авторства, возраста и ценности. Имеется в виду художественной ценности. Однажды его подняли ночью и отвели под конвоем к «коллекционеру» (так он стал про себя, конечно, именовать руководителя Губчека, гражданина начальника Семена Оскаровича Забегай. Тот, как обычно, без всяких предисловий задал арестанту все тот же вопрос: «Что это?»
Евдоким Васильевич посмотрел и аж отшатнулся. На столе лежал мозаичный лик, размером 20 на 30. На золотом основании, обрамленный золотым же окладом удивительной ажурной работы. Лик Спасителя был набран драгоценными и полудрагоценными камнями и был будто живым! Он светился изнутри, излучая свет мучительный, нереально естественный, нерукотворный. Начальник, перехватив восторженный взгляд эксперта, жестко произнес:
– Автор, век, цена?
– Бесценен! Этот лик бесценен! Ему нет цены! – произнес потрясенный увиденным Евдоким Васильевич Опетов.
Подневольный эксперт, зэк, враг народа был счастлив!
– Век. Автор, страна-изготовитель? – снова жестко оборвал его Забегай.
– Предположительно, Византия. Конец прошлого тысячелетия. Автора невозможно определить. Скорее всего, венецианец. Те – большие мастера мозаики.
– Конвой! – крикнул, накрыв лик, гражданин начальник. – Увести!
И потрясенного сидельца увели. А вечером следующего дня его саданул под сердце другой сиделец, из уголовников. Да не добил падлу буржуазную. Добил бы, но заточка сломалась о ребро. Опетова отправили на больничку и там такой же зэк из недобитых, прооперировав, вернул его с того света, приговаривая: «Рано тебе еще, Евдоким Васильевич, лик-то святой созерцать, о котором ты все время бредил». Врача звали Белов Сафрон Акимович. Евдоким Васильевич помнил его до конца дней своих и благодарил за то, что спас его и жену его любимую ? преданную, талантливую девушку из детдома, Ульяну Алексеевну, когда принимал у нее роды. В честь своего спасителя они и назвали сына Сафроном.
Познакомились расконвоированный зэк Евдоким и детдомовка Ульяна на курсах по искусству. Лекции при музее читал Евдоким Васильевич, а слушала Ульяна Алексеевна с немногочисленной шумливой публикой. Ульяна неплохо рисовала, ей очень нравилась живопись. А Евдоким совсем плохо рисовал, но знал о живописи все. Так они познакомились и полюбили друг друга. А поженились позже – жить было негде, обитали там же, в музее, в тесной кладовой. Нищета была невозможная, хотя оба работали уже вроде не за пайку, а за деньги. Евдокима Васильевича очень тяготило это обстоятельство – что он ничего не может дать своей любимой. А Ульяна Алексеевна, видя это, успокаивала: «Милый мой, дорогой, да ты мне подарил то, чего не каждая женщина удостаивается в жизни. Ты подарил мне весь свой прекрасный внутренний мир. В котором мне так уютно, спокойно, интересно и хорошо, что я боюсь испугать свое счастье. Ты увел меня от тоски одиночества, ты подарил мне невиданную доброту и ласку. Я так люблю тебя и так тобой любима». И им стало легче идти рука об руку и переносить все безумие этой проклятой реальной жизни, все ее тяготы, горести, голод, холод и несправедливую муку людскую.
Когда в тюремной больнице родился Сафрон, жить стало еще труднее. Но радости прибавилось. Они хлопотали над ним вместе и попеременно, целуя друг дружку и его. Евдоким Васильевич просто разрывался на части, читая лекции в музее, в клубе и во всех школах и училищах города. Писал научные статьи, монографии, публикации, популярные очерки о древностях русских и рассылал их во все газеты и научные журналы за жалкие копейки. Но денег все равно не хватало. Пока однажды его не вызвал к себе директор музея, простой деревенский мужик, неграмотный, но хозяйственный, вороватый, но партийный. Сердобольный был человек, справедливый, но крепко пьющий. Благодаря ему они и ютились в музейной кладовке.
– Васильич, тута оне все ходют да ходют, повадились. Фронтовики-то енте. Придет, принесет чутушечку, будто угостить, а самя все показывают да выспрашивают чо та, чо эта, да сколько стоить, – пожалобился Егор Иваныч Евдокиму Васильевичу. – А я видь человек простой, как Чапаев в кине, академиев не кончал, выпить-то с емя выпью, а сказать-то неча. Вот и пришла мне мысля – надо оценочную открыть при музее-то нашем. Посажу, подумал я, тебя оценщиком, оклад назначу небольшой и процентик с вала.
Евдоким Васильевич, как услышал про оклад, даже и вникать не стал, о чем говорит ему директор. Встал со стула – поселенец все же, и сказал:
– Согласен, Егорий Иванович! Когда приступать, гражданин начальник?
– Так в субботу и приступай. Барахолка-то у них в центре-то с утра, так оне вначале туды, а теперича – к тебе. Иль наоборот: теперича – к тебе, а потом – туды. Ты поставь стол в прихожей, да и приступай.
Евдоким Васильевич опять ничего не понял, но в субботу с утра притащил стол в коридор музея. А там народу полно – с опаской посматривают друг на друга. Он поставил стол в коридоре, оглядел всех и пошел к директору в кабинет.
– Егорий Иванович, в коридор стол нельзя, народу много. Нужна конфиденциальность, – проговорил Евдоким Васильевич директору, маявшемуся с похмелья.
– Чаво нужна? – спросил начальник.
– Комната отдельная нужна для приема граждан, – ответил Опетов.
– Да садися хоть здеся, у меня, только пущай Ульяна твоя потом полы вымоет, а то натопочут, убирай за имя, – ответил директор, махнул рукой и ушел.
Так Евдоким Васильевич Опетов стал оценщиком музея, и кончилась их голодная жизнь. Мужики-фронтовики несли к нему оценивать все, что привезли с войны. Часы, шкатулки разные, посуду, подсвечники, гармошки, поджиги, игрушки-безделушки. Реже – картины, гобелены, гравюры, серебряные и золотые украшеньица, старинные монеты разного достоинства. И все-все-все, что имело в их глазах хоть какую-то ценность и помещалось в солдатский вещмешок. Часто фронтовики, а чаще – фронтовички, не имея рубля в кассу за оценку, или не желая платить, рассчитывались продуктами, которые выращивали или заготавливали сами: картошка, капуста, репа, свекла, морковь, грибы, варенья разные, яйца, творожок, молоко, хлеб… А по большим праздникам несли рыбу, курей, колбаску домашнюю и сало. А уже подросший Сафрон, сидя на коленях отца своего Евдокима Васильевича, с удовольствием уплетал тут же все, что принесут. Сын все дневное время находился с отцом. Потому как мамка Ульяна Алексеевна после короткого декретного отпуска вышла работать на фабрику штамповщицей. В четыре-пять лет Сафрон уже читал сказки Петра Ершова, который, к слову, был уроженцем Тобольска и жил когда-то здесь. Любимой его сказкой был «Конек-горбунок». Сафрон хорошо считал, умножал и делил столбиком. Рассказывал стишки и распевал песни. Он рос смышленым, любознательным, веселым, энергичным мальчиком и при этом был усидчив и трудолюбив. Отец учил его всему, чему нужно: постоянно, терпеливо и настойчиво. Со всей своей любовью, на которую была способна его каторжанская душа, разбитая злою судьбой. Через год мальчик свободно говорил с отцом на итальянском языке, который Евдоким Васильевич знал в совершенстве из прошлой своей жизни в Италии. Там, у его отца, попечителя Пушкинского музея и Донского монастыря, имелся дом в Неаполе, из окон которого было видно, как дымился Везувий, воспетый художником Карлом Брюлловым. Сафрон неплохо рисовал – стараниями мамы Ульяны Алексеевны, и его рано отдали в музыкальную школу, по ее же настоянию. Его первый педагог по классу скрипки, Арон Маркович Портной (тоже арестант из Киева, в 37-м году забрали, в 45-м амнистировали и оставили на поселение) очень был доволен Сафроном и нахваливал его коллегам-преподавателям.
Арон Маркович был большим седовласым человеком с добрым больным сердцем и вселюбящей душой. У него убили всех родных в оккупации.
– И маму убили, и бабушку с дедушкой, и сестер, и папу, и жену, и деток моих малых убили, – рассказывал он Сафрону, приговаривая: – Уж лучше бы их в тюрьму посадили, а меня расстреляли в этом Бабьем Яру, да вот Бог зачем-то оставил жить-мучиться. Может, для того, чтобы учить таких же сорванцов, как ты, Сафрончик-Арончик.
А позже, когда Сафрон стал заниматься на фортепьяно, его хвалил и педагог Илья Самуилович Розанов, тоже из сиделых. Но больше всех любила, хвалила и радовалась успехам Сафрона педагог по вокалу – Белла Абрамовна Герштейн. На уроке сольфеджио неожиданно выяснилось, что у Сафрона необыкновенной красоты голос. Белла Абрамовна приехала в Тобольск в ссылку к мужу, но тот вскоре умер, а она осталась за могилой ухаживать. И Арон Маркович, придя как-то послушать своего любимца на ее урок, по этому поводу заметил: «Беллочка, видимо, потому наше племя так и разбросано по всему свету, что каждый, застигнутый бедой, остается там ухаживать за могилами». Сафрон понял, о каком племени идет речь, позже, спросив у отца.
Когда он пошел в школу, то учился там с интересом, успевая по всем предметам. В летние каникулы музыку забрасывал и бегал с другими ребятами на Иртыш и Тобол купаться и рыбачить. Ходили они с физруком из школы и в дальние походы, и в этнографические экспедиции. Занимались скалолазанием, стреляли из лука по мишеням, играли в войну. С мальчишками в коллективе и на улице Сафрон легко находил общий язык и был своим в доску даже с многочисленной городской шпаной. Школу-десятилетку он окончил хорошо, а музыкальную – отлично. И когда на торжественном собрании выдавали свидетельство об окончании, Арон Маркович вышел на сцену и поздравил всех с окончанием школы, а ученика Опетова Сафрона и с окончанием музыкального училища.
– Ты молодец, Сафрон, и готов для поступления в любую консерваторию Советского Союза. Это я тебе говорю, Арон Маркович Портной.
Илья Самуилович ничего не сказал, но первым встал и зааплодировал. А Белла Абрамовна поднялась, хотела что-то сказать, но произнесла лишь: «Вот и все, ребята, в добрый путь». Присела обратно и, достав платочек, прислонила его к своим глазам.
Проблемы выбора вуза у Сафрона не стояло – консерватория. Но была другая проблема – армия. И Арон Маркович звонил своему давнишнему товарищу из Новосибирской консерватории имени Глинки и просил помочь. Тот пообещал, сказав, что для одаренных есть какая-то бронь. Но после первого курса студент сразу двух факультетов – вокального и композиторского – Опетов Сафрон Евдокимович отправился в советскую армию на три года – защищать родину. Арон Маркович, по просьбе Ульяны Алексеевны, мамы нашего солдата, снова звонил своему другу из консерватории, на что тот ответил: «Наш вундеркинд решил мир посмотреть. Так и сказал: „Хочу мир посмотреть“ – и отказался от брони».
Но посмотреть мир Сафрону пока не удалось. Узнав, что он студент консерватории, военкомат призвал его отдать долг Родине тут же, в Новосибирске, в Ансамбле песни и пляски Сибирского военного округа. Где его сразу определили солистом и приняли в партию – кандидатом в члены КПСС. Через год его забрал к себе Ансамбль песни и пляски Московского военного округа – тоже определил солистом и принял в партию окончательно. А еще через год член КПСС, старший сержант, отличник боевой и политической подготовки был уже солистом Краснознаменного Академического ансамбля песни и пляски Советской армии им. Александрова в Москве, под руководством Бориса Александрова.
И Сафрону там нравилось, потому что во время сессии, а он к тому времени заканчивал факультет научного атеизма Высшей партийной школы, он имел свободный выход в город с 6 до 22 часов. Он и обошел все многочисленные музеи столицы, начиная с Пушкинского, помня о том, что попечителем и основателем этого музея, вместе с Иваном Владимировичем Цветаевым, был его дед. Посетил, и не раз, все художественные галереи и выставки живописи, начиная с Третьяковки, в которой знал все полотна по репродукциям отца и матери, собранным в Тобольске. Вообще к живописи и произведениям искусства, особенно старинным, у него была какая-то непреодолимая тяга, может, от отца или от мамы. Сафрон не просто смотрел на них – он их чувствовал, понимал. Он их ощущал!
Он и в ВПШ-то пошел не просто так по разнарядке, а для того, чтобы в век повального атеизма разобраться в религиях мировых, в их философии. А конкретно – в их искусстве, оказывающем такое эмоциональное воздействие на людей: архитектуре, скульптуре, фресках, обрядах культов, иконописи, музыке. Закончился срок службы, и Борис Александрович Александров не просто просил, он умолял Сафрона Опетова остаться на сверхсрочную, обещал выбить квартиру в Москве и т. д. Борис Александрович ругался матом, топал ногами, грозил кулачком, убеждал дембеля: бля, остаться! Он так любил, обожал мягкий, бархатистый, ни с каким другим не сравнимый баритон своего солиста. Но Сафрон, улыбнувшись еще раз своей обаятельной улыбкой, ответил отказом. Демобилизовавшись, он перевелся из Новосибирской консерватории в Московскую и поселился в общежитии, где и провел прекраснейшие годы в регулярном общении с противоположным полом.
Девушки-студентки, и не только, сходили по нему с ума. Он от них – тоже. Да так, что за свои будущие пятнадцать лет ни один день не расставался с ними. Им интересовались и некоторые коллеги по вокальному цеху, но он тех мягко обходил стороной.
Началась кипучая студенческая жизнь. Сафрон поначалу всесуточно пропадал в консерватории и даже заработал повышенную стипендию в 47 рублей 50 копеек. Но денег не хватало. Стал подрабатывать разными халтурами, их все равно не хватало. Родители помогали ему чем могли – маму, Ульяну Алексеевну, выбрали к тому времени освобожденным от работы председателем профкома фабрики. А отца – Евдокима Васильевича, после защиты кандидатской на тему «Кремли России», назначили директором музея в Тобольске, уже переименованном постановлением правительства в 1961 году в Государственный архитектурный музей-заповедник. Должности у них были большие и хлопотные, а зарплаты маленькие, и чем-то существенным они помочь не могли.
А Москва всегда требует много денег! Сафрон вспомнил про музей своего деда, Пушкинский, и отправился туда. Пообщался там с умными людьми на всех уровнях, его протестировали все, кто должен был отметить его познания в изобразительном искусстве, и приняли экскурсоводом на постоянной основе. В выходные и праздничные дни, с открытия музея и до закрытия, он стал водить группы и персональных посетителей, повышая их культурный уровень. Жить стало лучше, как говорил товарищ Сталин, но пока не веселее! А вот когда он огляделся в музее, познакомился со всеми, и его приняли в экспертную комиссию, которую тоже организовал при музее какой-то толковый «Егорий Иванович», – жить стало и веселее!
Повылезли, как тараканы, новые деловые люди из торговли, из народившейся партийной и профсоюзной номенклатуры, руководящие работники разного калибра, какие-то цеховики, фарцовщики и т. д., стали приносить на экспертизу разной ценности произведения искусства. И хоть их по-прежнему сажали в тюрьмы и ставили к стенке, они продолжали нести и нести их, откапывая, неизвестно где, порой уникальные экспонаты. Этот факт и позволил приподняться нашему нищему студенту на новую ступень благополучия. И как когда-то фронтовики спасли от голода его родителей и его самого в Тобольском музее, так и теперь Сафрон был благодарен вечной тяге российского народа к прекрасному – к произведениям искусства. Он уже мог себе позволить после закрытия музея сводить симпатичную любительницу изящного в недорогой московский ресторан, а позже и в самые дорогие – «Метрополь», «Арагви», «Националь», «Интурист» и другие в центре. Стал очень элегантно и дорого одеваться, делать красивые стрижки, пользоваться мужским французским парфюмом и даже снял отдельную комнату для проживания недалеко от консерватории.
Как ни странно, учебе все это не мешало. Его педагог по вокалу, Карлос Диего де Сегадо-и-Марини, вывезенный из Испании перед войной подростком, которого в консерватории, естественно, все звали Папой Карло, хвалил Сафрона и говорил с милым акцентом:
– Сафон, мучачо, почему вы знаете итальянский язык лучше меня? Откуда вы родом, Сафон?
– Из сибирского города Тобольска, в который проклятый царизм сослал Достоевского, – с улыбкой отвечал тот. – У нас там все говорят на разных языках мира и на русском тоже немного.
– Это потрясающе! Услышать чистейший итальянский, да еще в неаполитанском диалекте! – восхищался Папа Карло, даря всем свою лучезарную испанскую улыбку.
Как-то раз, после своего урока, Папа Карло, подойдя к Сафрону, взял его за руку и проговорил негромко, глядя из-под черных кудрявых бровей: «Вам, мачо Сафон, с вашим мощным, сильным и одновременно мягким, нежным голосом, откроют двери все лучшие театры мира, как Федору Шаляпину. Но сначала – Большой».
Как на ладошке, выложил Карлос Диего де Сегадо-и-Марини всю артистическую судьбу Сафрона. После этого к третьему курсу Сафрон окончательно отказался от композиторства и скрипки, погрузившись целиком в вокальное мастерство. После четвертого курса он пел уже весь богатый репертуар Большого театра для баритона, и ему на экзаменах аплодировала стоя битком набитая аудитория, включая преподавателей консерватории. А на пятом курсе Сафрон уже совмещал учебу с работой в этом знаменитейшем и достойном мировой славы театре.
По окончании консерватории он был распределен солистом в труппу Государственного дважды ордена Ленина академического Большого театра СССР.
Пусть пока восходящая звезда оперной сцены Сафрон Опетов осваивается в театре, а мы вернемся в город Ялту, в гримерку ресторана, где мы оставили наших Василину и Сливу в новогодней ночи.
Глава 10. Слива
– Что ты из Харькова, я уже знаю, – сказала она. – А ты, правда, дирижер-хоровик? – спросила Василина Сливу. – Сафрон Евдокимович сказал, что ты мне поможешь подготовиться к вступительным экзаменам в их прославленный институт.
– Это тоже он тебе сказал – про дирижера-хоровика? – спросил он и поднял на нее удивленный взгляд.