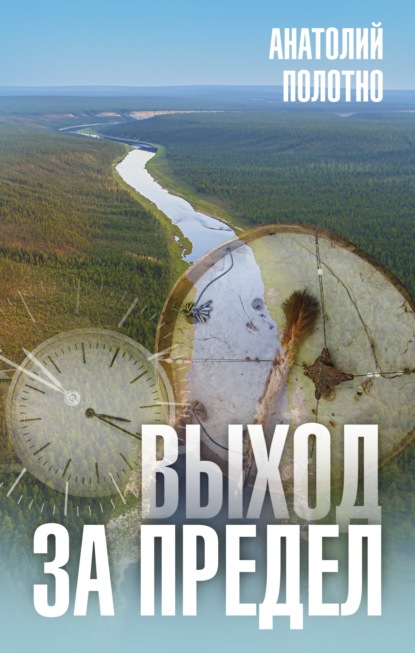По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Выход за предел
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да, – сказала Лина.
– Надо же… Я уже забыл, кем был в Харькове, а он запомнил, – проговорил уже себе Слива. – Мы тогда с мамой похоронили бабушку Ливу, и мама слегла. А ты знаешь, Лина? Меня ведь с детства звали пацаны в Харькове Сливой из-за бабушки. Если они нападали на меня во дворе, я говорил им, что сейчас придет бабушка Лива и всех накажет за меня. А мальчишки смеялись: «Какая еще бабушка Лива, ты сам Слива!» Так дразнили меня и в обычной школе, и в музыкальной, и во дворе, и на улице – вплоть до музыкального училища, где я, действительно, учился на хоровом-дирижерском отделении, а потом руководил в заводском клубе камерным женским хором. Там меня звали уже Вячеславом Антоновичем или просто Славой. Мы жили в Харькове особняком, замкнуто. Втроем. А когда бабушка Лива умерла, остались вдвоем с мамой на всей земле.
Я с детства любил этот наш мир троих, в нем было безопасно, спокойно, тихо и тепло. Но ты не думай, Лина, я не был маменькиным сынком и трусом, мог дать сдачи любому во дворе и на улице. Я всегда был физически сильным парнем, но не задирой. Меня побаивались и тут же подтрунивали надо мной, а я внимания не обращал. Что мне, жалко, что ли? Пусть скалозубят, сколько хотят, но без оскорблений, без обид. Я вообще не обидчивый и на многое не обращаю внимания. Бабушка в нашем мире была главная. Мама все время хворала, а я был маленьким. Бабушка руководила заводской столовой, а дома – нами. С тех пор, как в войну наш дом разбомбили, жили мы в коммуналке. В небольшой комнатке полуподвала, где из окна были видны только ноги прохожих, обутые в разную обувь.
Я любил сидеть дома, читать книжки, мастерить себе игрушки из всего, что было под рукой, и просто обожал слушать радио, особенно музыкальные программы. Бабушка заметила эту тягу к музыке, и в нашей комнате появился патефон из заводской столовой, с пластинками. С этого момента моя жизнь стала праздником. С 9 утра до 8 вечера я мог заводить патефон и крутить волшебные пластинки, в которых играли музыканты на разных инструментах и пели. Так мне казалось, пока я был малым. Но я подрастал, и меня готовили к школе – и мама, и бабушка. Учили писать, читать, считать.
Лет в шесть, перед школой, в комнате появилась гитара из той же заводской столовой. Я накинулся на нее с порога, мы тогда с мамой откуда-то пришли, и у меня не могли отнять эту гитару ни бабушка, ни мама, пока я не уснул.
– Вот же здоровяк растет, скоро и не справимся мы с ним, Оксана, – говорила бабушка Лива моей маме.
Через две недели, сидя на табуретке в коммунальной кухне, я уже бацал восьмерочкой три аккорда на этой гитаре и распевал блатные песни – дядя Витя научил, веселый светловолосый дядька, недавно вернувшийся с зоны. Половина нашей коммуналки были сиделые люди. Одних арестовывали и уводили, они пропадали куда-то, другие приходили из тюрьмы и страстно веселились на свободе. Праздник каждый день – пьянка, песни, пляски, мордобой, поножовщина. Бабушка посмотрела на молодого гитариста и сказала: «Нет, так не пойдет». Гитара пропала куда-то, а в комнате появился аккордеон трофейный, к которому никто из наших сидельцев не знал, как подступиться, и я тоже.
Вот тогда бабушка и отвела меня с аккордеоном на плече в кружок при клубе заводском к Богомякову Юрию Николаевичу. Тот стал со мной заниматься, а поскольку он преподавал еще в музыкальной школе, вскоре и я там оказался среди учеников. Потом закончил обе школы и поступил в музучилище на хоровое-дирижерское, где конкурс меньше был, чем на другие отделения. Окончил училище и благодаря бабушке был принят в заводской клуб руководителем камерного женского хора. В армию меня не взяли – из-за плоскостопия, хотя я и хотел. А потом внезапно умерла бабушка Лива, и мы с мамой осиротели, не знали, что делать дальше и как жить. Мама слегла, и врачи сказали мне, что ее срочно надо везти к морю, ее легким необходим морской воздух, иначе она умрет. И тут я впал в ступор: к какому морю, как ее везти? Я совершенно не знал, что мне делать. В моей жизни было всего три ценности – наш мир троих, музыка-работа и пластинки, которые я начал собирать с тех пор, как у нас появился патефон. Я тратил на эти диски все деньги, которые у меня только были, сначала со стипендии в училище, а потом и заработанные в клубе. Я менял пластинки на харьковской барахолке, пополняя свою коллекцию. Там, на рынке, был уголок меломанов, где собирался народ для обмена и продажи пластинок, кассет с музыкой, плакатов, календарей и т. д.
Каждую субботу и воскресенье, с десяти утра и до двух, я был там, невзирая на погоду и время года. Меня все знали и звали просто Славик. Консультировались со мной, советовались по поводу пластинок и даже – уважали. Среди доморощенных коллекционеров на барахолке сформировалась группа людей, которую меньше всего интересовала музыка. Их интересовали только деньги, заработанные на этих пластинках. Эта группа именовалась – фарцовщики. Один из них, Илья по кличке Иисус, – он и правда был похож лицом на лик с иконы. Шустрый малый, с веселыми глазами, маленького роста. Он постоянно расспрашивал меня обо всем, что касалось рок-музыки, и однажды предложил: «Славик, едем со мной в Москву за товаром? Я оплачиваю дорогу, ты консультируешь. Я покупаю новые платы и двигаю их, а ты имеешь процент с навара. Идет?»
Это было года за полтора до смерти бабушки. Мне стало интересно посмотреть на Москву и на товар, и я ответил: «Идет». Хором своим руководил я два раза в неделю, поэтому время для поездки было. Сказав бабушке и маме, что я еду в Москву за нотами для работы, мы с Ильей вечерним поездом отправились в столицу, а утром были уже там. Спустились в метро и вышли у Большого театра. Обойдя ЦУМ, попали на улицу Неглинную, там находился небольшой музыкальный магазин, у которого тусовались фарцовщики и музыканты со всего Советского Союза. Это был Клондайк для музыкантов, которые там могли купить все, о чем мечтали. Но не в магазине, а у фарцы. Когда приезжие спрашивали у них, что есть нового, фарцовщики лихо отвечали: «Все новое, все в масле. Чего надо?» И начинался торг. Были там и купцы, специализирующиеся на пластинках, которые были в то время в большой цене. Илья их знал, и мы принялись за дело. Самопал, польские, венгерские и болгарские пласты типа «Балатон» я сразу отметал. А выбирал только настоящие фирменные пластинки с клевыми западными группами: «Битлз», «Лед Зеппелин», «Роллинг Стоунз», «Пинк Флойд» и т. д. От такого изобилия у меня поначалу чуть сознание не помутилось, но в итоге вечером мы с Ильей уже сидели в поезде «Москва-Харьков» – счастливые обладатели несметных сокровищ. А когда в выходные Илюха двинул товарец уже на харьковской балке и выдал мне 50 рублей одной бумажкой, я ощутил такой восторг, что готов был сплясать лезгинку с этим полтинником в зубах. Прямо на виду у всех меломанов. Со временем, правда, выяснилось, что Илья поднимал на этом 400 рублей за одну поездку. И подпряг меня к делу не только консультантом, но и телохранителем. Но я до сих пор не в обиде на него.
Там, в Москве, на Неглинной, я и услышал впервые про Сафрона. Сафрона Всемогущего. А позже представился случай и познакомиться с ним лично. Случались у нас с Ильей-Иисусом и разные заморочки. И кидалово было, и разборки с ментами, но это неинтересно. А интересно вот что. Когда бабушка моя Лива умерла, мы с мамой схоронили ее, и мама после похорон слегла. После приговора врачей мама позвала меня и сказала: «Вот, Славик, и встал вопрос жизни и смерти, о котором говорил еще твой дед Семен, мой отец, пропавший в Сибири, – муж твоей бабушки Ливы. Перед смертью она мне передала икону с ликом святым, которую твой дед привез к нам в Харьков перед войной, наказав, что мы можем продать ее только в случае, когда встанет вопрос жизни и смерти. Еще он наказал назвать внука своего, если родится, Славой, в честь Великой Октябрьской социалистической революции в России. Потому тебя, Славонька, и зовут Славой. А икона вон в шкафу лежит, под бельем постельным. Мама ее всю войну хранила закопанной в земле. А перед смертью вот принесла, передала мне и тоже наказала: „Только когда встанет вопрос жизни и смерти“. Пойди, Славонька, достань иконку».
Я достал из шкафа икону, завернутую в клеенку, и развернул на столе. Развернул и аж присел на табурет: на меня, изумленного, смотрел лик. Он будто бы улыбнулся мне, и от него стало исходить сияние, которое сначала заполнило мои глаза, потом всего меня, а потом и всю комнатку нашу.
– Мама, бабушка умерла, – произнес я, – а ведь ОН меня видит.
И услышал голос матери: «Он всех нас видит, Славонька. Столько лет в земле пролежал, а живой. Смертию смерть поправ». Во мне что-то происходило. Я никогда не видел такой красоты в жизни – ни до, ни после. Это была не икона в обычном понимании, это был лик, выложенный маленькими сверкающими камешками. Красивый ажурный оклад, видимо, из золота, нисколько не отвлекал внимания от святого лика, а лишь усиливал впечатление. Оклад служил одеждой, защитой, охраной этого маленького лика Святителя, парящего над суетой этого огромного мира.
– Бабушка, мама, – снова произнес я, будто и не я, – а что мне делать с Ним?
И голос мамы мне ответил: «Славонька, а ты отнеси его в музей, в храм-то ведь нельзя, никому ведь не покажут».
«В музей», – подумал я и сразу вспомнил разговоры фарцовщиков на Неглинке про Сафрона Всемогущего. О том, что у него лучшая коллекция платов в Москве, что слушает он их на даче через мощные колонки какой-то японской супер-аппаратуры. Что вся его квартира на Кутузовском и дача на Пахре завешана картинами из запасников Пушкинского музея, в котором он будто и работает то ли экспертом, то ли оценщиком. Я встал, завернул лик обратно в клеенку. Уложил икону в свой джинсовый дипломат и сказал маме: «Я срочно еду в Москву». Поцеловал ее и отправился на вокзал.
Утром я был уже в Москве и отправился в метро на Неглинку. Было еще рановато – фарцовщики собирались там с открытия магазина. Я зашел в пирожковую на углу и сразу увидел Спиртуса – фарцовщика на Неглинной. Взял на раздаче пирожки мясные с бульоном и подошел к его столику. Мы поздоровались и стали хавать – завтракать.
– Спиртус, а ты не знаешь случайно, в каком музее Сафрон трудится? – спросил я.
– Знаю, – ответил тот, – в Русском.
– Но Русский же в Питере? – удивился я.
– Ну, значит, в Пушкинском. Да вот Слон идет, ты у него спроси.
Подошел Слон, тоже известный фарцовщик на Неглине, с тарелкой жареных пирожков и стаканом кофе.
– Привет, Слон, – поздоровался я и задал тот же вопрос про Сафрона.
– В Пушкинском принимает, с 10 до 18, – ответил Слон, с аппетитом уплетая пирожки и запивая их кофейком. – Но ты к нему не попадешь.
– Почему это? – спросил я.
– У него запись на полгода вперед, все к нему прут, – прочавкал Слон.
– А как быть? Мне надо, – снова спросил я.
– Напиши записку, что ты меломан Славик с Неглинки: от Слона, мол, очень надо. Передай ее через того, кто по записи, и сиди жди, – вытирая мясной рот и руки бумажной салфеткой, ответил Слон. А потом повернулся к Спиртусу и добавил: – Ну что, двинули в забой?
И они ушли трудиться, а я направился в Пушкинский, по дороге прикупив у знакомого чувака неизвестный мне диск Джимми Хендрикса. Добрался до музея, с трудом отыскал на задах вход на комиссию и вошел. Там на стульях сидели солидные дяди и тети с дипломатами и сумочками на коленях.
– Кто к Сафрону? – спросил я, не зная фамилии.
– Все! – ответил крупный мужчина.
Я уселся рядом с ним на стул, достал из дипломата бумагу, написал записку и стал ждать. Через некоторое время из двери вышла женщина в бусах, с большими клипсами в ушах, и, сказав «Следующий», отправилась к выходу. Мой сосед встал и пошел к двери комиссии.
– Вы не могли бы передать записочку? – обратился я к нему.
– Пожалуйста, – ответил он безразлично и исчез за дверью.
Пока я ждал, выяснилось, что Сафрон принимает только два раза в неделю – по вторникам и четвергам.
– Повезло, – мелькнуло у меня в голове, и я даже не мог представить, как мне, действительно, повезло.
Мужчина вышел, сказал «Следующий» и протянул мне мою же записку обратно. Поблагодарив, я развернул ее и прочитал: «Обед с 13 до 14, ожидайте. Сафрон». На часах было 12:30. Через полчаса из двери вышла женщина, а за ней совсем еще молодой мужчина выше среднего роста, модно одетый шатен, с кожаным ридикюлем в руке, как у доктора, и сказал: «Перерыв на обед, товарищи, извините, придется подождать, – потом посмотрел на меня, как будто мы были знакомы, и добавил: – Идемте со мной».
Я бросился за ним. Выйдя на улицу, Сафрон спросил:
– Что, меломан Славик, вас привело ко мне?
– Я привез лик старинный, хотел бы у вас проконсультироваться, уважаемый Сафрон, – сказал я и собрался открыть свой дипломат.
– Не торопитесь так, Славик, у нас еще 55 минут, – произнес Сафрон.
Мы вышли на Пречистенку и подошли к кафе.
– Вы голодны? – весело спросил он.
– Нет, я пирожков наелся на Неглине, – ответил я.
– С бульончиком? – опять весело спросил Сафрон.
– Да, – ответил я, и мы зашли в кафе.
– Зравствуйте, Сафрон Евдокимович, сюда пожалуйте, – встретил нас официант и повел куда-то.
Пройдя по коридору, мы оказались в маленьком уютном кабинете, с сервированным белоснежным столом.
– Как обычно, – сказал Сафрон. – А гость пирожков наелся. Ему чай. Или кофе?