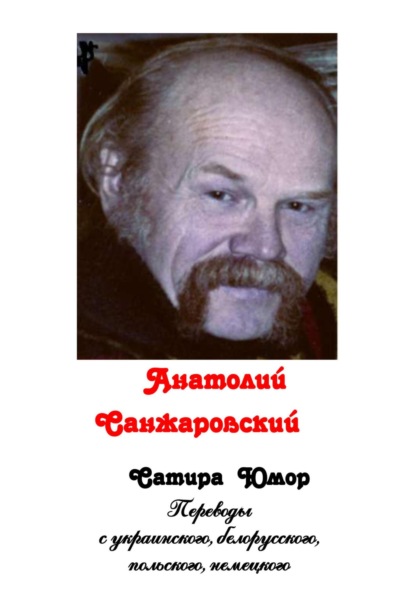По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сатира. Юмор (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Корабль 105 берет курс на Марс.
…Перед вами первое сообщение по радио члена делегации Рени:
«На двенадцатый день мы высадились на живописном марсианском аэродроме. Нас приветливо встречала делегаций СММ (Союз марсианской молодежи).
Некоторые хозяева несли автоматические транспаранты. Лозунги на них то и цело менялись. Нас доставили к зданию ЦССММ (Центральный Союз свободной марсианской молодежи). Один марсианский юноша сказал мне, между прочим, что деятельность их Союза автоматизирована.
Мы вошли в зал для приезжих: ни людей, ни мебели. Неоновые стрелки указали на кабинет председателя. Наконец, мы достигли огромной металлической двери. В низу ее была фотокамера, назначение которой открывать дверь для посетителей. Мы подошли ближе. Она распахнулась автоматически. Перед нами стоял невероятных размеров человек-аппарат. Едва его зеленые с отливом глаза увидели нас, как затрещал его машинный голос:
„Скорее!“.
Дверь закрылась.
Ми очутились в полуосвещенном зале. За письменным столом сидел автоматический человек. Он походил на вооруженного рыцаря пятнадцатого века. На голове его вращались телевизионные антенны. На всем его корпусе переливался свет лампочек всеми красками радуги. На голове – стеклянный колпак.
Одной рукой он перелистывал пучок актов, ставя в то же время большим пальцем штемпеля. В другой руке он держал своеобразный телефон. Увидев нас, он поднялся и, слегка наклонившись, произнес:
– Югомат.
Затем взял с полки F-образный засов, сделал им отверстие в голове.
Тотчас стеклянная трубка засветилась красным светом. Послышался механический голос.
– Дорогие юные друзья! Мы искренне приветствуем нас. Эта встреча имеет большое значение для нашей братской связи…
После приветственной речи погасли красные стеклянные трубочки.
– Скажите, откуда вы? – вдруг спросил он.
– С Земли, из Берлина.
Мы видим, как лампочка на его плече, горевшая голубым светом, стала зеленой.
Югомат хотел что-то сказать, но я, чувствующий себя как дома, опередил:
– Нас очень интересует жизнь юных марсиан.
– О, вы познакомитесь с нею, – ответил Югомат.
После этих слов распахнулась дверь в соседнюю комнату.
– Входите! – крикнул машинный голос, и мы автоматически туда перенеслись.
– Здесь наша дискуссионная, – сказал он.
Одна трубка на его голове зажелтела.
Мы увидели машину, похожую на почтовый вагон. Посредине стрелка, указывающая на слова „да“ и „нет“. Сбоку микрофон для вопросов. Я к нему подошел:
– Любят ли молодые марсиане твист?
Стрелка вмиг показала на „нет“.
– Тьфу, – разочаровался я. – Наверное, здесь существует трудовая община?
– Вздор, – проворчал Югомат. Свет на его плече сменился на синий. – Почему трудовая община? Желаешь планер – спроси в карманный микрофон – и планер перед тобой. У нас каждый юноша имеет дома автоматическую киносъемочную или счетную машину. И никто ничего не делает вручную, все заменили машины. Какая же тут трудовая община?
– Может, они коллективно читают книги? – съязвил я.
– Да, читают, – ответил Югомат.
Мы диву дались».
На этом месте было прервано сообщение путешественника.
1960
Руди Штраль
Хорошо б родиться трижды
Ничто так не смущает меня, как мысль, что все должны умереть. Следовательно, я не составлю исключения. Я не фантазер, но снова и снова застигаю себя в надежде, что в один прекрасный день смерть будет дерзко отброшена. Наука много чудес совершала. Почему это ей не должно удаться?
Я был воодушевлен данной сентенцией, когда в мои руки попала научная статья. Она излагала сущие пустяки – как осуществить прыжок нашего бытия в вечную жизнь. Теоретически, восклицала она, это уже сегодня абсолютно просто. Практически… Практически нужны кое-какие предпосылки, которые – опять же теоретически! – просты и могут даже быть созданы.
Добавлю, я сознательно не взвесил все детали способа.
Язык исследований мудр и не всем смертным доступен. Все же я верю, что постигну этот принцип. Кое-что я уже усвоил. Допустим, в один прекрасный день у вас не хватило духу открыть глаза. Не отчаивайтесь, пожалуйста! При помощи искусственных жизнеспособных веществ и заранее начертанной структуры усопшей персоны любой индивидуум может быть воссоздан заново столько раз, сколько ему заблагорассудится. Волосы выглядят, как и прежде. При нем все его старые добродетели и странности. Даже целы будут воспоминания о жизни до сих пор. И все это возвращается в мгновение ока! Едва старого Адама опускают в гроб, как субъект превращается в дитя, а гроб – в колыбель. Какая перспектива!
Разумеется, здравый рассудок советует мне держать в узде мое ликование. Несомненно, заманчиво прожить еще пятьсот или тысячу лет, прежде чем вступит в силу абонемент на вечную жизнь. Тогда даже самый заурядный смертный протиснется в стан бессмертных. Сначала прибудут, конечно, строем и станут в очередь тузы, затем – публика помельче, но пронырливая, со связями: служащие органов власти, ремесленники, маляры, конники…
Что, если я сам сделаю схему моей особы и отдам чертежи на хранение, чтобы позже начать ходатайствовать за надежное место? Хотя я тысячу волнующих лет не переживу, но тем не менее очень лестно внезапно всплывать и этаким модернизированным красавцем являться на свет, где в долгие века нести звезду самого совершенства.
Растопыренными пальцами я лихорадочно хватаю карандаш. Прежде всего записываю несомненно достоверные данные: рост, вес, цвет глаз и волос, школьное образование, профессия, группа налога. Также записываю, что я страстный коллекционер этикеток с пивных бутылок, дрожу при виде зубного врача и один раз в неделю хожу в кино.
Конечно, простое исправление этого обычая повлекло за собой бедствия. К моему растущему страху прибавилось то, что теперь я стал решительно все оценивать иначе, откуда-то пришла абсолютная точность (хотел же я самим собой снова родиться!).
Я стиснул зубы и вооружился мужеством водолаза, который мимо рифов намерен проникнуть в бездонную пропасть. Напрасно я пробовал держать взаперти свои достоинства. Они, оказывается, неустойчивы, как карнавальные маски. Не помог мне и опыт самокритики. За тысячу лет я все равно узнаю, здоров я или болен. Еще не поздно, и я верну жизнь многим своим коллегам. Парень я славный.
После публичных исповедей я не мог отречься от затеянного. Начались сплошные казусы. Я пытался увязывать действительное с желаемым. В качестве примера лени я постоянно выдавал устойчивые размышления. Скупость я рассматривал как бережливость. Равнодушие к людям я называл неземным почтением. Короче, в чем я дополнительно себя проверил, так это в том, что везде и всюду наталкивался на острые углы и глухие стены в своем характере.
Когда более чем на тринадцати страницах сочинил ошеломляющие выводы, я внезапно застиг себя на мысли, где и как надежнее сохранить себя для следующего тысячелетия. Просто закопаю схему в саду, и буду вне опасности. Так что еще при моей жизни глупый случай предадут гласности. В какой ужас придут все мои друзья и знакомые. И как будут торжествовать люди, которые и без того не переваривают меня. Мои жалкие останки соберут в гроб.
Мой бумажный двойник, пребывающий в безопасном укрытии, пожалуй, и за тысячу лет не отыщут. Но кто гарантирует, что счастливейший случай не допустит этого, найдет документы и доведет мою реконструкцию до конца?
За тысячу лет мир, может, поднимется на какую ступеньку в области совершенства. Тогда гадай: то ли ждать милости от закона, то ли подлинной реконструкции – неизвестно, как примут меня дети того времени. Меня бросает в озноб, когда я об этом думаю. Во всяком случае, мне улыбался шанс попасть в музей или сыграть карликовую роль в историческом диафильме. Сомнительная перспектива!
Я выбросил схему.