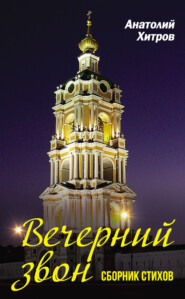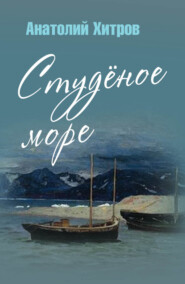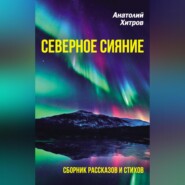По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Северное сияние. Сборник рассказов и стихов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Занятия по программе курса молодого матроса подходили к концу. Мы уже сдали зачёты по Уставам ВС, строевой подготовке, политзанятиям. Осталась самая малость – сдать зачёты по стрелковой подготовке, и мы готовы к принятию военной присяги! В штабе флотского экипажа уже имелись списки направления нас на корабли и в береговые части для прохождения дальнейшей службы.
По устройству самозарядного карабина Симонова (СКС) и пистолета-пулемёта Шпагина (ППШ), а также по нормативам их разборки и сборки наша рота не подвела главного корабельного старшину и заняла первое место. А вот что касается стрельбы… Первые пули у многих ушли в «молоко», в том числе и у меня. Мы были очень расстроены этим. Нас, отстающих, старшина построил отдельно от всей роты и, нахмурив брови, своим громовым голосом сказал:
– Подвели, черти полосатые!
И начались изнурительные многочасовые тренировки.
Однажды на очередном построении роты для следования в столовую на середину строя вышел незнакомый нам мичман.
– Есть ли в строю те, кто на гражданке играл в духовом оркестре? – спросил он.
С ним рядом был наш старшина роты, который добавил:
– Бывшие музыканты, два шага вперёд!
Из строя никто не вышел. Юра, стоящий почти рядом со мной, толкнул меня в плечо и в приказном порядке сказал:
– Выходи!
Я не мог ослушаться старшего брата и сделал два шага вперёд. Мичман, увидев меня, приказал:
– Подойдите ко мне!
Так неожиданно до окончания курса молодого матроса определилась моя флотская судьба: вместо службы на кораблях ВМФ, о чём я мечтал, меня направили служить в Образцовый оркестр Тихоокеанского флота. Служба в оркестре оказалась не только интересной, но и весьма полезной для моего интеллектуального развития и дальнейшей судьбы – в сентябре 1951 года я вновь (после Барнаула) поступил в десятый класс вечерней школы. Корабельная служба, как я потом сам убедился, такой возможности не даёт – выходы в море, учебные стрельбы, боевое дежурство и охрана морских границ страны. У кораблей, как известно, судьба одна – их дороги в морях!
Оркестром временно руководил мичман Николаев. Недели через две из штаба флота приехал начальник политотдела (он был в звании капитана 1 ранга) и представил нам руководителя оркестра. Это был молодой симпатичный краснощёкий лейтенант, окончивший Московское училище военных дирижеров. С собой он привёз целый чемодан нот и на второй же день назначил меня библиотекарем оркестра.
С его приездом занятия музыкой стали регулярными, причём в репертуаре оркестра появились классические произведения таких композиторов, как Чайковский, Мусоргский, Верди, Штраус. Новый руководитель оркестра нам сразу понравился, и мы с удовольствием разучивали свои партии. Во флотском оркестре, как и в техникуме, я играл на альте.
Жили мы недалеко от бухты Постовой в небольшом одноэтажном деревянном доме, где были отдельные комнаты для начальника и старшины оркестра, спальное помещение для матросов и старшин, камбуз, столовая и большая репетиционная комната. Буквально в нескольких шагах от здания начинался хвойный лес, в который мы ходили репетировать свои партии. В тёплые летние дни оттуда доносились странные звуки, словно там была оркестровая яма Большого театра. Усилия молодого дирижёра оркестра и его интерес к классической музыке не пропали даром: уже через месяц мы стали выступать с концертами на кораблях и в воинских частях, постепенно завоёвывая авторитет и оправдывая своё название – Образцовый оркестр Тихоокеанского флота.
В оркестре я подружился с Колей Макаровым. Он был классным тромбонистом и помогал мне осваивать музыкальную грамоту. Таких, как я, не имеющих специального музыкального образования, было всего два человека, и эта помощь со стороны Николая для меня оказалась как нельзя кстати.
В июле 1951 года я впервые в своей жизни принимал участие в праздновании Дня ВМФ. Для меня это было незабываемое событие: корабли с флагами расцвечивания, красивая парадная форма одежды морских офицеров с кортиками на поясе, громовая музыка нашего оркестра, ликующая публика (особенно женщины и дети), шлюпочные гонки. Пришедших первыми под гром аплодисментов встречали, играя туш, а последних – оглушительным свистом и мелодией «Чижик-пыжик». Потом был праздничный обед с красной икрой на столе и продолжительный «адмиральский час». За красной икрой мы с мичманом Николаевым ходили в рыболовецкий колхоз накануне праздника. Там он обменял икру на «шило» (спирт). Эту крайне важную в армии и на флоте и строгую по отчетности жидкость музыкантам выдавали в зимнее время для протирания клапанов инструментов от замерзания. Но хороший старшина роты всегда имел в запасе (на всякий пожарный случай) энное количество спирта.
На параде я впервые увидел знаменитого в ВМФ подводника, командующего 7-м флотом вице-адмирала Г. Н. Холостякова. Он принимал морской парад и находился практически рядом с оркестром.
В общем, море и музыка оказались для меня словно два крыла жар-птицы, за которой я гонялся в юности.
С братом Юрой, к сожалению, мы встретились только недели через две после окончания им учебного курса во флотском экипаже и назначения его для прохождения дальнейшей службы на крупнейший в Советской Гавани артиллерийский склад. Там хранились в основном оптические приборы военного назначения: морские дальномеры, перископы для подводных лодок, артиллерийские буссоли, бинокли… Юра, как имевший среднетехническое образование, стал помощником начальника склада по учёту этой техники и практически его правой рукой. Кроме того, в этой воинской части он вёл ещё и секретное делопроизводство. В то время офицеров не хватало, и Юра вскоре был назначен на офицерскую должность с приличным окладом. Ему сразу присвоили воинское звание старшины 1-й статьи.
1 сентября 1951 года я поступил в вечернюю школу. Желание получить аттестат зрелости для поступления в мореходку у меня не пропало. С началом учёбы в школе забот прибавилось: кроме разучивания новых партий в оркестре надо было ещё и уроки готовить.
Преподавательский коллектив школы состоял в основном из жён офицеров. Некоторые из них в школе работали не первый год. Правда, недели две у нас не было уроков по физике – не могли найти преподавателя. На просьбу директора школы оперативно отреагировал начальник политотдела флота, и временно учителем физики стал старшина 2-й статьи, который служил на радиолокационном посту связи. Надо отдать ему должное – он был отличным специалистом, свой предмет знал превосходно, быстро освоился и показал неплохие педагогические способности. Поэтому, как это часто бывает в жизни, его временный статус учителя перешёл в постоянный.
Кроме военных моряков в вечерней школе учились ребята срочной службы из лётных частей. Они в большинстве своём обслуживали реактивные истребители МиГ-15, только что принятые тогда на вооружение, и были в восторге от этих самолётов. «Лётчики в Корее сбивают на них американские самолёты, как хотят, – с восторгом рассказывали они. – Полное превосходство в воздухе по скорости, манёвренности и вооружению. Во время боя общий счет сбитых самолётов обычно 8:2 в нашу пользу».
Примерно через полгода моя служба в оркестре, к сожалению, закончилась: из московского музыкального училища прислали ребят-юнг, а нас, не имеющих специального музыкального образования, списали на корабли. Я попал горнистом на эсминец «Вёрткий» и своим назначением остался доволен. «Попасть на боевой корабль, побывать в море, почувствовать силу морской стихии во время шторма, – думал я, – вот здорово!». Коля Макаров помог мне быстро выучить все сигналы, подаваемые на сигнальной трубе. Но мой восторг быстро остудил старпом.
– Ученье – свет, а неученье – тьма, – многозначительно сказал он. – Мы скоро уходим на полигон для проведения учебных стрельб, а потом – на боевое дежурство. Так что о школе можете забыть.
А я так хотел учиться! Расстроенный, я вечером прибежал к Юре.
– Снова мне не удастся закончить десятый класс, – с горечью пожаловался я брату. – Не везёт мне с учёбой.
Но Юра успокоил меня.
– Не расстраивайся, – уверенно сказал он. – У нас на складе есть свободные штатные должности. Думаю, что начальник склада пойдёт мне навстречу. Завтра с секретной почтой буду в штабе флота, есть у меня там друзья.
К моему удивлению, меньше чем через неделю пришёл приказ о моём переводе на артиллерийский склад, и учёба в школе была продолжена. «Вот что значит флотская дружба и солидарность! – подумал я. – Теперь уж точно получу аттестат зрелости».
Мечты сбываются
1
С переводом на новое место службы мне удалось решить две задачи: во-первых, я смог продолжать учёбу в вечерней школе; во-вторых, мы оказались с братом снова вместе.
Родители, узнав из моего письма, что мы с Юрой служим в одной части, были очень рады. Однако возникли новые трудности: в школу приходилось ходить за четыре километра, в мороз и пургу, причём без ужина (по распорядку дня ужин был позже моего ухода в школу). Правда, наш кок на свой страх и риск в первое время оставлял мне на камбузе еду, но старшина роты, узнав об этом, строго наказал его. Пришлось брать с собой в карманы сухари. Были случаи, когда мне удавалось доехать до школы на грузовой машине – помогали ребята, стоящие на КПП дороги, ведущей в посёлок Жилдорбат. На мою беду, вредный старшина роты стал меня ставить для несения службы только в караул, в результате чего половину занятий в школе я пропускал, что отрицательно сказывалось на моих оценках.
Из-за этих трудностей Юра решил перевести меня в посёлок Десна, где при Доме офицеров была вечерняя школа. Так за три месяца до выпускных экзаменов я оказался в Артиллерийском управлении Тихоокеанского флота и стал фельдъегерем секретной части, начальником которой был друг моего брата старшина 1-й статьи Володя Злобин. Он, как и Юра, занимал офицерскую должность. Моим непосредственным начальником стал Алексей (его украинскую фамилию с окончанием на букву «о» я, к сожалению, забыл). Три раза в неделю ходили мы с ним по льду бухты Десна в различные части и учреждения флота. Я нёс секретную почту, а он сопровождал меня с карабином за плечом. Возвращались мы всегда уставшие и промокшие, с толстым слоем морской соли на ботинках (бухта хоть и замерзала, но весной на поверхности льда всегда лежал мокрый снег, перемешанный с морской солью).
Однажды, когда мы проходили вдоль берега бухты Постовой, Алексей показал мне место, где во время русско-японской войны наши моряки затопили фрегат «Паллада», перекрыв тем самым вход в бухту для японских кораблей. Фрегат был знаменит тем, что на нём в 1852–1855 гг. вице-адмирал Е. В. Путятин с дипломатической миссией совершил плавание из Кронштадта через Атлантический, Индийский и Тихий океаны к берегам Японии. В этом плавании принимал участие известный русский писатель И. А. Гончаров.
Алексей рассказывал, что летом в хорошую погоду корпус фрегата и его мачты можно увидеть, идя на шлюпке, с поверхности воды.
Кроме нас троих, матросов срочной службы, в секретной части работали две женщины: Галина Павловна Боровикова (заведующая машинописным бюро) и Оля – молодая незамужняя женщина, у которой был маленький сын. Она работала машинисткой.
Галина Павловна, красивая украинка, весёлая и добрая женщина, была женой нашего начальника управления полковника Гурия Павловича Боровикова и частенько выручала Володю Злобина от наказания, замолвив слово «за бедного гусара». Дело в том, что у Володи в посёлке Десна была подруга, и он иногда задерживался у неё до поздней ночи, опаздывая из увольнения.
У Боровиковых было двое детей: сын Наиль (жил в Ленинграде с бабушкой и заканчивал там десятый класс) и дочь Ирина (жила с родителями и училась в шестом классе).
Полковник Г. П. Боровиков, возглавлявший на Тихоокеанском флоте Артиллерийское управление, пользовался заслуженным авторитетом и у командования флота, и у личного состава управления. Это был грамотный специалист, знающий своё дело, строгий, но справедливый начальник, отличный спортсмен, возглавлявший волейбольную команду своего управления, мудрый воспитатель и вообще хороший человек.
Я быстро освоил свои служебные обязанности по секретному делопроизводству, вечернюю школу стал посещать регулярно (благо, она была рядом), и занятия проходили успешнее, чем раньше. В общем, вздохнул с облегчением… «Не служба, а службишка», – похвастался я брату при первой же встрече и поблагодарил его за заботу обо мне.
Действительно, мои успехи в учёбе радовали нас обоих.
– Преподаватели стали ставить меня в пример другим, – доложил я брату. – Особенно учительница немецкого языка.
В начале июня 1952 года после успешной сдачи выпускных экзаменов я получил аттестат зрелости – второй (после диплома об окончании техникума) документ об образовании – и был очень рад этому. Аттестаты нам вручали в Доме офицеров в торжественной обстановке.
С окончанием школы меня поздравили наш замполит и начальник управления полковник Боровиков. В строю я стоял радостный, словно именинник.
– Берите пример с матроса Хитрова, – сказал полковник. – Он единственный из личного состава управления, кто в этом году окончил вечернюю школу и получил аттестат зрелости.
За успехи в учёбе и службе мне присвоили воинское звание старшего матроса.
Вечером после ужина меня вызвал к себе в кабинет замполит и сказал: