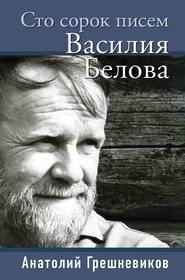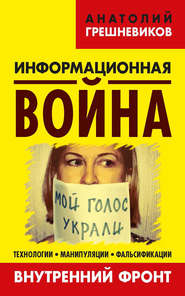По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дом толерантности (сборник)
Год написания книги
2017
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
К нашему разговору подключились подошедшие соседки Абрамова и Можжухина. У одной сгнила балка в доме под потолком, того и гляди, жилье рухнет…. У другой – разрушилась терраса, и поправить ее она не может, так как болят ноги, застуженные в годы работы на телятнике. Колхоз не дает старушкам ни досок, ни цемента. И самое печальное, за многолетний труд платит им равнодушием.
Я уезжал тогда из деревни с тяжелым чувством. Написал фельетон, отругал председателя… И старушкам дали досок.
Теперь мне захотелось напомнить им о себе, заехать в гости. Но на мой звонок в контору колхоза я узнал грустную новость: старушки уже давно все умерли.
По той же причине не сбылось моё намерение посетить старушку из деревни Зубово Зою Аркадьевну Симакову, целый вечер рассказывавшую мне, как у них проходило раскулачивание, а потом, в 1937 году, разом сгорело 16 домов. В былые послевоенные годы здесь стояли 32 дома. Сельчане занимались овцеводством, трудились на ферме, растили цикорий, содержали свиней.
На улице выла зимняя вьюга. В печке трещали дрова. А я смотрел в окно и думал о тяжелой участи русских крестьянок. Крепких мужиков то сослали на Соловки, то забрали на войну с фашистами… А они тянули свою лямку, вытаскивали семьи из нищеты и голода. И в старости их ждало то же – беды и нищета. Зоя Аркадьевна угадала мои мысли и показала в окно.
– Вот по этой дороге из всех окружающих сел и деревень шли мужики на войну, – сказала она, сердечно вздыхая и отводя в сторону налитые болью глаза. – И наши односельчане, их было больше 20 человек, ушли по этой дороге на фронт. И никто не вернулся домой.
Сейчас Симакова живет в деревне одна. На столе у нее лежит единственный знак внимания от государства – медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг». Еще медаль от местных чиновников – «Ветеран труда». После вручения наград никто о Зое Аркадьевне не вспомнил, не поинтересовался, почему в деревне отключена телефонная связь и отменена автолавка. Уезжать старушка из деревни не желает. Тем более недавно из маленького домика она переселилась в просторный и крепкий. Я смотрю в морщинистое, доброе лицо Зои Аркадьевны и понимаю, что вместе с ее уходом из жизни умрет и эта заснеженная деревня, и никто больше никогда не узнает о раскулаченных, о фронтовиках-крестьянах, победивших фашизм ценой жизни, о сильных женщинах, поднявших сельское хозяйство из руин и верящих, что теперь их деревни будут жить вечно и счастливо.
После долгих воспоминаний о журналистских командировках и печальных новостей из деревень, где меня никто не ждал, я отказался от мысли вносить новые поправки в маршрут. Хорошо, что не сообщил о них Алексею Невиницыну. Придется двигаться строго по намеченному пути.
В выходной день мы выехали втроем, не считая водителя, на легковой машине в сторону деревни Вахрево. Сельская дорога после прошедшего накануне дождя пугала грязным месивом и глубокими лужами. Но наше стремление увидеть родные пенаты, ощутить заново крестьянские корни и припасть к отцовским истокам, невозможно было ничем остановить.
Утренний жидкий туман стоял над красновато-маслянистым сосновым бором. Осень вступала в свои права. По горизонту темнела полоска лесов. Среди сосен я замечаю, как пылают багряно-стыдливо одинокие клены. А в небе вижу плавающего среди облаков коршуна. В лугах чудесно пожелтел тысячелистник. На поле перед первой деревней Селище, которую мы объезжали, тракторист усердно обрабатывает скудородную пашню.
Команда у нас собралась серьезная. Алексей Невиницын вместо привычных прибауток и анекдотов пересказывает статью из газеты, вызвавшую в нем всплеск эмоций по поводу того, что молодые ребята, обладающие хорошими знаниями, полученными в институтах за государственный счет, бегут из страны. Я пытаюсь заземлить ход его мыслей, показывая в окно машины корову, двигающуюся вдоль дороги медленно, важно, с достоинством незаменимых четвероногих друзей. Но Алексей не отвлекается, продолжая блистать остротой социального зрения и ума. Наконец, на выручку мне приходит его дядюшка Владимир Алексеевич. В первые минуты знакомства он не произвел на меня никакого впечатления, так как мрачные и угрюмые люди всегда вызывали у меня подозрение. Но по ходу знакомства я своё мнение изменил. Угрюмость была его маской. В душе он добряк. Еще меня покорили его острый ум, прямота, безграничная сентиментальность.
– Студенту надо не обладать знаниями, ими надо уметь пользоваться, – глубокомысленно произнес Владимир Алексеевич. – Тот, кто обладает знаниями, у того – горе от ума. По Грибоедову. А тот, кто умеет ими пользоваться, тот и в собственной стране найдет им применение.
Алексей соглашается, не спорит… А дядя продолжает рассуждать о том, что применение знаний в работе вызывает беспокойство, но зато приносит огромное удовлетворение. Следует только понимать, что любимая работа – не только радость, но и переживания, поиски, волнения.
Проезжая вдоль деревни Селище, я предложил встретиться и поговорить с местными подвижниками. Председатель колхоза «Заря» Виктор Ушаков был интересен тем, что возглавил его после полного разорения. На фермах и свинарнике разморожено водоснабжение. Пилорама сломана, кабель с нее украден. Из всех тракторов на ходу был всего лишь один. А лет двадцать назад этим хозяйством руководил отец Виктора, человек мудрый, отважный и принципиальный. Под его руководством колхоз вышел в районные лидеры. Но отказавшись сеять по указке райкома партии, был лишен должности. После статьи в газете «Правда» его реабилитировали, но он больше не вернулся на родную землю. Спустя время вернулся сын. И только поднял хозяйство с колен, восстановил технику, распахал поля, как колхозники, не довольные требовательностью и строгостью начальника, заявили о его отставке. Жил в деревне Селище еще один такой мудрец и смельчак – это главный агроном Борис Тихонов. К нему я приезжал за посадочным картофелем. В его кладовой, как в музее, была чистота, идеальный порядок и набор разнообразных семян, разложенных по отдельным тамбурам.
– Раз не договаривались о встрече, значит, не будем заезжать, – задумчиво произнес Геннадий.
Первую остановку мы сделали в деревне Акулово.
На взгорке, где мы встали будто богатыри на дозоре, осматривая окрестности, нас встретило знакомое курлыкание журавлей. Стая красивых птиц пронеслась над рекой, бегущей зигзагами в низине, и села на поле.
Давным-давно я с мальчишками приходил в эти места, называемые на ученом языке Акуловским городищем, поискать древние клады. И нам повезло. Мы нашли остатки укреплений городища дьяковского типа, глиняные черепки от посуды, кости домашних животных. До нас здесь раскопки проходили дважды – в 1928 и в 1934 годах.
– Где конкретно находилось это городище? – спрашивает Невиницын. – Можно на него глянуть?
– Смотри под ноги, – говорю я. – Ты стоишь на том высоком мысу с крутым склоном по берегу реки Устье, где и жили наши далекие предки. Присмотрись… Видишь копаные рвы и валы с двух сторон холма? Это – границы городища. В те времена оно, видимо, имело военно-стратегическое значение, так как прикрывало водный путь по реке Устье к полноводной Волге.
– Я видел в книге рисунок такого поселения, прячущегося за деревянной изгородью.
– Первый план Акуловского городища на основе раскопок в 1928 году составил академик М.В. Талицкий. Оно, действительно, было укреплено стеной из частокола. Люди селились около этой стены, а в центре находился загон для мелкого домашнего скота. Жилища строились в виде землянок, внутри имелись каменные печи. В районном музее хранятся экспонаты, найденные здесь. Это – самозатачивающийся нож, изготовленный около трех тысяч лет. Выходит, те племена уже знали про железо и получали его из болотной руды крицы.
Мы прошли по земле, хранящей тайны древнего поселения. На правах экскурсовода я предложил посмотреть места еще двух городищ, одно из которых лежало под распаханным полем, а другое – на Акуловском карьере. Но гости отказались, сославшись на то, что подобное городище они видели рядом с ростовской рекой Сарой.
– Лучше зайти к кому-нибудь в гости, испить колодезной воды, – предложил Владимир Алексеевич. – А то во рту что-то пересохло.
В деревню Акулово мы вошли тропинкой, наискось простегнувшей пустынный луг, через него медленно и молча перебирался только что проснувшийся потрепанный рыжеватый кот. Машина осталась на околице. Напоить нас водой согласилась старушка в светлом платке, поправлявшая забор в покосившемся огороде. Ее звали Валентина Васильевна Столярова. Человек общительный и доброжелательный, она вкратце поведала нам историю жизни деревни.
– Это сегодня у нас нет ни промышленности, ни сельского хозяйства. А когда-то Акулово славилось картофелетерочным заводом. Таких основательных предприятий в районе было с десяток штук. Наш принадлежал крестьянину из деревни Опальнево Михаилу Чалову. Пользовалась большим спросом водяная мельница. Ее монастырь сдавал в аренду крестьянину из той же деревни Опальневу Ивану Чалову. То были братья-кулаки, великие труженики. Мельница стояла в виде плотины по обеим сторонам реки Устье и молола муку. Рядом с ней находились амбары и жилой дом хозяина. Еще две мельницы стояли на Алмазихе и у местечка Крутецкая. Все плотины регулировали уровень воды в реке Устье, держали ее уровень на одном с лишним метре высоты. В Акулове было три маслобойни, развито столярное производство. Главным разорителем для нашего Акулово стала не только коллективизация, но и война. Во многие дома мужики с неё, проклятой, не вернулись. Тридцать земляков сложили головы в борьбе с немцами. Повезло Анне Николаевне Масленниковой, у нее все три сына вернулись. А у моей однофамилицы Анны Константиновны все три сына погибли. У меня война отняла брата Николая. Он погиб под Москвой. Вместо похоронки из воинской части пришло письмо от неизвестного мальчика, который и обнаружил на берегу реки убитого Николая. Другой мой брат-минометчик вернулся домой глубоким инвалидом. В битве под Сталинградом он потерял зрение, минометные осколки оторвали ему пальцы на правой руке и посекли лицо. Выхаживать брата, а заодно и ослепшую от горя мать, пришлось мне одной.
В ходе воспоминаний о войне неожиданные слезы быстро наполняли глаза старушки, и она отворачивалась к окну, украдкой вытирала их фартуком. Мы переменили тему разговора.
– В каком месте на Алмазихе стояла мельница? – спрашиваю я Столярову, пытаясь побольше узнать о любимом отцовском уголке природы. – В детстве мы с отцом часто там сено заготавливали. Но следов мельницы не видели.
– По-моему, там все травой заросло, – смущенно забормотала Валентина Васильевна. – Я уж и не помню, когда в последний раз там была. То же, поди, в сенокос. Так деревянные сваи от мельницы как торчали из воды, так и торчат, сразу у дороги, у спуска к реке.
Я не представлял то место, о котором говорила Столярова, потому не стал уточнять. Радовало другое – что при встрече с первым же старожилом упоминалась загадочная Алмазиха. На её зеленые просторы шли не только косцы, но и крестьяне с зерном. Там крутилась мельница, а над ней серебрился в высоте звездный свет.
Опять причудился наш поход с отцом на сенокос. Последний раз мы выехали до зари… В небе еще мигали звезды. Я дремал на лошадиной повозке, ворча по поводу ранней побудки. Влажный ветерок изредка набегал на меня легкой волной. Из прибрежного леса доносились сдержанные крики птиц и неясный шепот деревьев. «Потерпи, поспи, скоро прибудем», – то умоляющим, а то успокаивающим голосом говорил отец. Дорога была дальней. И я засыпал. Где-то в библиотеке, между страниц одной книги, должен лежать зверобой, давно засушенный и увядший, который до сих пор хранится с того памятного сенокоса.
– А чем еще памятна для людей Алмазиха? – торопливо спрашиваю я, отрываясь от нахлынувших воспоминаний. – Кроме, конечно, скошенных лугов с зеленой отавой.
– Не было краше и свободнее места для народных гуляний, чем на Алмазихе, – бодро отвечает Валентина Васильевна. – Туда ехали не просто отдохнуть, а отпраздновать значимое событие. Рыбалка там отменная была. Мужики хвастались: «Щука едва в ведро умещается!».
– Точно. Я припоминаю, совхоз там отмечал, кажется, окончание уборочной. Наспех сколоченные столы, заставленные домашними яствами, стояли на лужайке, у самой реки.
Тут у меня память заработала без перебоев. Перед глазами всплыл праздник на Алмазихе. Взрослый люд ютился гурьбой, облепив столы, и распевая то и дело разные песни. А мы, подростки, рыбачили и вволю купались. На омутах блестела зеленым бисером ковровая ряска, рассекаемая заплывами одиноких уток. Я смотрю на поплавок, застывший между узорчатых сплетений густой травы, и с волнением жду поклевки. Но, не дождавшись ее, иду купаться…
Поблагодарив Валентину Васильевну за гостеприимство, мы едем в деревню Кузнечиха. Она рядом, за перелеском. Журналистские командировки приводили меня сюда не раз. В биографии деревни значились интересные события и факты. Я вначале собирал и записывал их в архивах и библиотеках, а затем в беседах с местными жителями. В XVII веке Кузнечиха славилась своими талантливыми кузнецами. Отсюда пошло и название. Когда польские захватчики в Смутное время шли по ярославской земле, то наткнулись на деревню с кузнецами, а, может, и специально сюда заглянули. Им нужно было подковать своих лошадей. Кузнецы отказались помогать врагу. И тогда поляки сожгли деревню дотла. Постепенно Кузнечиха возродилась. Кроме кузнецов здесь появились уникальные маляры и живописцы. Один из них так прославился своим мастерством отделки зданий и церквей, что попал на страницы книги известного купца и краеведа из Ростова Великого А.А. Титова. Правда, сведений о нем там было мало. Сообщалось, что за год кузнечихинский маляр получал за свою работу 75 рублей в то время как заработок других борисоглебских маляров составлял 60 рублей. Прочитав солидный краеведческий труд, проникшись гордостью за талантливого земляка, я решил узнать подробности его жизни, а главное – имя и фамилию. Но старожилы деревни Кузнечиха не припомнили его. Зато одна набожная бабушка показывала мне икону, писанную прославленным иконописцем из деревни Коробцово Березниковской волости. Она писана была на липовой доске, по особому заказу. В краеведческой книге Титова я встречал упоминание о том сельском иконописце, но, увы, бабушка тоже не смогла припомнить его имя.
До революции деревня Кузнечиха считалась в районе одной из самых богатых и процветающих. Крестьяне жили в высоких, добротных, о пяти стенах домах. У некоторых первый этаж был выложен из красного кирпича. Здесь работала своя торговая лавка. С приходом к власти в стране коммунистов в деревне образовался колхоз имени Кутузова. Вначале селяне жили на энтузиазме и вере в создание справедливого общества. Построили на родной земле две начальные школы, в одной из них поставили киноустановку, медпункт, конюшню, свинарник, телятник, овчарню. Но с введением в колхозах оплаты труда крестьян трудоднями, многие из Кузнечихи побежали в города. Из ста жилых домов осталось тридцать.
Когда я писал очерк о коллективизации района, то нашел в архиве любопытный документ с изумительными подробностями. Оказывается, первым председателем Совета крестьянских депутатов был уроженец деревни Кузнечиха Михаил Семенович Блохин. Его избрали на эту должность 23 февраля 1918 года. В старых бумагах было записано, что он происходил из бедняков, и, будучи отходником, служил в Петрограде в торговой лавке. После службы в царской армии увлекся большевистскими идеями, приехал на малую родину и начал проводить коллективизацию. Архивист про то время сделал отметку на документе: «Нелегко было работать Блохину в кулацко-поповском окружении, воевать с бандитами, дезертирами». Конечно, национализация картофелетерочного завода, торговых лавок, земельных участков шла в районе трудно. Но кто же будет добровольно отдавать свое добро и имущество, нажитое в поте лица? Потому и возникали конфликты, когда кулаки, владельцы торговых лавок, при национализации обливали все съестное керосином.
В детские годы я любил возле этой деревни собирать грибы. Особенно мне нравилось местечко под названием Белынь. Я шел к нему специально от родной деревни Редкошово, пересекая пару болот, по извилистой, блуждающей лесной тропинке. Манила меня Белынь тем, что там росло множество крепких и здоровенных белых грибов. Их почему-то не вымачивал дождь, не съедал червь. Старожилы говорили мне, что Белынь получила название из-за этих волшебных белых грибов. Правда, другие селяне считали, что всему виной белоствольные березы, которые в округе собрались в многочисленные рощи. А лесник из близлежащей деревни Новоселка Михаил Шелехов вообще отвергал все эти версии. Он говорил мне, что раньше в здешних краях росло много чудесного белого мха, он то и дал название Белыни.
Вспомнив про грибные походы, я предложил Алексею Невиницыну заглянуть в березовую рощу и устроить там тихую охоту, насобирать лесных деликатесов и зажарить их тут же на костре. Но встреча рядом с прудом, где полоскались белоснежные гуси, с давней моей знакомой Галиной Павловной Алмазовой оборвала все мои устремления. Я часто в командировках начинал сбор материала для очередного очерка именно с беседы с ней. И в этот раз судьба подарила нам встречу с этой трудолюбивой женщиной, пережившей все этапы развития и падения родного колхоза. Она, как и прежде, была в платочке безукоризненной белизны, с лицом открытым, моложавым и серьезным. Только морщины на лице и руках превратились в трещины. Фигура сгорбилась. Зато память по-прежнему была светлой, надежной.
– А правда ли, Галина Петровна, что над Алмазихой ангелы летают? – задаю я ей провокационный вопрос, чтобы она перед моими попутчиками поведала историю того загадочного места, куда мы собрались доехать. – А еще говорят, что там алмазы на каждом шагу встречаются? Потому, мол, Алмазиху так и называли.
– Напридумаешь всего, – смеется Галина Петровна. – Алмазиха названа в честь хозяина мельницы Алмазова. Она стояла там давным-давно на берегу реки.
– Мы можем туда добраться?
– Попытайтесь. Пройдите Шумиху, потом Черную лужу, Горку…
– Какие интересные названия! – удивленно восклицает Владимир Алексеевич.
– Шумиха есть Шумиха. Там сосны шумят даже при слабом ветерке. Порой его нет, а кроны все равно переговариваются, шумят.
– А почему в деревне так мало домов? – задает неожиданный вопрос Владимир Алексеевич. – Я помню Кузнечиху, когда мы с отцом из Вахрева ехали через нее в Борисоглеб, тогда в ней около ста домов стояло, а сейчас их по пальцам можно пересчитать.
Галина Петровна осмотрела пронзительным взглядом моего попутчика. Не признав в нем земляка, осторожно поведала историю деревни, связанную со своей жизнью в ней.
– Кроме как государству, и некому было разорить нашу деревню. Крестьян держали в цепях, облагали налогами, вздохнуть не давали. Оброков навыдумывали, каких при помещиках не бывало. Мясо, шерсть, молоко, яйца – все сдай ненасытному государству. А не сдашь, придут и опишут все, вплоть до дров в печке. У одного нашего мужика всю поленницу увезли. Отец в нашей семье погиб на войне, оставив сиротами четверых детей. За него мама получала 5 рублей и килограмм сахара в год на ребенка. Помню, мама даст макнуть кусочек хлеба в ладошку, где лежит несколько крупинок сахара, и все лакомство. Я наелась сахара лишь в 16 лет, когда братишка купил его, продав тележку дров. Помню наши сенокосы по ночам… Косить жителям деревни для своей скотины сено почему-то не разрешали. Вот мы все и лазали по болотам, выкашивая осоку. Еще заготавливали в лесу лапник, да собирали во ржи васильки. Жизнь в деревне с каждым годом становилась невыносимей. А тут еще выдумали вместо денег давать трудодни, а их обменивали на полмешка зерна. Люди побежали, загня головы, подхватив голодных детей, в нелюбимые города. Никто не хотел оставлять родную землю, но власть заставила.
Рассказ старой крестьянки разбередил мне душу. Отец пережил в деревне Редкошово подобные издевательства. Также косил на болотах по ночам, украдкой сушил сено и прятал его. Также страдал от предательского отношения власть имущих, от постоянных экспериментов, унижений, поборов. Крестьян заставляли пренебрегать чувством собственного достоинства. А ему это претило. Он погружался в себя, замыкался, старался не раскрывать свою душу. Я видел, как он подолгу сидел у горящей печки, курил и страдал. В то время его, отменного плотника, заставляли разбирать в Вахреве дома по бревнам и перевозить в другие населенные пункты. Для мастера, умеющего превратить любое жилье в терем, такая борьба с неперспективными деревнями изматывала душу. Странная щемящая грусть, доставлявшая страдания, передавалась от отца ко мне и хватала за душу. Я давно неприязненно отклонял любую попытку заглянуть в те промчавшиеся годы, заглянуть в то прошлое, когда из отца-плотника чиновники делали разрушителя. Но сегодня Галина Петровна бессознательно открыла дверь в печальный мир русской деревни. И незримые руки потянулись ко мне из истории.