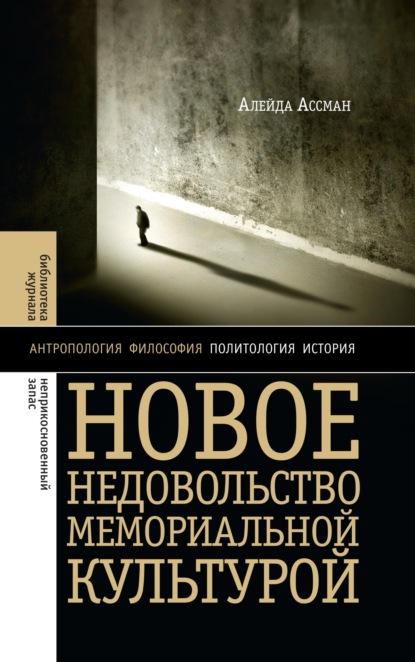По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Новое недовольство мемориальной культурой
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Новое недовольство мемориальной культурой
Алейда Ассман
Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»
Новая книга немецкого историка и теоретика культурной памяти Алейды Ассман полемизирует с все более усиливающейся в последние годы тенденцией, ставящей под сомнение ценность той мемориальной культуры, которая начиная с 1970–1980-х годов стала доминирующим способом работы с прошлым. Поводом для этого усиливающегося «недовольства» стало превращение травматического прошлого в предмет политического и экономического торга. «Индустрия Холокоста», ожесточенная конкуренция за статус жертвы, болезненная привязанность к чувству вины – наиболее заметные проявления того, как работают современные формы культурной памяти. Частично признавая обоснованность позиции своих оппонентов, Алейда Ассман пытается выстроить такую мемориальную перспективу, в которой ответственность за совершенные преступления, этическая готовность разделить чувство вины и правовые рамки, позволяющие услышать голоса жертв, превращали бы работу с прошлым в один из важных факторов сознательного движения к будущему.
Алейда Ассман
Новое недовольство мемориальной культурой
Aleida Assmann
Das Neue Unbehagen an der Erinnerungskultur
© Verlag C.H.Beck oHG, M?nchen 2021
© Б. Хлебников, перевод с немецкого, 2016
© А. Рыбаков, дизайн обложки, 2016
© ООО «Новое литературное обозрение», 2016, 2023
Введение
В 1930 году Зигмунд Фрейд опубликовал в Вене работу под названием «Недовольство культурой», где рассматривал культуру как коллективный проект, ограничивающий желания Эго ради общественного блага. По мысли Фрейда, технический прогресс, движущий культуру модерна, не приводит (на фоне растущей власти над окружающим миром) ни к субъективному ощущению счастья, ни к полному удовлетворению. Причину отсутствия счастья и внутреннего удовлетворения Фрейд видел не в обостряющемся сознании растущих опасностей и рисков, которые несет научно-техническая цивилизация, а в том, что экспансия культуры влечет за собой и экспансию супер-Эго, все больше подавляющего собой Эго. Культура, по мнению Фрейда, сталкивает индивидуума с непосильными вызовами и непомерными этическими требованиями. Предъявляемые человеку обществом «культурные идеалы» имеют слишком высокую цену, – а именно искусственно поддерживаемое сознание вины, на основе которого формируется индивидуальная совесть, поэтому «вследствие его усиления прогресс культуры оплачивается ущемлением счастья»[1 - Freud S. Das Unbehagen in der Kultur (1930) // Freud S. Kulturtheoretische Schriften. Frankfurt/M., 1974. S. 218, 260; цит. по: Фрейд З. Недовольство культурой // Фрейд З. Художник и фантазирование. М., 1995. С. 311.].
Остановимся на этом базовом аргументе, ибо доводы Фрейда затрагивают самый нерв послевоенной немецкой истории: платой за культурный прогресс служит растущее чувство вины. Реинтеграция Германии в круг цивилизованных стран произошла на основе негативной памяти, которая включила собственную преступную предысторию в коллективное представление нации о себе и ритуально поддерживает чувство вины посредством ее общественного признания. Но вина, о которой идет речь, уже не является фрейдовским эдиповым конструктом, предполагающим, что сговорившиеся между собой братья убивают отца, главу архаичного племени; здесь имеется в виду уничтожение европейских евреев и других беззащитных национальных меньшинств, которое задумывалось, планировалось и осуществлялось немцами вместе с коллаборационистами из других стран.
Если фрейдовская идея об убийстве праотца была научным мифом, то геноцид евреев – это недавнее преступление против человечества, документально подтвержденное многочисленными историческими источниками. Бремя подобной вины значительно превосходит все, что можно себе представить, эмоционально выдержать и искупить; это бремя ложится тяжким грузом на следующие поколения, его приходится нести с собой в будущее.
«Мемориальная культура», которой посвящена эта книга, является ответом на данное историческое событие. С 1990-х годов понятие «мемориальная культура» утвердилось в научных дискурсах, в выступлениях политиков, в публикациях СМИ и даже в повседневной разговорной речи. Мы регулярно встречаемся с ним, будь то в воскресной проповеди или в передовице еженедельника «Шпигель», поэтому не отдаем себе отчет, насколько новым является это словосочетание – «мемориальная культура».
В данном случае, как я постараюсь показать, новым является не только словосочетание, но и обозначаемое им понятие. Однако почему ответ на тягчайшее преступление XX века появился так поздно? Почему о мемориальной культуре заговорили спустя годы после окончания Второй мировой войны? Почему молчание столь долго считалось наиболее подходящим решением? Новое понятие соответствует новому, кардинально изменившемуся соотношению между настоящим, прошлым и будущим. Мы вправе также констатировать глубокую смену ценностей, начавшуюся в 1980-е годы. Речь идет о сдвигах в очевидностях, которые не ставятся под сомнение и не подлежат обсуждению, ибо они являются частью наших устойчивых представлений о мире. Подобные умалчиваемые сдвиги нормативных координат экологи называют «Shifting Baselines». Обычно люди не сознают происходящие в окружающем мире перемены социального или физического характера, поскольку «считают „естественным“ то состояние окружающего мира, которое совпадает по времени с их биографией и жизненным опытом»[2 - Giesecke D., Welzer H. Das Menschenm?gliche. Zur Renovierung der deutschen Erinnerungskultur. Hamburg 2012. S. 166; ср.: Radkau J. Natur und Macht. Eine Weltgeschichte der Umwelt. M?nchen, 2002. S. 164 ff.].
Когда в 1989 году пала Берлинская стена, сокрушив и весь советский восточный блок, параллельно разрушилось еще нечто очень важное, а именно вера в модернизацию с ее надеждами на будущее и забвением прошлого.
Становление мемориальной культуры и падение веры в модернизацию непосредственно связаны друг с другом; они знаменуют собой постепенное осознание Западом совершающейся эволюции в восприятии времени[3 - Ср.: Assmann A. Ist die Zeit aus den Fugen? Aufstieg und Fall des Zeitregimes der Moderne. M?nchen, 2013.]. Новая мемориальная культура радикально изменила традиционные формы коммеморации. Впервые за всю историю они относятся теперь не только к понесенным собственной страной жертвам войны, скорбно оплакиваемым или чествуемым как герои, но и к жертвам собственных преступлений, ответственность за которые ложится на государство и на последующие поколения. Подобная самокритичная коммеморация является совершенно новым историческим явлением.
Мемориальная культура формировалась в Германии на протяжении трех десятилетий с большой энергией, немалыми финансовыми затратами и значительными усилиями гражданского общества; за это время она обросла огромным количеством музеев, различных проектов, мероприятий и программ, став для всех зримой и общедоступной. Средства массовой информации обеспечили мемориальной культуре естественное вхождение в повседневный быт; она присутствует теперь непосредственно у порога дома, например в виде «камня преткновения»; она запечатлена в выдающихся памятниках и монументах общенациональной значимости. После начальной фазы интенсивного роста мемориальная культура проходит ныне своего рода экзамен на аттестат зрелости. Какую роль займут теперь воспоминания в нашем обществе? Следует ли продолжить развитие мемориальной культуры, и если да, то как? Куда ведет избранный путь и кто пойдет этим путем? Вот несколько фундаментальных вопросов актуальной повестки дня.
«Вскоре будет похоронен последний „пимпф“, которого можно упрекнуть в том, что он являлся членом детской нацистской организации, и который своевременно не покаялся в этом», – писал Герман Люббе в 2008 году[4 - L?bbe H. Vom Parteigenossen zum Bundesb?rger. ?ber Beschwingende und Historisierte Vergangenheiten. M?nchen, 2007. S. 132.]. По мнению Харальда Вельцера, «многое подсказывает, что интенсивность воспоминаний о национал-социализме, о войне и Холокосте со временем спадет и девитализируется». Вельцер связывает это с тем, что «по мере подрастания четвертого и пятого поколения после Холокоста исчезнет непосредственная историческая связь с этим историческим комплексом»[5 - Giesecke D., Welzer H. Das Menschenm?gliche. S. 73.].
Короткая историческая эпоха живых свидетелей скоро закончится. Но приблизятся ли к «естественному» концу и воспоминания об этой исторической эпохе? Превратятся ли вскоре Вторая мировая война и Холокост всего лишь в соответствующие главы в исторической монографии (Франк Ширрмахер)? Событие приобретает статус исторического факта, принадлежащего прошлому, когда это событие перестает быть частью нормативной самоидентификации коллективного «мы»: о нем можно забыть, отдав его на откуп историкам. В противном случае действует формула: «Мы не вправе забывать это как граждане нашей страны». На возможность самоидентификации с негативным историческим опытом указывал еще Ницше: поскольку мы являемся «…продуктами прежних поколений, то мы являемся в то же время продуктами и их заблуждений, страстей и ошибок и даже преступлений, и невозможно совершенно оторваться от этой цепи. Если даже мы осуждаем эти заблуждения и считаем себя от них свободными, то тем самым не устраняется факт, что мы связаны с ним нашим происхождением»[6 - Nietzsche F. Vom Nutzen und Nachteil der Historie f?r das Leben // Nietzsche F. Werke in drei B?nden / Schlechta K. (hrsg.) M?nchen, 1962. Bd. 1. S. 229–230; цит. по: Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни // Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 178.].
Поэтому вопрос не в том, есть ли будущее у мемориальной культуры после следующего за историческим событием поколения и поколения, идущего за ним, сколько в том, как надлежит направлять развитие мемориальной культуры, какие проблемы, опасности, вызовы и шансы ожидают нас в будущем. Воспоминание – динамический процесс, который испытывает внутреннее давление и воздействие изменяющихся внешних обстоятельств. Предложенный Фридрихом Ницше генеалогический концепт «цепи» или «истока» предполагает наличие этнического коллектива, объединенного общей виной; такой коллектив невозможно сохранить в эпоху глобализации, миграции и связанной с ними плюрализации воспоминаний. Мы переживаем демографический и культурный поворот, поэтому помимо обновления и адаптации к складывающимся условиям нам необходимы формы рефлексии и дискурсы о решениях относительно выбора того или иного направления. Ныне крайне актуальна самокритичная дискуссия о месте, где мы находимся, и о динамике развития немецкой мемориальной культуры.
Непосредственным импульсом для написания данной книги послужило растущее недовольство мемориальной культурой, которое выражается во множестве различных высказываний и настроений. Оно отчетливо сигнализирует, что достигнута поворотная точка, где намечаются и уже происходят важные перемены в мемориальной культуре XXI века. Этот поворот характеризуется, прежде всего, двойной сменой поколений. С одной стороны, мы, как уже сказано, переживаем конец «эпохи очевидцев», которые до сих пор играли роль посредников, служили мостом между историей как личным опытом и просто дидактическим материалом. Очевидцы, уцелевшие участники исторических событий, выступая в школах или на мемориальных мероприятиях, способствуют приобретению живых впечатлений, пусть даже из вторых рук; эти встречи и само историческое событие останутся в личной памяти молодых людей из подрастающего поколения иначе, чем это происходит с цифрами и фактами, запечатленными памятью как чисто когнитивной способностью человека.
С другой стороны, мы наблюдаем сейчас завершение «интерпретативных полномочий» (Deutungsmacht) поколения 1968 года, которое вместе со старшим поколением бывших «помощников средств ПВО» (Flakhelfergeneration) и детей военных лет несут ответственность за состояние мемориальной культуры в качестве архитекторов, планировщиков или руководителей и соответствующих учреждений. Эти поколения должны передать свои полномочия в новые руки. Нынешняя дискуссия о недовольстве мемориальной культурой служит ясным признаком того, что новое поколение во все большей мере принимает на себя «интерпретативные полномочия», заявляя о себе собственными представлениями, эмоциями, идеями, ценностями и концепциями. Мое решение вновь вмешаться в эту дискуссию обусловлено тем, что она ставит фундаментальные вопросы о состоянии, целях, формах и перспективах немецкой мемориальной культуры, столь же актуальные, как и захватывающие. Настало время осмыслить эти насущные вопросы и вызовы, которые затмеваются рутинной повседневной деятельностью, связанной с жизнью мемориальной культуры.
Помимо ухода очевидцев и смены поколений существуют и другие причины для нынешнего недовольства немецкой мемориальной культурой. Воспоминания о Второй мировой войне и Холокосте приобретут вскоре исключительно медиатизированный характер. Важную роль играет существенное изменение медийного ландшафта из-за всеобщей доступности электронных средств массовой коммуникации и особенно социальных сетей. Какое значение имеет национальная принадлежность в дигитальном мире, где каждый в равной мере удален от каждого или близок каждому и обладает доступом к тому же самому репертуару визуальных образов, печатных текстов или звуковых файлов? Интенсивная миграция кардинально изменила и состав общества. К тому же немцы проявляют все большую склонность воспринимать собственную историю как часть общеевропейской истории. Все это требует новых подходов к прошлому, которые, в свою очередь, влияют на качество мемориальной культуры.
Речь Мартина Вальзера, произнесенная в 1998 году во франкфуртском соборе Святого Павла по случаю присуждения Премии мира, побудила меня изучить эту речь и проанализировать развернувшуюся вокруг нее дискуссию[7 - Assmann A., Frevert U. Geschichtsvergessenheit – Geschichtsversessenheit. Vom Umgang mit deutschen Vergangenheiten nach 1945. Stuttgart, 1999.]. В этой дискуссии раздавались возмущенные голоса, заставившие меня разобраться с фигурировавшими в ней ключевыми понятиями и сделать их предметом детальной рефлексии. Предлагаемое здесь критическое освещение немецкой мемориальной культуры простирается от новейших медийных продуктов вроде телесериала «Наши матери, наши отцы», который транслировался каналом ZDF, до далекоидущих транснациональных коннотаций. Анализ не ограничивается наличным состоянием дел, ибо включает дискуссию о немецкой мемориальной культуре в широкий европейский и глобальный контекст. Тем самым рассмотрение мемориального дискурса не замыкается на немецкой специфике, а вопрос о значении и будущем мемориальной культуры обретает еще и транснациональную перспективу.
Многие вопросы, связанные с нынешним поворотным моментом, не могут, разумеется, претендовать на исчерпывающее освещение. Задача данной книги состоит в том, чтобы проанализировать основные понятия и темы, фигурирующие в дискуссии вокруг недовольства мемориальной культурой, воздать им должное как ценным критическим импульсам. Одновременно будет предпринята попытка уточнить понятийный аппарат, очертить основные проблемы и тем самым создать более прочную основу для этой важной дискуссии. Хотелось бы показать, что, несмотря на очевидные проблемы и порой ложные пути их решения, мемориальная культура является несущей опорой гражданского общества. Недовольство зачастую проявляет себя как раздражение, фрустрация, перерастает в ожесточенную полемику. Не всегда ясен предмет недовольства. Идет ли речь о личных инвективах? О споре экспертов относительно направлений развития мемориальной культуры? О возражениях против мемориальной культуры и ее общем неприятии? В различных голосах мне слышится проявление кризиса, о чем свидетельствует и эмоциональность высказываний. Они в свою очередь обнаруживают наличие накопившихся неразрешенных проблем, еще не вышедших на дискуссионный уровень. Данная книга призвана вывести недовольство мемориальной культурой на уровень критического обсуждения и внести посильный вклад в более глубокое осмысление и обновление нашего совместного проекта мемориальной культуры.
Забвение, умолчание, воспоминание
Всегда ли воспоминание – благо?
Всегда ли забвение – проклятье?
Каждое ли обращение к памяти легитимно?
Цветан Тодоров[8 - Todorov T. Hope and Memory. Lessons from the Twentieth Century. Princeton, NJ, 2003. Р. 3.]
1. Проблемы мемориальных исследований
Исследование, посвященное недовольству мемориальной культурой, я начинаю краткой характеристикой концептуальной основы представлений о памяти и критическим анализом понятийного аппарата, который используется в рамках данной концепции. Некоторые специалисты не просто выражают недовольство отдельными формами мемориальной культуры, но отрицают сам факт ее существования. Им кажется подозрительной сама посылка, полагающая воспоминание и забвение видами когнитивной деятельности, свойственной не только индивидууму, но и коллективам, то есть социальным группам, обществу и государству. Поэтому разберемся сначала с понятийными категориями, и особенно с концептом «коллективной памяти», до сих пор вызывающим упорное неприятие некоторых.
Индивидуальная и коллективная память
Прежде всего среди историков существует устойчивая группа авторов, отвергающих понятие «коллективная память». Это отторжение восходит к 20-м годам и Марку Блоку, одному из основателей школы «Анналов». Марк Блок указывал Морису Хальбваксу, основоположнику исследований памяти, что понятие «коллективной памяти» метафорично, а потому ложно. Подобная метафора порождает представление, будто коллектив «обладает» памятью точно так же, как памятью «обладает» индивид. Правда, Хальбвакс ничего подобного и не утверждал, поскольку в своих конкретных социологических штудиях изучал, как формируется память социальных групп. Эта общая, совместная память не предполагает подключение одного индивидуального мозга к другому, как это происходит с персональными компьютерами на «сетевой вечеринке» (LAN party), а основывается на общих ритуалах, символах и историях, в которых участвуют члены социальной группы и которые соотносятся друг с другом. Нет прямого пути от индивидуального опыта и индивидуальных воспоминаний к коллективной памяти. Это не совокупность отдельных воспоминаний, а историческая реконструкция, задающая рамки для индивидуальных воспоминаний, благодаря чему то, что пережито индивидуально, узнается субъектом в исторической реконструкции, или же субъект приписывает реконструированную историю собственному воспоминанию. Коллективная история репрезентативна в двойном смысле: она репрезентирует значимый для коллектива фрагмент прошлого и она репрезентативна по отношению к индивидуальной судьбе, представляя ее как часть истории. При этом речь всегда идет о двойном вопросе: что следует помнить? И что можно забыть? На данный вопрос можно дать либо один, либо другой ответ – именно в этом и заключается динамика незавершенного процесса.
Благодаря включению в коммуникацию и совместное воспроизводство традиции формируется та или иная групповая память, различающаяся степенью устойчивости, обязательности, а также широтой охвата. Лишь то, что выставлено в музеях, воплощено в памятниках и попало в школьные учебники, обретает шанс на передачу следующим поколениям. Коллективная память позволяет членам сообщества, преодолевая пространственные и временные дистанции, сохранять ценностные ориентиры и системы координат. Так возникает ощущение себя частью большого целого, значительно превосходящего горизонт индивидуального опыта. Уже упомянутые агностики не склонны принимать эти – изложенные в самом кратком виде – положения, составляющие основу исследований культурной памяти; напротив, они считают своей обязанностью снова и снова подвергать сомнению данные фундаментальные положения посредством аргументов воинствующего здравого смысла. Сошлемся в качестве примера на такого яркого представителя подобных взглядов, как историк Райнхард Козеллек (1923–2006): «Мой тезис гласит: я могу вспомнить лишь то, что пережил сам. Воспоминания привязаны к личному опыту. У меня нет воспоминаний, не обусловленных личным опытом. Я бы даже сказал, что каждый человек имеет право на собственные воспоминания. Это право на собственную биографию и собственное прошлое; данное право нельзя отнять никакими ссылками на коллективность и гомогенизацию, никакими требованиями или ожиданиями. Мое воспоминание есть нечто совершенно иное, нежели то, что является частью официальной коммеморации немецкого народа 27 января, в день освобождения Аушвица советскими войсками»[9 - Райнхард Козеллек «Существует ли коллективная память?», выступление 06.12.2003 на софийской международной конференции «Пьер Нора. Места памяти и конструкции современности». Мне довелось услышать это выступление Козеллека, состоявшееся в присутствии его французского коллеги, которому была посвящена конференция. Воспользовавшись предоставленной возможностью, Козеллек заявил о своем неприятии концепции коллективной памяти. Цитирую по машинописной расшифровке магнитофонной записи, найденной в Интернете и любезно переданной мне коллегой из Таллина.].
Тезис Козеллека состоит из нескольких утверждений, каждое из которых подлежит отдельному разбору. «У меня нет воспоминаний, не обусловленных личным опытом». Сразу ясно, что здесь подразумевается: воспоминание невозможно имплементировать извне; оно по своей природе обусловлено оптикой личного восприятия и переживания, а потому является неотъемлемым достоянием индивидуума. Отсюда, по мнению Козеллека, следует право человека на собственные воспоминания; подобно праву на свободу совести оно принадлежит к числу фундаментальных прав свободной и аутентичной личности. Данная мысль выглядит вполне убедительной, хотя при ближайшем рассмотрении вызывает некоторые вопросы. Козеллек сам подчеркивает: «Хотя не существует коллективных воспоминаний, однако есть коллективные условия для воспоминаний». Собственные воспоминания неизбежно пронизаны рассказами или впечатлениями других людей, поэтому особенно в ранних воспоминаниях нет четкой границы между тем, что человек пережил сам, и тем, что он услышал от других. Мы объединены с другими не только языком или иными компонентами культуры, но и «рамками памяти» (Морис Хальбвакс). Это понятие подразумевает наличие у социальной группы определенных критериев, согласно которым отбирается то или иное событие, оценивается его значимость, определяется коллективный способ его толкования и эмоциональное насыщение[10 - Halbwachs M. Das Ged?chtnis und seine sozialen Rahmenbedingungen. Frankfurt/M., 1975.]. Позволительно задать критикам теории коллективной памяти следующий полемический вопрос: «А существует ли вообще сугубо индивидуальная память?»[11 - Mrozek B. Zur Frage des kollektiven Erinnerns. Die Semantik der Memoria // Merkur. № 66. Mai 2012. Р. 412.] Индивидуальная память, в соответствии с этой теорией, не носит чисто солипсистский характер; индивидуум, сознает он это или нет, всегда является членом мемориального коллектива, в рамках которого он вспоминает нечто вместе с другими или вопреки другим.
Страстная аргументация Козеллека сводится к необходимости четко различать между личной и коллективной памятью. Но ведь этим он одновременно подтверждает существование феномена коллективной памяти. Следовательно, она не является лишь метафорой и вымыслом теоретиков, не имеющим никакого реального основания. Коллективная память действительно существует, хотя и на другом уровне: на уровне коммеморации (Gedenken). Козеллек справедливо отвергает попытки отождествить обе формы памяти, хотя и не вполне ясно, кто заявлял когда-либо о тождестве личных воспоминаний и коллективной памяти[12 - Ульрике Юрайт, сотрудница гамбургского Института социальных исследований, считает, что немцы отрицают наличие данной границы или намеренно стирают ее. К этому утверждению мы еще вернемся.]. Я, во всяком случае, исхожу из того, что немцы, отмечая 27 января день освобождения Аушвица, прекрасно сознают отсутствие у них личных воспоминаний, связанных с этим местом. Но они могут увидеть фотографии и кинофильмы, услышать чьи-то выступления, посетить выставки или мемориалы и принять таким образом участие в ежегодных коммеморациях по поводу данного исторического события. Но они могут и проигнорировать эту дату, ибо причастность к конкретному знанию с его особой релевантностью для коллективной идентичности есть дело принципиально добровольное и не подлежит принуждению в демократическом обществе. Поэтому календарная дата не предписывает всеобщей и унифицированной коммеморации, а служит лишь поводом для нее, которым каждый волен воспользоваться по собственному усмотрению в соответствии с индивидуальными интересами и мотивацией.
История и память
Согласно Козеллеку, необходимо проводить четкое различие между коллективной и индивидуальной памятью. С большим пафосом он подчеркивает, что личные воспоминания не должны подавляться или унифицироваться коллективными воспоминаниями. Видимо, Козеллек имеет в виду собственный опыт сознательной и активной жизни в тоталитарном обществе при национал-социализме, когда он был гимназистом и солдатом. Как убедительно показал Оруэлл в послевоенном романе «1984», тоталитарное общество формирует прошлое в соответствии с конъюнктурой интересов власти, подавляя взрывчатую силу личных воспоминаний, которые противопоставляют коммуникативной фикции свое индивидуальное вето. Такое же неприятие политических конструкций прошлого, обслуживающих властные интересы, определяет и подход Козеллека к исторической науке. Как историк, он отстаивает историческую правду, «которую никто не вправе ни оспаривать, ни искажать, а именно это постоянно делают память и воспоминания»[13 - Koselleck R. Gibt es ein kollektives Ged?chtnis? Р. 4. («Существует ли коллективная память?»)]. С той же страстностью, с какой Козеллек выступает за аутентичность личных воспоминаний и против коллективной памяти, он ратует за историческую правду, которая может быть подвержена махинациями, совершаемыми памятью: «Существует столько же воспоминаний, сколько людей; по моему убеждению, любой насаждаемый сверху коллективизм оказывается априори идеологией или мифом. Но ни идеологией, ни мифом не являются воспоминания, прошедшие через фильтр исторической критики»[14 - Ibid. Р. 6.].
Предложенная Козеллеком оппозиция «хорошее – плохое» или «реальное – фиктивное» содержит четкую оценку. Кто же в таком случае не сделает выбор в пользу критической историографии и против идеологии или мифа? Однако подобная эпистемологическая посылка навсегда закрывает подход к изучению коллективной и культурной памяти. Ключом для такого подхода служит идентичность. Ведь люди существуют не только в качестве индивидуумов, хотя, разумеется, всегда остаются таковыми; они живут в сообществах, социальных группах и культурах, чувствуя свою причастность к ним и сознавая, определяя с их помощью самих себя. Всякая идентичность не может обойтись без отсылки к собственной истории, будь то в связи с ориентацией на некие образцы или из-за необходимости самоописания. Однако историк, по мнению Козеллека, обязан занимать противоположную позицию: «На мой взгляд, задача историка выше и важнее претензий на коллективизацию воспоминаний». Он даже делает следующий шаг: задача историка «не формировать идентичность, а уничтожать ее»[15 - Koselleck R. Gibt es ein kollektives Ged?chtnis? Р. 4. («Существует ли коллективная память?»)].
Эти слова звучат вызовом не только исторической науке, но и тем, кто конструирует память. Кто отвечает за конструирование памяти? Ответ зависит от формации политического социума. В тоталитарных обществах коллективную память творит и контролирует государство; в демократическом обществе конструирование коллективной памяти осуществляют сами граждане, деятели культуры и искусств, политические партии и особенно СМИ. Козеллек стирает это важное различие, возлагая ответственность за конструирование памяти на «большую семерку» главных идеологов и мифотворцев: «профессоров, католических и протестантских священников, пиарщиков, журналистов, литераторов и политиков». Эти «общественные группы специализируются на создании коллективов посредством гомогенизации, коллективизации, упрощений и медиатизации»[16 - Ibid. Р. 5.].
Если согласиться с предложенной Козеллеком оппозицией «историческая правда – миф памяти», то не останется ничего иного, как полностью отказаться от нового научного направления, то есть от мемориальных исследований. Если же считать, что люди живут не только в качестве разрозненных индивидуумов, а образуют социальные группы, которые объединены культурным опытом, влиянием истории и социальной лояльностью, то перед нами встает вопрос об интеграционном и конфликтном потенциале памяти, открывающий новое широкое поле научных изысканий.
Сделавшему шаг в сторону истории как коммеморации открывается сложная картина. Покинув защищенную наукой сферу истины и дистанцированности от предмета, он видит действующих лиц истории в хитросплетении ценностей и ожиданий, символических практик и эмоциональных инвестиций. Люди конструируют для себя удобное прошлое, поскольку их тяготят темные эпизоды собственной истории, к тому же прошлое способно оказывать различные виды давления. Пользуясь памятью, люди определяют для себя в настоящем общие цели на будущее. В этом свете понятия «идеология» или «миф» меняют свое значение. Они перестают считаться «манипуляцией» или «обманом» и воспринимаются как символические конструкты, которые объединяют людей, позволяя при этом индивидууму организовать собственную жизнь. Становится понятно, что люди не могут обойтись без таких символических конструктов, поскольку необходимы символические формы коллективного самосознания и ценностной ориентации. Если первый шаг сделан, то на следующем уровне встает вопрос, как устроены и как функционируют эти символические конструкты; далее будет более подробно показано, что память может быть продуктивной или агрессивной, она способна порождать насилие или служить цивилизующим фактором.
Таким образом, можно констатировать наличие различных форм памяти – индивидуальной и коллективной, – которые не исключают друг друга. То же самое относится к параллельному существованию исторической науки и конструктов памяти. Здесь мы вновь сталкиваемся с недовольством, то есть комплексом проблем, который постоянно порождает неясности, раздражение, взаимные упреки и полемику. Поэтому уместно ввести некоторые разъяснения, способные помочь делу. Полемическое противопоставление «истории» и «памяти» заняло прочное место в дискурсе 1990-х годов. Но их взаимоотношение все реже рассматривается как взаимоисключающее; все чаще говорится об их взаимодополнении. С одной стороны, в демократическом обществе нельзя диктовать исторической науке, о чем и как она должна помнить. Историки не занимаются вопросами нормативного характера, они не вправе брать на себя подобную миссию, находящуюся вне их компетенции. Именно это имеет в виду Козеллек, когда отмечает, что «задача историка – не формировать идентичность, а разрушать ее». Формированием идентичности занимаются, по его мнению, «историки на службе у власти», что следует четко отграничивать от обязанности историка «служить истине». В противном случае у исторической науки не будет иммунитета к конструктам памяти. То, что избирается обществом в качестве обязательной основы отношения к прошлому, должно стать объектом критического изучения. Когда устанавливается государственная монополия на прошлое и государство препятствует независимой историографии, то это ведет к возникновению идеологии и мифа в указанном выше смысле; с другой стороны, критическая историография, полностью утратив связь с памятью и идентичностью, оборачивается самоотчуждением исторической науки за счет ее искусственной сциентизации. Данный вопрос занимал уже Фридриха Ницше: как не допустить, чтобы современная историческая наука лишилась всякой связи с нормативными и культурными аспектами идентичности? Спустя полвека Вальтер Беньямин писал: «История не только наука, она в такой же мере служит формой памятования», а Юрген Хабермас добавил к этому тезису: «Наша ответственность распространяется и на прошлое»[17 - D?ringer H. Die Vergangenheit ist nicht abgeschlossen. Religi?se Aspekte des Erinnerns // Fr?lich M., Jureit U., Schneider Ch. (Hrsg.). Das Unbehagen an der Erinnerung – Wandlungsprozesse im Gedenken an den Holocaust. Frankfurt/M., 2012. S. 59.].
Индивидуальная или коллективная память (коммеморация, культурная память) и историческая наука являются различными и самостоятельными подходами к прошлому, которые несводимы друг к другу; отсюда вытекает плюрализм памяти. Параллельное существование различных видов памяти не стоит считать постмодернистским релятивизмом; скорее здесь имеет место система сдержек и противовесов (checks and balances), взаимодополнений и обоюдного контроля. Одновременно нельзя не признать, что границы между различными сферами памяти отнюдь не непроницаемы и зачастую обнаруживают многообразные пересечения. Впрочем, историки, отстаивающие наряду с Козеллеком строгую дихотомию между «критической историографией» и «идеологией» или «мифом», занимают выигрышную позицию, которая позволяет им демонстрировать в полемических столкновениях собственное превосходство, дискредитируя оппонентов. Ведь борец против «идеологий» и «мифов» всегда вправе чувствовать свою моральную правоту. А вот тому, кто сознает, что собственные взгляды неизменно содержат известную долю мифа и идеологии, все труднее определить свою позицию упрощенно, если только речь не идет об острой политической конфронтации. Проблематичны не идеология и миф, а наличие противоположных политических опций применительно к каждому конкретному случаю: с одной стороны, инструментализация прошлого, которая обслуживает властные интересы, а с другой – самокритичное признание исторической ответственности в духе правового государства. Внутри исторической науки наличествуют не только агностики мемориальной культуры, но и широкий спектр разнообразных позиций в поле напряженных взаимоотношений между историей и памятью. Например, Йорн Рюзен, бывший билефельдский коллега Козеллека, разрабатывает концепцию «исторической культуры», которая охватывает такие важные аспекты культурологии, как травматические последствия исторических событий, их влияние на эмоциональное состояние общества и идентичность[18 - R?sen J. Was ist Geschichtskultur? ?berlegungen zu einer neuen Art, ?ber Geschichte nachzudenken // R?sen J. Historische Orientierung. ?ber die Arbeit des Geschichtsbewusstseins, sich in der Zeit zurecht zu finden. K?ln et al., 1994. S. 211–234.]. Парадоксален тот факт, что большинство исследователей, занимающихся изучением памяти, рекрутируются из цеха профессиональных историков, которые не усматривают в этом морального конфликта между истиной и ложью, а видят обогащение своего методологического инструментария и проблемного репертуара. Данное обстоятельство рассеивает опасения, что культурологические исследования памяти, оставив в стороне вопрос об истине, сами без зазрения совести оказываются причастными к продуцированию идеологии и мифотворчеству, ибо изучение различных уровней памяти отнюдь не исключает привычного подхода к исследуемому предмету. Напротив, это изучение само превратилось в рефлексивный метадискурс, важный раздел критического анализа и диагностики конструктов памяти. Отказ от плоской дихотомии между историей и памятью открывает многообразие взаимосвязей обеих форм обращения к прошлому и их взаимодополняемость. Память необходима, чтобы вдохнуть жизнь в массив исторических знаний в виде смыслов, перспектив и социальной релевантности; история нужна для критической поверки конструкций памяти, которые всегда формируются под воздействием определенной конфигурации власти и продиктованы насущными потребностями современности.
Культурная память
Директор гамбургского Института социальных исследований Ян Филипп Реемтсма является, подобно Козеллеку, представителем радикального индивидуализма. С этих позиций он отрицает или умаляет иные формы отношения к индивидууму. Как и Козеллек, Реемтсма считает, что только индивидуум обладает памятью. Воспоминания индивидуума кратковременны и эфемерны. «Осознанно воспринимается лишь немногое. Еще меньше попадает в оперативную память. Совсем мало сохраняется долговременной памятью, и ничтожно мало из биографически значимых фактов помнится на протяжении всей жизни»[19 - Reemtsma J.Ph. Wozu Gedenkst?tten? // Aus Politik und Zeitgeschichte. 2010. Vol. 25–26. S. 3.]. Наличие «культурной памяти» он категорически отрицает. А ведь понимание того, что память, базируясь на символах, служит для социальной группы формой самоопределения и ориентиром на будущее, стала важным интеллектуальным достижением, которое с 1980-х годов расширило наше представление о культуре и процессах ее трансформации. Согласно этому представлению, культура создает транспоколенческое пространство знаний и систему координат, посредством которых носители этой культуры оформляют собственный опыт. Поэтому история не есть нечто окончательно ушедшее и интересующее только историков. Как показал исследователь мозга Эрик Кандель на примере улитки Aplysia, «память, сообразуясь с раздражителем, сработавшим в прошлом, помогает справиться с задачами настоящего, чтобы выжить в будущем»[20 - Giesecke D., Welzer H. Das Menschenm?gliche. S. 16.]. В культуре память также «обеспечивает ориентацию в настоящем ради будущих действий»[21 - Ibid. S. 75.]. Нам неизвестна культура, которая не формировала бы тем или иным способом стратегию и практику своей культурной памяти.
Алейда Ассман
Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»
Новая книга немецкого историка и теоретика культурной памяти Алейды Ассман полемизирует с все более усиливающейся в последние годы тенденцией, ставящей под сомнение ценность той мемориальной культуры, которая начиная с 1970–1980-х годов стала доминирующим способом работы с прошлым. Поводом для этого усиливающегося «недовольства» стало превращение травматического прошлого в предмет политического и экономического торга. «Индустрия Холокоста», ожесточенная конкуренция за статус жертвы, болезненная привязанность к чувству вины – наиболее заметные проявления того, как работают современные формы культурной памяти. Частично признавая обоснованность позиции своих оппонентов, Алейда Ассман пытается выстроить такую мемориальную перспективу, в которой ответственность за совершенные преступления, этическая готовность разделить чувство вины и правовые рамки, позволяющие услышать голоса жертв, превращали бы работу с прошлым в один из важных факторов сознательного движения к будущему.
Алейда Ассман
Новое недовольство мемориальной культурой
Aleida Assmann
Das Neue Unbehagen an der Erinnerungskultur
© Verlag C.H.Beck oHG, M?nchen 2021
© Б. Хлебников, перевод с немецкого, 2016
© А. Рыбаков, дизайн обложки, 2016
© ООО «Новое литературное обозрение», 2016, 2023
Введение
В 1930 году Зигмунд Фрейд опубликовал в Вене работу под названием «Недовольство культурой», где рассматривал культуру как коллективный проект, ограничивающий желания Эго ради общественного блага. По мысли Фрейда, технический прогресс, движущий культуру модерна, не приводит (на фоне растущей власти над окружающим миром) ни к субъективному ощущению счастья, ни к полному удовлетворению. Причину отсутствия счастья и внутреннего удовлетворения Фрейд видел не в обостряющемся сознании растущих опасностей и рисков, которые несет научно-техническая цивилизация, а в том, что экспансия культуры влечет за собой и экспансию супер-Эго, все больше подавляющего собой Эго. Культура, по мнению Фрейда, сталкивает индивидуума с непосильными вызовами и непомерными этическими требованиями. Предъявляемые человеку обществом «культурные идеалы» имеют слишком высокую цену, – а именно искусственно поддерживаемое сознание вины, на основе которого формируется индивидуальная совесть, поэтому «вследствие его усиления прогресс культуры оплачивается ущемлением счастья»[1 - Freud S. Das Unbehagen in der Kultur (1930) // Freud S. Kulturtheoretische Schriften. Frankfurt/M., 1974. S. 218, 260; цит. по: Фрейд З. Недовольство культурой // Фрейд З. Художник и фантазирование. М., 1995. С. 311.].
Остановимся на этом базовом аргументе, ибо доводы Фрейда затрагивают самый нерв послевоенной немецкой истории: платой за культурный прогресс служит растущее чувство вины. Реинтеграция Германии в круг цивилизованных стран произошла на основе негативной памяти, которая включила собственную преступную предысторию в коллективное представление нации о себе и ритуально поддерживает чувство вины посредством ее общественного признания. Но вина, о которой идет речь, уже не является фрейдовским эдиповым конструктом, предполагающим, что сговорившиеся между собой братья убивают отца, главу архаичного племени; здесь имеется в виду уничтожение европейских евреев и других беззащитных национальных меньшинств, которое задумывалось, планировалось и осуществлялось немцами вместе с коллаборационистами из других стран.
Если фрейдовская идея об убийстве праотца была научным мифом, то геноцид евреев – это недавнее преступление против человечества, документально подтвержденное многочисленными историческими источниками. Бремя подобной вины значительно превосходит все, что можно себе представить, эмоционально выдержать и искупить; это бремя ложится тяжким грузом на следующие поколения, его приходится нести с собой в будущее.
«Мемориальная культура», которой посвящена эта книга, является ответом на данное историческое событие. С 1990-х годов понятие «мемориальная культура» утвердилось в научных дискурсах, в выступлениях политиков, в публикациях СМИ и даже в повседневной разговорной речи. Мы регулярно встречаемся с ним, будь то в воскресной проповеди или в передовице еженедельника «Шпигель», поэтому не отдаем себе отчет, насколько новым является это словосочетание – «мемориальная культура».
В данном случае, как я постараюсь показать, новым является не только словосочетание, но и обозначаемое им понятие. Однако почему ответ на тягчайшее преступление XX века появился так поздно? Почему о мемориальной культуре заговорили спустя годы после окончания Второй мировой войны? Почему молчание столь долго считалось наиболее подходящим решением? Новое понятие соответствует новому, кардинально изменившемуся соотношению между настоящим, прошлым и будущим. Мы вправе также констатировать глубокую смену ценностей, начавшуюся в 1980-е годы. Речь идет о сдвигах в очевидностях, которые не ставятся под сомнение и не подлежат обсуждению, ибо они являются частью наших устойчивых представлений о мире. Подобные умалчиваемые сдвиги нормативных координат экологи называют «Shifting Baselines». Обычно люди не сознают происходящие в окружающем мире перемены социального или физического характера, поскольку «считают „естественным“ то состояние окружающего мира, которое совпадает по времени с их биографией и жизненным опытом»[2 - Giesecke D., Welzer H. Das Menschenm?gliche. Zur Renovierung der deutschen Erinnerungskultur. Hamburg 2012. S. 166; ср.: Radkau J. Natur und Macht. Eine Weltgeschichte der Umwelt. M?nchen, 2002. S. 164 ff.].
Когда в 1989 году пала Берлинская стена, сокрушив и весь советский восточный блок, параллельно разрушилось еще нечто очень важное, а именно вера в модернизацию с ее надеждами на будущее и забвением прошлого.
Становление мемориальной культуры и падение веры в модернизацию непосредственно связаны друг с другом; они знаменуют собой постепенное осознание Западом совершающейся эволюции в восприятии времени[3 - Ср.: Assmann A. Ist die Zeit aus den Fugen? Aufstieg und Fall des Zeitregimes der Moderne. M?nchen, 2013.]. Новая мемориальная культура радикально изменила традиционные формы коммеморации. Впервые за всю историю они относятся теперь не только к понесенным собственной страной жертвам войны, скорбно оплакиваемым или чествуемым как герои, но и к жертвам собственных преступлений, ответственность за которые ложится на государство и на последующие поколения. Подобная самокритичная коммеморация является совершенно новым историческим явлением.
Мемориальная культура формировалась в Германии на протяжении трех десятилетий с большой энергией, немалыми финансовыми затратами и значительными усилиями гражданского общества; за это время она обросла огромным количеством музеев, различных проектов, мероприятий и программ, став для всех зримой и общедоступной. Средства массовой информации обеспечили мемориальной культуре естественное вхождение в повседневный быт; она присутствует теперь непосредственно у порога дома, например в виде «камня преткновения»; она запечатлена в выдающихся памятниках и монументах общенациональной значимости. После начальной фазы интенсивного роста мемориальная культура проходит ныне своего рода экзамен на аттестат зрелости. Какую роль займут теперь воспоминания в нашем обществе? Следует ли продолжить развитие мемориальной культуры, и если да, то как? Куда ведет избранный путь и кто пойдет этим путем? Вот несколько фундаментальных вопросов актуальной повестки дня.
«Вскоре будет похоронен последний „пимпф“, которого можно упрекнуть в том, что он являлся членом детской нацистской организации, и который своевременно не покаялся в этом», – писал Герман Люббе в 2008 году[4 - L?bbe H. Vom Parteigenossen zum Bundesb?rger. ?ber Beschwingende und Historisierte Vergangenheiten. M?nchen, 2007. S. 132.]. По мнению Харальда Вельцера, «многое подсказывает, что интенсивность воспоминаний о национал-социализме, о войне и Холокосте со временем спадет и девитализируется». Вельцер связывает это с тем, что «по мере подрастания четвертого и пятого поколения после Холокоста исчезнет непосредственная историческая связь с этим историческим комплексом»[5 - Giesecke D., Welzer H. Das Menschenm?gliche. S. 73.].
Короткая историческая эпоха живых свидетелей скоро закончится. Но приблизятся ли к «естественному» концу и воспоминания об этой исторической эпохе? Превратятся ли вскоре Вторая мировая война и Холокост всего лишь в соответствующие главы в исторической монографии (Франк Ширрмахер)? Событие приобретает статус исторического факта, принадлежащего прошлому, когда это событие перестает быть частью нормативной самоидентификации коллективного «мы»: о нем можно забыть, отдав его на откуп историкам. В противном случае действует формула: «Мы не вправе забывать это как граждане нашей страны». На возможность самоидентификации с негативным историческим опытом указывал еще Ницше: поскольку мы являемся «…продуктами прежних поколений, то мы являемся в то же время продуктами и их заблуждений, страстей и ошибок и даже преступлений, и невозможно совершенно оторваться от этой цепи. Если даже мы осуждаем эти заблуждения и считаем себя от них свободными, то тем самым не устраняется факт, что мы связаны с ним нашим происхождением»[6 - Nietzsche F. Vom Nutzen und Nachteil der Historie f?r das Leben // Nietzsche F. Werke in drei B?nden / Schlechta K. (hrsg.) M?nchen, 1962. Bd. 1. S. 229–230; цит. по: Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни // Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 178.].
Поэтому вопрос не в том, есть ли будущее у мемориальной культуры после следующего за историческим событием поколения и поколения, идущего за ним, сколько в том, как надлежит направлять развитие мемориальной культуры, какие проблемы, опасности, вызовы и шансы ожидают нас в будущем. Воспоминание – динамический процесс, который испытывает внутреннее давление и воздействие изменяющихся внешних обстоятельств. Предложенный Фридрихом Ницше генеалогический концепт «цепи» или «истока» предполагает наличие этнического коллектива, объединенного общей виной; такой коллектив невозможно сохранить в эпоху глобализации, миграции и связанной с ними плюрализации воспоминаний. Мы переживаем демографический и культурный поворот, поэтому помимо обновления и адаптации к складывающимся условиям нам необходимы формы рефлексии и дискурсы о решениях относительно выбора того или иного направления. Ныне крайне актуальна самокритичная дискуссия о месте, где мы находимся, и о динамике развития немецкой мемориальной культуры.
Непосредственным импульсом для написания данной книги послужило растущее недовольство мемориальной культурой, которое выражается во множестве различных высказываний и настроений. Оно отчетливо сигнализирует, что достигнута поворотная точка, где намечаются и уже происходят важные перемены в мемориальной культуре XXI века. Этот поворот характеризуется, прежде всего, двойной сменой поколений. С одной стороны, мы, как уже сказано, переживаем конец «эпохи очевидцев», которые до сих пор играли роль посредников, служили мостом между историей как личным опытом и просто дидактическим материалом. Очевидцы, уцелевшие участники исторических событий, выступая в школах или на мемориальных мероприятиях, способствуют приобретению живых впечатлений, пусть даже из вторых рук; эти встречи и само историческое событие останутся в личной памяти молодых людей из подрастающего поколения иначе, чем это происходит с цифрами и фактами, запечатленными памятью как чисто когнитивной способностью человека.
С другой стороны, мы наблюдаем сейчас завершение «интерпретативных полномочий» (Deutungsmacht) поколения 1968 года, которое вместе со старшим поколением бывших «помощников средств ПВО» (Flakhelfergeneration) и детей военных лет несут ответственность за состояние мемориальной культуры в качестве архитекторов, планировщиков или руководителей и соответствующих учреждений. Эти поколения должны передать свои полномочия в новые руки. Нынешняя дискуссия о недовольстве мемориальной культурой служит ясным признаком того, что новое поколение во все большей мере принимает на себя «интерпретативные полномочия», заявляя о себе собственными представлениями, эмоциями, идеями, ценностями и концепциями. Мое решение вновь вмешаться в эту дискуссию обусловлено тем, что она ставит фундаментальные вопросы о состоянии, целях, формах и перспективах немецкой мемориальной культуры, столь же актуальные, как и захватывающие. Настало время осмыслить эти насущные вопросы и вызовы, которые затмеваются рутинной повседневной деятельностью, связанной с жизнью мемориальной культуры.
Помимо ухода очевидцев и смены поколений существуют и другие причины для нынешнего недовольства немецкой мемориальной культурой. Воспоминания о Второй мировой войне и Холокосте приобретут вскоре исключительно медиатизированный характер. Важную роль играет существенное изменение медийного ландшафта из-за всеобщей доступности электронных средств массовой коммуникации и особенно социальных сетей. Какое значение имеет национальная принадлежность в дигитальном мире, где каждый в равной мере удален от каждого или близок каждому и обладает доступом к тому же самому репертуару визуальных образов, печатных текстов или звуковых файлов? Интенсивная миграция кардинально изменила и состав общества. К тому же немцы проявляют все большую склонность воспринимать собственную историю как часть общеевропейской истории. Все это требует новых подходов к прошлому, которые, в свою очередь, влияют на качество мемориальной культуры.
Речь Мартина Вальзера, произнесенная в 1998 году во франкфуртском соборе Святого Павла по случаю присуждения Премии мира, побудила меня изучить эту речь и проанализировать развернувшуюся вокруг нее дискуссию[7 - Assmann A., Frevert U. Geschichtsvergessenheit – Geschichtsversessenheit. Vom Umgang mit deutschen Vergangenheiten nach 1945. Stuttgart, 1999.]. В этой дискуссии раздавались возмущенные голоса, заставившие меня разобраться с фигурировавшими в ней ключевыми понятиями и сделать их предметом детальной рефлексии. Предлагаемое здесь критическое освещение немецкой мемориальной культуры простирается от новейших медийных продуктов вроде телесериала «Наши матери, наши отцы», который транслировался каналом ZDF, до далекоидущих транснациональных коннотаций. Анализ не ограничивается наличным состоянием дел, ибо включает дискуссию о немецкой мемориальной культуре в широкий европейский и глобальный контекст. Тем самым рассмотрение мемориального дискурса не замыкается на немецкой специфике, а вопрос о значении и будущем мемориальной культуры обретает еще и транснациональную перспективу.
Многие вопросы, связанные с нынешним поворотным моментом, не могут, разумеется, претендовать на исчерпывающее освещение. Задача данной книги состоит в том, чтобы проанализировать основные понятия и темы, фигурирующие в дискуссии вокруг недовольства мемориальной культурой, воздать им должное как ценным критическим импульсам. Одновременно будет предпринята попытка уточнить понятийный аппарат, очертить основные проблемы и тем самым создать более прочную основу для этой важной дискуссии. Хотелось бы показать, что, несмотря на очевидные проблемы и порой ложные пути их решения, мемориальная культура является несущей опорой гражданского общества. Недовольство зачастую проявляет себя как раздражение, фрустрация, перерастает в ожесточенную полемику. Не всегда ясен предмет недовольства. Идет ли речь о личных инвективах? О споре экспертов относительно направлений развития мемориальной культуры? О возражениях против мемориальной культуры и ее общем неприятии? В различных голосах мне слышится проявление кризиса, о чем свидетельствует и эмоциональность высказываний. Они в свою очередь обнаруживают наличие накопившихся неразрешенных проблем, еще не вышедших на дискуссионный уровень. Данная книга призвана вывести недовольство мемориальной культурой на уровень критического обсуждения и внести посильный вклад в более глубокое осмысление и обновление нашего совместного проекта мемориальной культуры.
Забвение, умолчание, воспоминание
Всегда ли воспоминание – благо?
Всегда ли забвение – проклятье?
Каждое ли обращение к памяти легитимно?
Цветан Тодоров[8 - Todorov T. Hope and Memory. Lessons from the Twentieth Century. Princeton, NJ, 2003. Р. 3.]
1. Проблемы мемориальных исследований
Исследование, посвященное недовольству мемориальной культурой, я начинаю краткой характеристикой концептуальной основы представлений о памяти и критическим анализом понятийного аппарата, который используется в рамках данной концепции. Некоторые специалисты не просто выражают недовольство отдельными формами мемориальной культуры, но отрицают сам факт ее существования. Им кажется подозрительной сама посылка, полагающая воспоминание и забвение видами когнитивной деятельности, свойственной не только индивидууму, но и коллективам, то есть социальным группам, обществу и государству. Поэтому разберемся сначала с понятийными категориями, и особенно с концептом «коллективной памяти», до сих пор вызывающим упорное неприятие некоторых.
Индивидуальная и коллективная память
Прежде всего среди историков существует устойчивая группа авторов, отвергающих понятие «коллективная память». Это отторжение восходит к 20-м годам и Марку Блоку, одному из основателей школы «Анналов». Марк Блок указывал Морису Хальбваксу, основоположнику исследований памяти, что понятие «коллективной памяти» метафорично, а потому ложно. Подобная метафора порождает представление, будто коллектив «обладает» памятью точно так же, как памятью «обладает» индивид. Правда, Хальбвакс ничего подобного и не утверждал, поскольку в своих конкретных социологических штудиях изучал, как формируется память социальных групп. Эта общая, совместная память не предполагает подключение одного индивидуального мозга к другому, как это происходит с персональными компьютерами на «сетевой вечеринке» (LAN party), а основывается на общих ритуалах, символах и историях, в которых участвуют члены социальной группы и которые соотносятся друг с другом. Нет прямого пути от индивидуального опыта и индивидуальных воспоминаний к коллективной памяти. Это не совокупность отдельных воспоминаний, а историческая реконструкция, задающая рамки для индивидуальных воспоминаний, благодаря чему то, что пережито индивидуально, узнается субъектом в исторической реконструкции, или же субъект приписывает реконструированную историю собственному воспоминанию. Коллективная история репрезентативна в двойном смысле: она репрезентирует значимый для коллектива фрагмент прошлого и она репрезентативна по отношению к индивидуальной судьбе, представляя ее как часть истории. При этом речь всегда идет о двойном вопросе: что следует помнить? И что можно забыть? На данный вопрос можно дать либо один, либо другой ответ – именно в этом и заключается динамика незавершенного процесса.
Благодаря включению в коммуникацию и совместное воспроизводство традиции формируется та или иная групповая память, различающаяся степенью устойчивости, обязательности, а также широтой охвата. Лишь то, что выставлено в музеях, воплощено в памятниках и попало в школьные учебники, обретает шанс на передачу следующим поколениям. Коллективная память позволяет членам сообщества, преодолевая пространственные и временные дистанции, сохранять ценностные ориентиры и системы координат. Так возникает ощущение себя частью большого целого, значительно превосходящего горизонт индивидуального опыта. Уже упомянутые агностики не склонны принимать эти – изложенные в самом кратком виде – положения, составляющие основу исследований культурной памяти; напротив, они считают своей обязанностью снова и снова подвергать сомнению данные фундаментальные положения посредством аргументов воинствующего здравого смысла. Сошлемся в качестве примера на такого яркого представителя подобных взглядов, как историк Райнхард Козеллек (1923–2006): «Мой тезис гласит: я могу вспомнить лишь то, что пережил сам. Воспоминания привязаны к личному опыту. У меня нет воспоминаний, не обусловленных личным опытом. Я бы даже сказал, что каждый человек имеет право на собственные воспоминания. Это право на собственную биографию и собственное прошлое; данное право нельзя отнять никакими ссылками на коллективность и гомогенизацию, никакими требованиями или ожиданиями. Мое воспоминание есть нечто совершенно иное, нежели то, что является частью официальной коммеморации немецкого народа 27 января, в день освобождения Аушвица советскими войсками»[9 - Райнхард Козеллек «Существует ли коллективная память?», выступление 06.12.2003 на софийской международной конференции «Пьер Нора. Места памяти и конструкции современности». Мне довелось услышать это выступление Козеллека, состоявшееся в присутствии его французского коллеги, которому была посвящена конференция. Воспользовавшись предоставленной возможностью, Козеллек заявил о своем неприятии концепции коллективной памяти. Цитирую по машинописной расшифровке магнитофонной записи, найденной в Интернете и любезно переданной мне коллегой из Таллина.].
Тезис Козеллека состоит из нескольких утверждений, каждое из которых подлежит отдельному разбору. «У меня нет воспоминаний, не обусловленных личным опытом». Сразу ясно, что здесь подразумевается: воспоминание невозможно имплементировать извне; оно по своей природе обусловлено оптикой личного восприятия и переживания, а потому является неотъемлемым достоянием индивидуума. Отсюда, по мнению Козеллека, следует право человека на собственные воспоминания; подобно праву на свободу совести оно принадлежит к числу фундаментальных прав свободной и аутентичной личности. Данная мысль выглядит вполне убедительной, хотя при ближайшем рассмотрении вызывает некоторые вопросы. Козеллек сам подчеркивает: «Хотя не существует коллективных воспоминаний, однако есть коллективные условия для воспоминаний». Собственные воспоминания неизбежно пронизаны рассказами или впечатлениями других людей, поэтому особенно в ранних воспоминаниях нет четкой границы между тем, что человек пережил сам, и тем, что он услышал от других. Мы объединены с другими не только языком или иными компонентами культуры, но и «рамками памяти» (Морис Хальбвакс). Это понятие подразумевает наличие у социальной группы определенных критериев, согласно которым отбирается то или иное событие, оценивается его значимость, определяется коллективный способ его толкования и эмоциональное насыщение[10 - Halbwachs M. Das Ged?chtnis und seine sozialen Rahmenbedingungen. Frankfurt/M., 1975.]. Позволительно задать критикам теории коллективной памяти следующий полемический вопрос: «А существует ли вообще сугубо индивидуальная память?»[11 - Mrozek B. Zur Frage des kollektiven Erinnerns. Die Semantik der Memoria // Merkur. № 66. Mai 2012. Р. 412.] Индивидуальная память, в соответствии с этой теорией, не носит чисто солипсистский характер; индивидуум, сознает он это или нет, всегда является членом мемориального коллектива, в рамках которого он вспоминает нечто вместе с другими или вопреки другим.
Страстная аргументация Козеллека сводится к необходимости четко различать между личной и коллективной памятью. Но ведь этим он одновременно подтверждает существование феномена коллективной памяти. Следовательно, она не является лишь метафорой и вымыслом теоретиков, не имеющим никакого реального основания. Коллективная память действительно существует, хотя и на другом уровне: на уровне коммеморации (Gedenken). Козеллек справедливо отвергает попытки отождествить обе формы памяти, хотя и не вполне ясно, кто заявлял когда-либо о тождестве личных воспоминаний и коллективной памяти[12 - Ульрике Юрайт, сотрудница гамбургского Института социальных исследований, считает, что немцы отрицают наличие данной границы или намеренно стирают ее. К этому утверждению мы еще вернемся.]. Я, во всяком случае, исхожу из того, что немцы, отмечая 27 января день освобождения Аушвица, прекрасно сознают отсутствие у них личных воспоминаний, связанных с этим местом. Но они могут увидеть фотографии и кинофильмы, услышать чьи-то выступления, посетить выставки или мемориалы и принять таким образом участие в ежегодных коммеморациях по поводу данного исторического события. Но они могут и проигнорировать эту дату, ибо причастность к конкретному знанию с его особой релевантностью для коллективной идентичности есть дело принципиально добровольное и не подлежит принуждению в демократическом обществе. Поэтому календарная дата не предписывает всеобщей и унифицированной коммеморации, а служит лишь поводом для нее, которым каждый волен воспользоваться по собственному усмотрению в соответствии с индивидуальными интересами и мотивацией.
История и память
Согласно Козеллеку, необходимо проводить четкое различие между коллективной и индивидуальной памятью. С большим пафосом он подчеркивает, что личные воспоминания не должны подавляться или унифицироваться коллективными воспоминаниями. Видимо, Козеллек имеет в виду собственный опыт сознательной и активной жизни в тоталитарном обществе при национал-социализме, когда он был гимназистом и солдатом. Как убедительно показал Оруэлл в послевоенном романе «1984», тоталитарное общество формирует прошлое в соответствии с конъюнктурой интересов власти, подавляя взрывчатую силу личных воспоминаний, которые противопоставляют коммуникативной фикции свое индивидуальное вето. Такое же неприятие политических конструкций прошлого, обслуживающих властные интересы, определяет и подход Козеллека к исторической науке. Как историк, он отстаивает историческую правду, «которую никто не вправе ни оспаривать, ни искажать, а именно это постоянно делают память и воспоминания»[13 - Koselleck R. Gibt es ein kollektives Ged?chtnis? Р. 4. («Существует ли коллективная память?»)]. С той же страстностью, с какой Козеллек выступает за аутентичность личных воспоминаний и против коллективной памяти, он ратует за историческую правду, которая может быть подвержена махинациями, совершаемыми памятью: «Существует столько же воспоминаний, сколько людей; по моему убеждению, любой насаждаемый сверху коллективизм оказывается априори идеологией или мифом. Но ни идеологией, ни мифом не являются воспоминания, прошедшие через фильтр исторической критики»[14 - Ibid. Р. 6.].
Предложенная Козеллеком оппозиция «хорошее – плохое» или «реальное – фиктивное» содержит четкую оценку. Кто же в таком случае не сделает выбор в пользу критической историографии и против идеологии или мифа? Однако подобная эпистемологическая посылка навсегда закрывает подход к изучению коллективной и культурной памяти. Ключом для такого подхода служит идентичность. Ведь люди существуют не только в качестве индивидуумов, хотя, разумеется, всегда остаются таковыми; они живут в сообществах, социальных группах и культурах, чувствуя свою причастность к ним и сознавая, определяя с их помощью самих себя. Всякая идентичность не может обойтись без отсылки к собственной истории, будь то в связи с ориентацией на некие образцы или из-за необходимости самоописания. Однако историк, по мнению Козеллека, обязан занимать противоположную позицию: «На мой взгляд, задача историка выше и важнее претензий на коллективизацию воспоминаний». Он даже делает следующий шаг: задача историка «не формировать идентичность, а уничтожать ее»[15 - Koselleck R. Gibt es ein kollektives Ged?chtnis? Р. 4. («Существует ли коллективная память?»)].
Эти слова звучат вызовом не только исторической науке, но и тем, кто конструирует память. Кто отвечает за конструирование памяти? Ответ зависит от формации политического социума. В тоталитарных обществах коллективную память творит и контролирует государство; в демократическом обществе конструирование коллективной памяти осуществляют сами граждане, деятели культуры и искусств, политические партии и особенно СМИ. Козеллек стирает это важное различие, возлагая ответственность за конструирование памяти на «большую семерку» главных идеологов и мифотворцев: «профессоров, католических и протестантских священников, пиарщиков, журналистов, литераторов и политиков». Эти «общественные группы специализируются на создании коллективов посредством гомогенизации, коллективизации, упрощений и медиатизации»[16 - Ibid. Р. 5.].
Если согласиться с предложенной Козеллеком оппозицией «историческая правда – миф памяти», то не останется ничего иного, как полностью отказаться от нового научного направления, то есть от мемориальных исследований. Если же считать, что люди живут не только в качестве разрозненных индивидуумов, а образуют социальные группы, которые объединены культурным опытом, влиянием истории и социальной лояльностью, то перед нами встает вопрос об интеграционном и конфликтном потенциале памяти, открывающий новое широкое поле научных изысканий.
Сделавшему шаг в сторону истории как коммеморации открывается сложная картина. Покинув защищенную наукой сферу истины и дистанцированности от предмета, он видит действующих лиц истории в хитросплетении ценностей и ожиданий, символических практик и эмоциональных инвестиций. Люди конструируют для себя удобное прошлое, поскольку их тяготят темные эпизоды собственной истории, к тому же прошлое способно оказывать различные виды давления. Пользуясь памятью, люди определяют для себя в настоящем общие цели на будущее. В этом свете понятия «идеология» или «миф» меняют свое значение. Они перестают считаться «манипуляцией» или «обманом» и воспринимаются как символические конструкты, которые объединяют людей, позволяя при этом индивидууму организовать собственную жизнь. Становится понятно, что люди не могут обойтись без таких символических конструктов, поскольку необходимы символические формы коллективного самосознания и ценностной ориентации. Если первый шаг сделан, то на следующем уровне встает вопрос, как устроены и как функционируют эти символические конструкты; далее будет более подробно показано, что память может быть продуктивной или агрессивной, она способна порождать насилие или служить цивилизующим фактором.
Таким образом, можно констатировать наличие различных форм памяти – индивидуальной и коллективной, – которые не исключают друг друга. То же самое относится к параллельному существованию исторической науки и конструктов памяти. Здесь мы вновь сталкиваемся с недовольством, то есть комплексом проблем, который постоянно порождает неясности, раздражение, взаимные упреки и полемику. Поэтому уместно ввести некоторые разъяснения, способные помочь делу. Полемическое противопоставление «истории» и «памяти» заняло прочное место в дискурсе 1990-х годов. Но их взаимоотношение все реже рассматривается как взаимоисключающее; все чаще говорится об их взаимодополнении. С одной стороны, в демократическом обществе нельзя диктовать исторической науке, о чем и как она должна помнить. Историки не занимаются вопросами нормативного характера, они не вправе брать на себя подобную миссию, находящуюся вне их компетенции. Именно это имеет в виду Козеллек, когда отмечает, что «задача историка – не формировать идентичность, а разрушать ее». Формированием идентичности занимаются, по его мнению, «историки на службе у власти», что следует четко отграничивать от обязанности историка «служить истине». В противном случае у исторической науки не будет иммунитета к конструктам памяти. То, что избирается обществом в качестве обязательной основы отношения к прошлому, должно стать объектом критического изучения. Когда устанавливается государственная монополия на прошлое и государство препятствует независимой историографии, то это ведет к возникновению идеологии и мифа в указанном выше смысле; с другой стороны, критическая историография, полностью утратив связь с памятью и идентичностью, оборачивается самоотчуждением исторической науки за счет ее искусственной сциентизации. Данный вопрос занимал уже Фридриха Ницше: как не допустить, чтобы современная историческая наука лишилась всякой связи с нормативными и культурными аспектами идентичности? Спустя полвека Вальтер Беньямин писал: «История не только наука, она в такой же мере служит формой памятования», а Юрген Хабермас добавил к этому тезису: «Наша ответственность распространяется и на прошлое»[17 - D?ringer H. Die Vergangenheit ist nicht abgeschlossen. Religi?se Aspekte des Erinnerns // Fr?lich M., Jureit U., Schneider Ch. (Hrsg.). Das Unbehagen an der Erinnerung – Wandlungsprozesse im Gedenken an den Holocaust. Frankfurt/M., 2012. S. 59.].
Индивидуальная или коллективная память (коммеморация, культурная память) и историческая наука являются различными и самостоятельными подходами к прошлому, которые несводимы друг к другу; отсюда вытекает плюрализм памяти. Параллельное существование различных видов памяти не стоит считать постмодернистским релятивизмом; скорее здесь имеет место система сдержек и противовесов (checks and balances), взаимодополнений и обоюдного контроля. Одновременно нельзя не признать, что границы между различными сферами памяти отнюдь не непроницаемы и зачастую обнаруживают многообразные пересечения. Впрочем, историки, отстаивающие наряду с Козеллеком строгую дихотомию между «критической историографией» и «идеологией» или «мифом», занимают выигрышную позицию, которая позволяет им демонстрировать в полемических столкновениях собственное превосходство, дискредитируя оппонентов. Ведь борец против «идеологий» и «мифов» всегда вправе чувствовать свою моральную правоту. А вот тому, кто сознает, что собственные взгляды неизменно содержат известную долю мифа и идеологии, все труднее определить свою позицию упрощенно, если только речь не идет об острой политической конфронтации. Проблематичны не идеология и миф, а наличие противоположных политических опций применительно к каждому конкретному случаю: с одной стороны, инструментализация прошлого, которая обслуживает властные интересы, а с другой – самокритичное признание исторической ответственности в духе правового государства. Внутри исторической науки наличествуют не только агностики мемориальной культуры, но и широкий спектр разнообразных позиций в поле напряженных взаимоотношений между историей и памятью. Например, Йорн Рюзен, бывший билефельдский коллега Козеллека, разрабатывает концепцию «исторической культуры», которая охватывает такие важные аспекты культурологии, как травматические последствия исторических событий, их влияние на эмоциональное состояние общества и идентичность[18 - R?sen J. Was ist Geschichtskultur? ?berlegungen zu einer neuen Art, ?ber Geschichte nachzudenken // R?sen J. Historische Orientierung. ?ber die Arbeit des Geschichtsbewusstseins, sich in der Zeit zurecht zu finden. K?ln et al., 1994. S. 211–234.]. Парадоксален тот факт, что большинство исследователей, занимающихся изучением памяти, рекрутируются из цеха профессиональных историков, которые не усматривают в этом морального конфликта между истиной и ложью, а видят обогащение своего методологического инструментария и проблемного репертуара. Данное обстоятельство рассеивает опасения, что культурологические исследования памяти, оставив в стороне вопрос об истине, сами без зазрения совести оказываются причастными к продуцированию идеологии и мифотворчеству, ибо изучение различных уровней памяти отнюдь не исключает привычного подхода к исследуемому предмету. Напротив, это изучение само превратилось в рефлексивный метадискурс, важный раздел критического анализа и диагностики конструктов памяти. Отказ от плоской дихотомии между историей и памятью открывает многообразие взаимосвязей обеих форм обращения к прошлому и их взаимодополняемость. Память необходима, чтобы вдохнуть жизнь в массив исторических знаний в виде смыслов, перспектив и социальной релевантности; история нужна для критической поверки конструкций памяти, которые всегда формируются под воздействием определенной конфигурации власти и продиктованы насущными потребностями современности.
Культурная память
Директор гамбургского Института социальных исследований Ян Филипп Реемтсма является, подобно Козеллеку, представителем радикального индивидуализма. С этих позиций он отрицает или умаляет иные формы отношения к индивидууму. Как и Козеллек, Реемтсма считает, что только индивидуум обладает памятью. Воспоминания индивидуума кратковременны и эфемерны. «Осознанно воспринимается лишь немногое. Еще меньше попадает в оперативную память. Совсем мало сохраняется долговременной памятью, и ничтожно мало из биографически значимых фактов помнится на протяжении всей жизни»[19 - Reemtsma J.Ph. Wozu Gedenkst?tten? // Aus Politik und Zeitgeschichte. 2010. Vol. 25–26. S. 3.]. Наличие «культурной памяти» он категорически отрицает. А ведь понимание того, что память, базируясь на символах, служит для социальной группы формой самоопределения и ориентиром на будущее, стала важным интеллектуальным достижением, которое с 1980-х годов расширило наше представление о культуре и процессах ее трансформации. Согласно этому представлению, культура создает транспоколенческое пространство знаний и систему координат, посредством которых носители этой культуры оформляют собственный опыт. Поэтому история не есть нечто окончательно ушедшее и интересующее только историков. Как показал исследователь мозга Эрик Кандель на примере улитки Aplysia, «память, сообразуясь с раздражителем, сработавшим в прошлом, помогает справиться с задачами настоящего, чтобы выжить в будущем»[20 - Giesecke D., Welzer H. Das Menschenm?gliche. S. 16.]. В культуре память также «обеспечивает ориентацию в настоящем ради будущих действий»[21 - Ibid. S. 75.]. Нам неизвестна культура, которая не формировала бы тем или иным способом стратегию и практику своей культурной памяти.