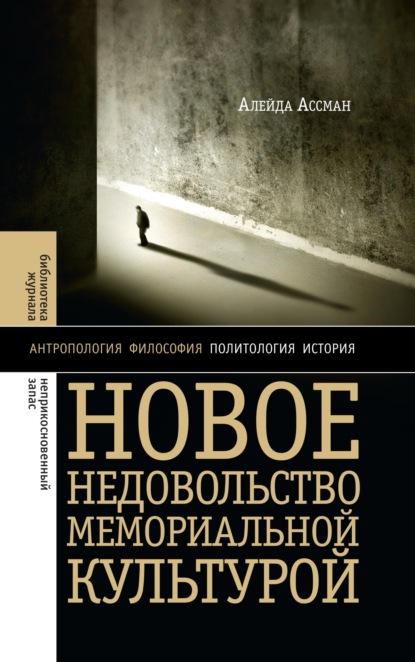По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Новое недовольство мемориальной культурой
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
У западных культур существует разделение труда применительно к прошлому, которым занимаются такие институции, как библиотеки, архивы и музеи, чтобы использовать прошлое как духовное богатство, художественный ресурс, объект познания и предмет различных дискурсов. Личное воспоминание и забвение всегда интегрируются в более широкие контексты памяти и забвения. Не только каждый индивидуум выбирает для себя, что он желает или не желает помнить, но и члены социальной группы сообща решают, что должно сохраниться для будущего, оставаясь доступным потомкам. В этом смысле постоянно определяется и будет определяться будущее памяти, то есть принимаются и будут приниматься решения о том, каких авторов люди продолжат читать и какую они музыку будут слушать, какие документы подлежат сохранению, какие события следует оставить в памяти. В отличие от конъюнктуры рынка, отбирающего то, что пользуется или не пользуется спросом сегодня, селективные решения культурной памяти обладают большей устойчивостью. Принятие таких решений обычно берет на себя меньшинство, однако в демократическом обществе этот процесс сопровождается публичным обсуждением. Таким образом, абстрактное понятие «культурная память» подразумевает широкий спектр культурных практик: консервация следов, архивирование документов, коллекционирование произведений искусства и антикварных предметов с возможностью их реактивации посредством медийной репрезентации и педагогической работы. Культурная память является не только пассивной накопительной памятью, она включает в себя реактивацию прошлого и возможность его широкого усвоения активной функциональной памятью. Важную роль играют при этом структуры перцепции, благодаря которым действуют вторичные процессы индивидуального и культурного восприятия. Все это отличает культурную память от абстрактного фонда энциклопедического знания, которое обладает универсальной значимостью, но не соотнесено с конкретной идентичностью.
Однако в условиях демократии партиципация является скорее опцией, нежели обязанностью. Партиципация осуществляет переход от «Я» к «Мы», формируя множество различных социальных групп. Как справедливо отмечает Козеллек, коллективизация посредством гомогенизации недопустима. Реемтсма описывает коллективное «Мы» как господство меньшинства над большинством. В своем эссе о смысле и бессмысленности мемориалов он подчеркивает, что «речь от первого лица множественного числа носит метафорический характер, поскольку это не предполагает, будто сказанное действительно отражает мнение большинства. …Мемориалами – как и вопросом, зачем они сооружаются и что с ними будет, – также интересуется меньшинство людей. Но это то меньшинство, которое отстояло свои интересы таким образом, будто оно является активным большинством, хотя последнее на самом деле лишь попустительствовало произошедшему»[22 - Reemtsma J.Ph. Wozu Gedenkst?tten? S. 9.].
Связь с идентичностью
Козеллеку, как и многим другим представителям старшего поколения, кажется бесполезной вошедшая в научный обиход концепция коллективной идентичности. Важна только индивидуальность, нередуцируемая инаковость каждого отдельного и обособленного человека. «У каждого есть право на собственную биографию, на собственное прошлое, которое не может быть отнято никакой коллективизацией, никакой гомогенизацией, никаким принуждением»[23 - Koselleck R. Gibt es ein kollektives Ged?chtnis? S. 3.]. Здесь в Козеллеке говорит опыт тоталитаризма, перед лицом которого защита индивидуальности обязана считаться наивысшей целью. Однако подобный взгляд чреват догматизмом, поскольку автоматически отождествляет любой вид принадлежности к социальной группе с коллективизацией, гомогенизацией и принуждением. В наши дни, когда принадлежность к той или иной социальной группе, традициям и культуре воспринимается как важная составная часть индивидуальной идентичности, позицию Козеллека можно уважать, но ее уже не удастся отстоять в качестве общепринятой. Мир стал гораздо сложнее, и науки о культуре пытаются соответствовать возросшей сложности. Подобно тому, как миф перестал считаться всего лишь обманом и видится теперь обоснованием истории, соотнесенность с идентичностью также нельзя автоматически считать формой «коллективизации», поскольку идентичность следует воспринимать как «новую форму самоопределения». Происходит не отказ от индивидуальности, а ее дополнение, обогащение и новое акцентирование ее значимости. Хотя сейчас научные публикации на данную тему составляют целые библиотеки, многие историки до сих пор отвергают понятие «коллективной идентичности» как нелегитимную метафору. Это объясняется тем, что коллективная идентичность ассоциируется с идеями национал-социализма, которые подлежали искоренению в Германии после 1945 года. Урок тоталитарного прошлого гласил: «Впредь никаких разговоров о германской идентичности! Никогда!» Но возникшие мыслительные запреты со временем все больше обнаруживали свою проблематичность. Выявление рамок памяти, все более характерная для современного мира забота о сохранении национальной памяти, стремление приобщить к ней граждан своей страны подтверждается учреждением большого количества памятных дат, коммеморативных ритуалов и других символических практик коллективного возврата прошлого в нашу современность.
Любая память характеризуется той или иной перспективой; память небеспристрастна и определяется тем, что в нее отбирается и что из нее исключается. В демократических странах мемориальное сообщество никогда не бывает однородным; каждый индивидуум представляет собой сферу пересечений многих групповых памятей и сам делает выбор из множества коммеморативных опций. Эта неоднородность усугубляется многоуровневой коммуникацией: официальной (выступления в бундестаге и ландтагах), публичной (публикации в СМИ) и неофициальной (разговоры с приятелями за кружкой пива). В Германии наличествует множество различных «Мы» с их коллективной памятью: немцы как преступники, ответственные за Холокост; немецкие евреи как жертвы Холокоста; немцы как жертвы национал-социализма и Второй мировой войны; немцы как жертвы вынужденного бегства и насильственных депортаций; немцы как жертвы политических преследований в ГДР; наконец, немцы из семей бывших эмигрантов. И у всех них разные жизненные истории. Однако это не исключает наличия социальных рамок памяти, внутри которых каждая из перечисленных групп помещает собственную память. Но поскольку речь идет о рамках памяти, многое из них и исключается. В том числе вещи, ставящие под вопрос нормы общественного морального консенсуса (о чем дальше пойдет речь в разделе о политкорректности); впрочем, есть и нечто безотчетно забытое, что еще может стать частью немецкой памяти (о чем мы также поговорим в разделе, посвященном «диалогической памяти»).
Связь между памятью и коллективом отнюдь не тривиальна, поскольку она выстраивает память для будущего, которое не ограничивается биографическим периодом отдельно взятой жизни. Те, кто настаивают на сугубо индивидуальной природе памяти, отрицают возможность и необходимость существования мемориальной культуры: «Исторически завершенный опыт заканчивает и само событие, проводя под событием финальную черту, четко отделяющую его от современности: прошлое проходит слишком быстро. Поэтому речь идет не о формальных тонкостях в понятийных различиях, а о социальном характере памяти, всегда имеющей коллективную природу»[24 - Mrozek В. Zur Frage des kollektiven Erinnerns. S. 419.]. Прошлое является не только объектом изучения, который можно положить в архив; вкупе с опытом, воспоминаниями, чувствами и различными элементами идентичности прошлое тесно связано с настоящим и будущим. Реемтсма точно и убедительно описал это в своем эссе: «Толкование истории как толкование самих себя: изучая историю, мы хотим понять, кто мы такие и на что смеем надеяться»[25 - Reemtsma J.Ph. Wozu Gedenkst?tten? S. 7.]. Вера Каттерманн указывает с психоаналитических позиций на связь между коллективной коммеморацией и идентичностью: «Хотя смысл и значение памятных дней всякий раз определяется конвенционально и может изменяться, они являются результатом коллективной ключевой трактовки соответствующего исторического события, результатом временного консенсуса: „Сегодня мы именно такие, ибо пережили это“. В основе ценностей, которые нам важны, лежит наш опыт, и, отмечая памятные даты, мы вспоминаем об этом»[26 - Kattermann V. Endlich fertig erinnert? Ein psychoanalytischer Beitrag zur Diskussion kollektiver Vergangenheitsarbeit // Merkur. № 66 (Mai 2012). S. 463.].
Индивидуальная память помещена в более широкие рамки культурной памяти, что создает предпосылки для формирования коллективной идентичности, устанавливающей связь между прошлым, настоящим и будущим. Посредством памяти нация удостоверяется в собственной истории. Здесь вновь проявляется указанное Козеллеком раздвоение индивидуальной и коллективной памяти, ибо национальная идентичность всегда базируется не только на том, какой фрагмент истории избирается в качестве релевантного и актуализируется коллективной коммеморацией, но и на том, что еще присутствует в индивидуальных воспоминаниях людей и что ими уже забыто.
Значение понятия «мемориальная культура»
Недовольство мемориальной культурой отчасти обусловлено тем, что это понятие, переживая смысловую инфляцию, употребляется в совершенно различных значениях. При столь большой разнице в значениях и способах употребления термина «мемориальная культура» бывает почти невозможно понять, о чем, собственно, идет разговор. В качестве примера сошлюсь на Фолькхарда Книгге, который предлагает заменить этот термин выражением «критическое историческое сознание». Однако Книгге, руководитель фонда мемориалов Бухенвальд и Миттельбау-Дора, имеет в виду не столько замену терминов, сколько содержательное изменение сложившихся культурных практик. Он ратует за переориентацию, которая вернет нас от мемориальной культуры к рефлексивному историческому сознанию. Особенно примечательно, что Книгге, будучи «давним протагонистом институционализированной мемориальной культуры, настаивает на сознательном уходе от коммеморативной парадигмы»[27 - Knigge V. Zur Zukunft der Erinnerung // Aus Politik und Zeitgeschichte. 2010. Vol. 25–26. S. 10–16. Жестко противопоставляя «хорошую» критическую историографию «плохой» мемориальной культуре или «индивидуализацию» – «коллективизации», Книгге оказывается последователем Козеллека.]. В своей статье он описывает внутренний конфликт между функционером от мемориальной культуры и личностью. Хорошо зная предмет, Книгге тревожится, что в своей повседневной профессиональной деятельности он предает собственные идеалы. Понятие «мемориальная культура» аккумулирует для Книгге все недовольство, которое накапливается его рабочими буднями.
«Мемориальная культура», которую Книгге хотел бы упразднить, имеет, по его мнению, три аспекта. Во-первых, он критикует это понятие за «моральную перегруженность и расплывчатый пафос», призванный создать впечатление, будто память при всех обстоятельствах сама по себе есть благо. Во-вторых, он опровергает представление о единой и одинаковой памяти, которое не учитывает индивидуальную точку зрения на события прошлого, а также различия индивидуального исторического опыта. В-третьих, Книгге видит в мемориальной культуре альтернативу «критическому историческому сознанию» и «исследовательской работе, ориентированной на опыт». Но, перечислив три указанных аспекта, Книгге охарактеризовал на самом деле не мемориальную культуру, а конкретные ошибки, недостатки и недоразумения. Подобно Козеллеку, он полемизирует против тоталитарного мифа о единой памяти и подчеркивает, что «мемориал репрезентирует не одну память, а является точкой кристаллизации множества различных воспоминаний». У Книгге слышатся отголоски давнего спора между критической, просвещенной «историей» и самодостаточной, жреческой «памятью» (нечто похожее мы обнаружили и у Козеллека). Он считает мемориальную культуру отпочкованием от «научно-исторических исследований и методически обоснованной рациональности». Но это ошибочное представление о мемориальной культуре. Недовольство такой «мемориальной культурой» вполне понятно, но не оправдывает стремление к ликвидации подлинной мемориальной культуры. Недаром в конце своего эссе Книгге вновь обращается к памяти, от которой вроде бы отказывается. Говоря о политическом образовании и этическом воспитании, он подчеркивает значение коммеморации и мемориалов, настаивает на «увязке когнитивного и аффективного подходов к прошлому»[28 - Knigge V. Zur Zukunft der Erinnerung // Aus Politik und Zeitgeschichte. 2010. Vol. 25–26. S. 10–16.]
Однако в условиях демократии партиципация является скорее опцией, нежели обязанностью. Партиципация осуществляет переход от «Я» к «Мы», формируя множество различных социальных групп. Как справедливо отмечает Козеллек, коллективизация посредством гомогенизации недопустима. Реемтсма описывает коллективное «Мы» как господство меньшинства над большинством. В своем эссе о смысле и бессмысленности мемориалов он подчеркивает, что «речь от первого лица множественного числа носит метафорический характер, поскольку это не предполагает, будто сказанное действительно отражает мнение большинства. …Мемориалами – как и вопросом, зачем они сооружаются и что с ними будет, – также интересуется меньшинство людей. Но это то меньшинство, которое отстояло свои интересы таким образом, будто оно является активным большинством, хотя последнее на самом деле лишь попустительствовало произошедшему»[22 - Reemtsma J.Ph. Wozu Gedenkst?tten? S. 9.].
Связь с идентичностью
Козеллеку, как и многим другим представителям старшего поколения, кажется бесполезной вошедшая в научный обиход концепция коллективной идентичности. Важна только индивидуальность, нередуцируемая инаковость каждого отдельного и обособленного человека. «У каждого есть право на собственную биографию, на собственное прошлое, которое не может быть отнято никакой коллективизацией, никакой гомогенизацией, никаким принуждением»[23 - Koselleck R. Gibt es ein kollektives Ged?chtnis? S. 3.]. Здесь в Козеллеке говорит опыт тоталитаризма, перед лицом которого защита индивидуальности обязана считаться наивысшей целью. Однако подобный взгляд чреват догматизмом, поскольку автоматически отождествляет любой вид принадлежности к социальной группе с коллективизацией, гомогенизацией и принуждением. В наши дни, когда принадлежность к той или иной социальной группе, традициям и культуре воспринимается как важная составная часть индивидуальной идентичности, позицию Козеллека можно уважать, но ее уже не удастся отстоять в качестве общепринятой. Мир стал гораздо сложнее, и науки о культуре пытаются соответствовать возросшей сложности. Подобно тому, как миф перестал считаться всего лишь обманом и видится теперь обоснованием истории, соотнесенность с идентичностью также нельзя автоматически считать формой «коллективизации», поскольку идентичность следует воспринимать как «новую форму самоопределения». Происходит не отказ от индивидуальности, а ее дополнение, обогащение и новое акцентирование ее значимости. Хотя сейчас научные публикации на данную тему составляют целые библиотеки, многие историки до сих пор отвергают понятие «коллективной идентичности» как нелегитимную метафору. Это объясняется тем, что коллективная идентичность ассоциируется с идеями национал-социализма, которые подлежали искоренению в Германии после 1945 года. Урок тоталитарного прошлого гласил: «Впредь никаких разговоров о германской идентичности! Никогда!» Но возникшие мыслительные запреты со временем все больше обнаруживали свою проблематичность. Выявление рамок памяти, все более характерная для современного мира забота о сохранении национальной памяти, стремление приобщить к ней граждан своей страны подтверждается учреждением большого количества памятных дат, коммеморативных ритуалов и других символических практик коллективного возврата прошлого в нашу современность.
Любая память характеризуется той или иной перспективой; память небеспристрастна и определяется тем, что в нее отбирается и что из нее исключается. В демократических странах мемориальное сообщество никогда не бывает однородным; каждый индивидуум представляет собой сферу пересечений многих групповых памятей и сам делает выбор из множества коммеморативных опций. Эта неоднородность усугубляется многоуровневой коммуникацией: официальной (выступления в бундестаге и ландтагах), публичной (публикации в СМИ) и неофициальной (разговоры с приятелями за кружкой пива). В Германии наличествует множество различных «Мы» с их коллективной памятью: немцы как преступники, ответственные за Холокост; немецкие евреи как жертвы Холокоста; немцы как жертвы национал-социализма и Второй мировой войны; немцы как жертвы вынужденного бегства и насильственных депортаций; немцы как жертвы политических преследований в ГДР; наконец, немцы из семей бывших эмигрантов. И у всех них разные жизненные истории. Однако это не исключает наличия социальных рамок памяти, внутри которых каждая из перечисленных групп помещает собственную память. Но поскольку речь идет о рамках памяти, многое из них и исключается. В том числе вещи, ставящие под вопрос нормы общественного морального консенсуса (о чем дальше пойдет речь в разделе о политкорректности); впрочем, есть и нечто безотчетно забытое, что еще может стать частью немецкой памяти (о чем мы также поговорим в разделе, посвященном «диалогической памяти»).
Связь между памятью и коллективом отнюдь не тривиальна, поскольку она выстраивает память для будущего, которое не ограничивается биографическим периодом отдельно взятой жизни. Те, кто настаивают на сугубо индивидуальной природе памяти, отрицают возможность и необходимость существования мемориальной культуры: «Исторически завершенный опыт заканчивает и само событие, проводя под событием финальную черту, четко отделяющую его от современности: прошлое проходит слишком быстро. Поэтому речь идет не о формальных тонкостях в понятийных различиях, а о социальном характере памяти, всегда имеющей коллективную природу»[24 - Mrozek В. Zur Frage des kollektiven Erinnerns. S. 419.]. Прошлое является не только объектом изучения, который можно положить в архив; вкупе с опытом, воспоминаниями, чувствами и различными элементами идентичности прошлое тесно связано с настоящим и будущим. Реемтсма точно и убедительно описал это в своем эссе: «Толкование истории как толкование самих себя: изучая историю, мы хотим понять, кто мы такие и на что смеем надеяться»[25 - Reemtsma J.Ph. Wozu Gedenkst?tten? S. 7.]. Вера Каттерманн указывает с психоаналитических позиций на связь между коллективной коммеморацией и идентичностью: «Хотя смысл и значение памятных дней всякий раз определяется конвенционально и может изменяться, они являются результатом коллективной ключевой трактовки соответствующего исторического события, результатом временного консенсуса: „Сегодня мы именно такие, ибо пережили это“. В основе ценностей, которые нам важны, лежит наш опыт, и, отмечая памятные даты, мы вспоминаем об этом»[26 - Kattermann V. Endlich fertig erinnert? Ein psychoanalytischer Beitrag zur Diskussion kollektiver Vergangenheitsarbeit // Merkur. № 66 (Mai 2012). S. 463.].
Индивидуальная память помещена в более широкие рамки культурной памяти, что создает предпосылки для формирования коллективной идентичности, устанавливающей связь между прошлым, настоящим и будущим. Посредством памяти нация удостоверяется в собственной истории. Здесь вновь проявляется указанное Козеллеком раздвоение индивидуальной и коллективной памяти, ибо национальная идентичность всегда базируется не только на том, какой фрагмент истории избирается в качестве релевантного и актуализируется коллективной коммеморацией, но и на том, что еще присутствует в индивидуальных воспоминаниях людей и что ими уже забыто.
Значение понятия «мемориальная культура»
Недовольство мемориальной культурой отчасти обусловлено тем, что это понятие, переживая смысловую инфляцию, употребляется в совершенно различных значениях. При столь большой разнице в значениях и способах употребления термина «мемориальная культура» бывает почти невозможно понять, о чем, собственно, идет разговор. В качестве примера сошлюсь на Фолькхарда Книгге, который предлагает заменить этот термин выражением «критическое историческое сознание». Однако Книгге, руководитель фонда мемориалов Бухенвальд и Миттельбау-Дора, имеет в виду не столько замену терминов, сколько содержательное изменение сложившихся культурных практик. Он ратует за переориентацию, которая вернет нас от мемориальной культуры к рефлексивному историческому сознанию. Особенно примечательно, что Книгге, будучи «давним протагонистом институционализированной мемориальной культуры, настаивает на сознательном уходе от коммеморативной парадигмы»[27 - Knigge V. Zur Zukunft der Erinnerung // Aus Politik und Zeitgeschichte. 2010. Vol. 25–26. S. 10–16. Жестко противопоставляя «хорошую» критическую историографию «плохой» мемориальной культуре или «индивидуализацию» – «коллективизации», Книгге оказывается последователем Козеллека.]. В своей статье он описывает внутренний конфликт между функционером от мемориальной культуры и личностью. Хорошо зная предмет, Книгге тревожится, что в своей повседневной профессиональной деятельности он предает собственные идеалы. Понятие «мемориальная культура» аккумулирует для Книгге все недовольство, которое накапливается его рабочими буднями.
«Мемориальная культура», которую Книгге хотел бы упразднить, имеет, по его мнению, три аспекта. Во-первых, он критикует это понятие за «моральную перегруженность и расплывчатый пафос», призванный создать впечатление, будто память при всех обстоятельствах сама по себе есть благо. Во-вторых, он опровергает представление о единой и одинаковой памяти, которое не учитывает индивидуальную точку зрения на события прошлого, а также различия индивидуального исторического опыта. В-третьих, Книгге видит в мемориальной культуре альтернативу «критическому историческому сознанию» и «исследовательской работе, ориентированной на опыт». Но, перечислив три указанных аспекта, Книгге охарактеризовал на самом деле не мемориальную культуру, а конкретные ошибки, недостатки и недоразумения. Подобно Козеллеку, он полемизирует против тоталитарного мифа о единой памяти и подчеркивает, что «мемориал репрезентирует не одну память, а является точкой кристаллизации множества различных воспоминаний». У Книгге слышатся отголоски давнего спора между критической, просвещенной «историей» и самодостаточной, жреческой «памятью» (нечто похожее мы обнаружили и у Козеллека). Он считает мемориальную культуру отпочкованием от «научно-исторических исследований и методически обоснованной рациональности». Но это ошибочное представление о мемориальной культуре. Недовольство такой «мемориальной культурой» вполне понятно, но не оправдывает стремление к ликвидации подлинной мемориальной культуры. Недаром в конце своего эссе Книгге вновь обращается к памяти, от которой вроде бы отказывается. Говоря о политическом образовании и этическом воспитании, он подчеркивает значение коммеморации и мемориалов, настаивает на «увязке когнитивного и аффективного подходов к прошлому»[28 - Knigge V. Zur Zukunft der Erinnerung // Aus Politik und Zeitgeschichte. 2010. Vol. 25–26. S. 10–16.]