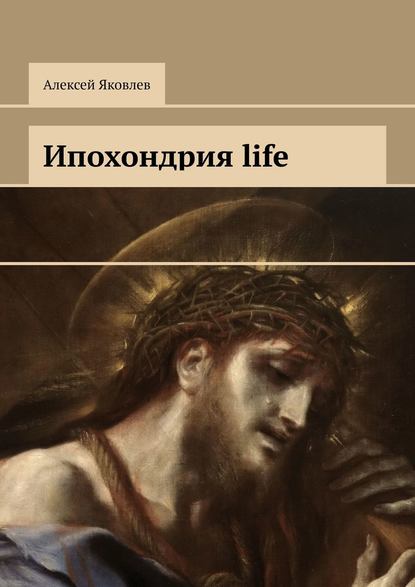По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ипохондрия life
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Это было этим летом, июль месяц и невозможная жара. Мои родители уехали к родным в Таллин, а я отказалась ехать, потому что боялась расставаться с Андреем. Я его слишком сильно люблю, и там без него мне было бы слишком одиноко. Весь месяц мы принадлежали друг другу, все время проводили вместе. Мне никогда не было так хорошо, в тот июль я наслаждалась счастьем… Июль подходил к концу, в августе должны были возвращаться родители, они хотели, чтобы с сентября я вернулась в институт, отец обещал договориться. Мы оба ощущали, как хрупка наша маленькая идиллия. Когда вернулись родители нас с Андреем разлучили. Я закатила им настоящую истерику, сказала что совершу суицид. Поэтому меня и отправили сюда. Я часто переписываюсь с ним по телефону. Андрей написал, что уже все обдумал, как все будет дальше, – на этой фразе лицо Леры принимало загадочно-мечтательные черты, и мне становилось не по себе. А она, каждый раз излагая этот монолог, спустя несколько минут со вздохом добавляла: – Но надо ждать, когда меня отсюда выпустят.
Мне хочется, чтобы это произошло как можно позже, возможно, когда это все-таки произойдет, она уже не будет так думать и не совершит задуманного. Мне очень хочется в это верить.
Но сейчас она убеждена в своем сумасшедшем желании. Похоже, она только об этом и думает, она объяснила мне, что я, выходит, все сделала не верно. Пальцы дрожали, неслушались, и голова кружилась (от вида крови, конечно), сознание потеряла быстро. И вода была едва теплая. Соседей снизу залила. Левая рука теперь работает неловко, врач говорит, что я там что-то повредила, когда резала, но вроде это восстанавливается.
Лера знает сотни способов уйти из жизни, некоторые, по ее словам «девяностодевятипроцентные» и возможны даже здесь, в больнице.
– Здесь в коридоре у окна в огромном кашпо, – рассказывала она заговорщицким тоном, – есть такое растение диффенбахия с крупными темно-зелеными листьями, я где-то слышала, что оно ядовитое, и, если съесть несколько листиков…
Впрочем, все это отвратительно. Нет уж, спасибо, жрать диффенбахию не собираюсь! (Бедная Лера…)
Теперь на учет к психиатру поставят и, вообще, сколько еще в больнице продержат! А впереди отработки, сессия, родителей обещала навестить и…
Плохо, что здесь нельзя курить!»
***
Ночь приходит мертвая, больная, щемящая… Веронике не спится.
Накатывает усталость, а все же не уснуть. Мысли петляют однообразными бессмысленными лабиринтами. Скоро зима, а значит, город будет завален снегом, песком, солью, еще какой-нибудь дрянью. Ночи будут темные и холодные. Три безжизненных, неинтересных, хмурых месяца впереди. Хочется верить, впрочем, даже неважно во что, просто хочется верить.
Вероника лежит на постели и сосредоточенно рассматривает руки. «Интересно, а шрамы останутся?»
8
Одиночество проникает незаметно. Одиночество подобно скрытому заболеванию, неощутимому до самой последней стадии, когда уже ни чем не помочь, и все только виновато разводят руками.
И вот пустые, оголенные комнаты, тоскливо-знакомая обстановка и внутренняя опустошенность. В горле какая-то невыносимая горечь. Почему-то боязно смотреть по сторонам, прикасаться к предметам, книгам, бумагам – все несет в себе слишком большую смысловую нагрузку, как в аркаде, в ванную вообще лучше не заходить. Хуже всего, что за окном с самого утра пасмурно. Небо затянуто серым безобразным линялым брезентом. Небо безучастно.
Однако, верно, все самое страшное позади – и больше никаких суицидов (в этом не везет, как и в любви).
Первый день «на свободе», в своей квартире, неуютно, но терпимо, одиноко, не более чем всегда. Независима от всего мира… пожалуй, нет – завтра к врачу и слишком много дел, надо многое разобрать и во многом разобраться, прежде всего в себе. Вероника напряжена, она пишет…
***
16 ноября
«Не вышло, остаюсь среди живых. Пишу, потому что хочется задокументировать, записать (очиститься), после уже перечитать, убедить себя самою: Я – есмь[28 - В своем дневнике Вероника ссылается на стихотворение Марины Цветаевой.], я жива, жива… буду жить!
Как-то все не выходит быть праведной, мудрой, справедливой к себе и к тем, другим, которые подобны людям, не получается быть просто счастливой, радостной. Все улыбки выходят криво. Не получается забывать, прощать; память превратилась в ворох ненужной макулатуры: письма, даты, обрывки стихов, заголовки газет, сказанные вслух и застрявшие навсегда в голове, но не озвученные фразы, простые картинки из жизни, черно-белые, цветные и сепия, осколки снов и реальность, открытки и поздравления, электронные сообщения, смс, напоминания, архивы и прочий хлам, дневники, блоги, ЖЖ… Все суета. Все это во мне живет своей жизнью, эволюционирует вместе со мной. Мы не можем вырвать ни одной страницы из нашей жизни…[29 - Цитата из Жорж Санд: «Мы не можем вырвать ни одной страницы из нашей жизни, хотя легко можем бросить в огонь саму книгу».] Мы не можем вырваться из замкнутого круга. Я не смогла. Не получилось шагнуть в пропасть до самого конца, не изведала всей ее глубины, вырвали из бездны (зачем?) и поволокли дальше. Не дали скончаться. Не зарыли (а хоть бы и живьем!), не утаптывали землю, не справляли поминок. Куда там! Вернулась в трезвом уме и почти твердой памяти с новыми надеждами и бинтами на запястьях. Еще совсем слабая, обиженная, но уже другая (и под кожей чья-то чужая кровь бродит), словом, изменилась с тех пор. В зеркало еще не гляделась – боюсь. Человек переменчив, только вот вокруг все по-прежнему. Те же улицы, те же лица. Одиночество здесь повсюду: утром рядом с тобой в постели – на одной подушке, на твоем плече, за завтраком оно застает тебя врасплох с чашкой кофе в руках, а потом шагает следом за тобой по улицам и вечером поджидает в прихожей, а ночью караулит твой сон и, не отводя глаз, таращится на тебя из всех углов непроницаемым сфинксом.
Мечтала об успокоении, о себе думала. Эгоистка! Хотела всех оставить, отмучилась, мол… Напрасно все это, теперь только опомнилась, поняла, хотя нет – начинаю понимать.
Думаю о будущем, вероятно, поэтому и пишу эти строки. Странно, никогда не вела дневников, хоть и тяготела к письму, видимо, доверяла только себе, теперь могу довериться бумаге, как тогда, в ту ночь, когда была немного безумна (хотя об этом с сомнением в голосе).
Пока еще не решила, как все будет дальше. Рано сейчас об этом, время покажет. Смеюсь, глупо смеюсь своим мыслям, а все потому, что осознаю банальность всего происходящего со мной. Ведь, верно, было точно также с кем-то и до меня, не я первая сделала такой шаг, не я первая сошла с ума, безумцев и до меня хватало. Хочется курить, кажется, это единственная потребность моего организма в нынешнем его состоянии. Опять смеюсь.
Уже курю… Продолжаю: все как-то перемешалось во мне теперь, множество эмоций, воспоминаний (что всего хуже), переживаний. А ведь все это и гроша не стоит, с этим багажом не пойдешь в завтра. Собственно, куда я пойду? Позади кресты, пепелища, вокзалы; эпитафия прожитым годам уже написана, и на ладони линия жизни перечеркнута, однако не оборвалась. Впереди светлое завтра, безграничное счастье, ванильные небеса, розовые шторы или, что более вероятно, монотонная гнетущая душевная горечь (взахлеб), а потом небо, звезды, погост, оцинкованный май… Впрочем, не важно, все одно – не быть. Не я, другая… Поживем, будем смотреть…
Знаю только одно: дальше без них. Вычеркиваю всех… безжалостно, без сожаления, без упрека, не стыдясь, не оглядываясь, хороню всех: хороших, плохих, добрых и злых, любимых и не очень, милых, дорогих и опротивевших, коих число многократно больше. Сжигаю все и вся (в конце концов, Господь узнает своих![30 - Согласно истории Крестовых походов, когда один из предводителей войска Христа спросил у папского легата Арнольда-Амальрика о том, как отличить католиков от еретиков, тот ответил: «Caedite eos! Novit enim Dominus qui sunt eius» – «Убивайте всех! Господь узнает своих!».]). Ухмыляюсь.
Я пишу эти строки, сидя на кухне на кривом деревянном табурете, ссутулившись до невозможности, курю одну за одной дешевые сигареты, чему-то улыбаюсь (еще ведь могу, как странно), а сама, наверное, бледна ужасно, болезненно-некрасива, видимо, напоминаю Голлума. Кто бы видел, девятнадцатилетняя девочка, поэтесса Вероника Грац с разбитым сердцем и неловко вскрытыми венами, со своими страстями и терзаниями и этой никому, кроме себя самой, не нужной исповедью (кстати, очередное переиздание, анонсирую – публикуется впервые!) предаюсь самовольному auto de fe[31 - Аутодафе (ауто-да-фе, ауто де фе; порт. auto da fе, исп. auto de fe, лат. actus fidei, буквально – «акт веры») – в Средние века в Испании и Португалии торжественная религиозная церемония, включавшая в себя процессии, богослужение, выступление проповедников, публичное покаяние осужденных еретиков и чтение их приговоров.]. Глупо. Не могу по-другому, что поделать, ювенильна от природы. Стало быть, простительно. Не обвиняйте!
К людям очень требовательна, не люблю смешных, и простодушных, и дешевых, а сама? Если уж линчевать себя, то самым циничным образом. Эгоистична (об этом уже было), наивна (сознаюсь), романтична (следствие ювенильности, думаю), будем продолжать? Бесталанная, одинокая, ненужная; груба, диковата, ненормальна, не любима, не религиозна, упряма, к окружающим жестока (не всегда), умереть не смогла (тоже скверная особенность), чувствительная натура, фигурой и лицом не идеал (и не Анна Ахматова, что обиднее), правильных решений принимать не умею, изменчива (как все женщины), слаба, грешна, не богата, бываю невыносима… Опять же вредные привычки (мну очередную сигарету в пепельнице, медленно сворачиваю ей шею, все, прикончила!). Каюсь, каюсь, каюсь…
От таких размышлений не то что вены резать станешь, можно и запить, но уж это совсем противно. А все же искренняя, этого не отымешь. Иных добродетелей не имею.
Исписалась, вышла в тираж, стала бесполезна, только вот в ящик не сыграла. Чувствую свою оторванность от окружающего мира, не преемственность к происходящим событиям; последние полгода не живу, а существую, точнее, пытаюсь выживать (с переменным успехом, надо сказать). Трогательная, себя жалею, утешаю, а между тем измучилась, извилась, исстрадалась. Склонна к депрессии, особенно осенью, особенно когда все плохо, когда больше нет сил, когда вокруг пустота и больше нет никого. О нем писать не буду… не могу, не хочу, ненавижу…
Хочется научиться забывать. Еще то желание! Вроде есть способ: записать на листке бумаги то, что хочешь выбросить из памяти, и сжечь или разорвать в клочья[32 - Метод забывать информацию, описанный в произведении Лурии А. «Маленькая книжка о большой памяти».]. Надо будет испробовать на себе, терять нечего!
Если вдуматься, сегодня не такой уж скверный день. Еще вчера палаты, больничные коридоры, болезненные исступленные лица, остекленелые глаза, духота, скука, чокнутая Лерка. А сегодня я почти принадлежу сама себе. Мне почти хорошо. Время откровений. Я пишу для того, чтобы исцелиться, и мне как будто в самом деле становится легче. В целом мире нет человека, которому я бы могла все это поведать вот так вот запросто, вывалить целиком эту горестную муть, всю эту грязь и пошлость, скопившуюся душевную копоть, мусор своих мыслей. Кто бы стал выслушивать? Была бы не понята, заклеймили бы сумасшедшей (что, в принципе, не столь далеко от истины). Я сама не могу разобраться в себе, куда уж другим! Не допущу, не доверюсь, сохраню душу от чуждого мира.
Смотрю на себя со стороны, будто во сне (очень реалистичный дурной сон), созерцаю свое превращение; убеждаю: я соглядатай, всего лишь сторонний наблюдатель, не должна мешать (вмешиваться). Что-то, конечно, изменилось, но жизнь идет своим чередом, надо продолжать имитацию жизни, выполнять привычные функции: принимать пищу, контактировать с миром. Социальная адаптация, говорят, затягивает…
Пью кофе, выкурила треть пачки, на улице темнеет, странная лирическая нега окончательно одолела. Перечитала свои последние стихи (до чего докатилась): неказисто, сумбурно, грубовато, фальшиво, хотя отдельные строки не кажутся окончательно прогнившими (думаю, и в этом заблуждаюсь). Какое наследие оставила после себя. В самом деле, была бы чуть удачливее в своем последнем предприятии, и… черная гранитная ограда, белый обелиск (непременно хочется белый обелиск), фигурный цоколь, на табличке «Вероника…» и так далее, родилась-скончалась, фото, цветы, венки, ненастоящая скорбь друзей, чьи-то искусственно (или искусно) вызванные слезы, сплошная бутафория и надувательство (надругательство, правильнее). Ради этого и умирать не стоит.
Устала, сегодня уже безумно устала, веки липнут друг к другу, во всем теле непреодолимая слабость (все-таки я еще очень истощена), хочется лечь, отрешиться от всего, освободить разум от мыслей. Подводить итоги пока рано, я еще не освободилась, не исцелилась, во мне все так болезненно и хрупко. Знаю, дальше будет лишь хуже, и все же хочется верить!
День тянется за днем, жизнь состоит из мелочей, счастливые мгновения проходят, незаметно приобретая странные свойства, напоминая о себе неожиданно, убеждая, что и ты когда-то была счастлива, но только не умела этого заметить, распознать вовремя (разве этого мало), и кто, собственно, виноват в том, что ты так несчастна. Одиночество абсолютно, оно заполняет все пространство, одиночество равнодушно, беспристрастно, оно не выбирает себе спутников. Я привыкаю к нему, изучаю его стороны, и вместе с тем – Я, Вероника Грац, имела неосторожность быть рожденной, продолжаю свое существование. Сего дня мне полных девятнадцать лет, именую себя поэтесса. Влюблена. Прибавляю: «Была». Отрицаю прошлое (отныне). Не верую в Бога и Зигмунда Фрейда. Причисляю себя к последователям Серебряного века. Самонареченный диадох. Сомневаюсь. Исправленному не верю. Начинаю новую летопись жизни. Как там пишется в автобиографии: «Брошена, неприкаянна, в окончании – захоронена у дороги…» Так, что ли? Будет что добавить – отпишусь! Точка».
9
17 ноября.
«Сегодня другой день (…).
Возвращаюсь к своей рукописи. Пауза. Грею чайник, хочется уюта и тепла, спокойного постепенного мирного пробуждения без сторонней помощи и радикальных мер. По кухне разносится мерное жужжание, быстро и незаметно обрываясь в пустоту, наполняя жизнь сомнительным смыслом. На столе пепельница с кучей окурков (подобие могильного кургана), на которые я таращусь минуты три в летаргическом исступлении. В конце концов это вызывает неприятное сиротливое урчание в животе и легкое чувство тошноты. Включаю радио (скорее, по привычке). Повезло. Слушаю Янку[33 - Я?на Станисла?вовна Дя?гилева (Я?нка) (4 сентября 1966, Новосибирск – ок. 9 мая 1991) – рок-певица, поэтесса, автор песен, участница панк-рок-групп «Гражданская оборона», «Великие Октябри» и др.]. Столетний дождь. Пью черный байховый (спасительный напиток, подобный митридатию[34 - Ядовитое снадобье. Считается, что многие годы царь Митридат принимал ядовитые снадобья и так приспособился к ним, что стал неуязвим для яда.]). Потихоньку согреваюсь и обжигаю небо (тихонько дотрагиваюсь кончиком языка). Во дворе, поднимая невозможный, отвратительный и раздражающий переполох, орудуют мусоровозы. На часах… Стоят! Форточка открыта и любезно пропускает хладный воздух. Надо бы закрыть, но сил вознестись до нее в себе не нахожу. Наверное, это плохо. Мне становится по большому счету все равно – скверное и пугающее предчувствие. Куда-то запропастился плед. Опустилась. Отвлечься не выходит, и я читаю то, что начеркала вчера. Этакая антропомантия[35 - Гадание на человеческих внутренностях.] на груде собственных костей. Пауза. Молчание. Говорить не с кем, пустота помещений, поэтому продолжаю писать…
Страшно мерзнут руки, продолжается озноб (вся в объятиях мурашей). Мысли путаются, а голова ужасно тяжела. Не обессудьте…
Итак, вы не найдете меня в списках умерших. Меня не заколотили в ящик (не положили во гроб), не засыпали землей, не прочли траурного панегирика, земля не стала мне пухом, и собаки до меня не добрались[36 - В Древнем Риме было проклятие: «Пусть земля будет тебе пухом, и собакам легко будет добраться до тебя».]. Я продолжаю бесславное бытие в своем темном логове, в однокомнатной квартире в уродливой многоэтажке в сером, свинцовом, мрачном, жестоком городе. Сколько лет? Три года. До этого прожила почти шестнадцать лет с родителями в Брянске (считать лимитой!). Кстати, там и родилась четырнадцатого августа. Мама рассказывала, что тогда весь день шел проливной дождь (у меня есть все основания доверять этому факту).
Отец Аркадий Николаевич Грац, мать Александра Леонидовна Грац (Свиридова до замужества). Отец (согласно профессии – инженер), бывало, рассказывал о нашей фамилии, тогда была еще несмышленой, помню очень смутно. Вроде фамилия имеет польские или немецкие корни (склоняюсь в сторону Westfalen[37 - Вестфалия (нем.) – историческая область на северо-западе Германии.]). В общем, Grazios[38 - Грация, изящество; привлекательность, прелесть; приятность; любезность, приветливость, вежливость (нем.).]. Мать – медсестра в Брянской областной инфекционной больнице.
Родителям давно не писала. Не знаю почему. Оправданий нет. Смягчающих обстоятельств тоже. Да что же я могу написать? «Дорогие мама и папа, дочка ваша, единственная и любимая, выросла, повзрослела, стала самостоятельной, нужды ни в чем не испытывает, не голодает, учится на положительные отметки, однако сделалась самоубийцей, хоть в этом нехитром деле удачи и не снискала. А нонче страдает меланхолией, ежится от холода и много курит». Дура! Сколько же можно заниматься самоедством!…
Детские воспоминания всегда самые теплые, стойкие, с каким-то терпким, прелым, нестираемым ароматом, со вкусом алого шиповника и предвкушением дождя, свежим ветром, улыбками и беспечной радостью, пустыми мимолетными обидами, морозной зимой с узорами на стеклах и нежным солнечным летом, с зеленью и душистой сиренью, навсегда полюбившимися песнями, маленькими незаменимыми удовольствиями, с мороженым, с воркующими голубями на карнизе поутру, с любимыми игрушками, с хорошими друзьями.
В детстве была болезненная тихоня. Звалась Ника (одноклассники величали Рони). Училась хорошо, читала много, плакала мало.
Что-то еще? Наверное, о поэзии. Стихи начала писать четырнадцати лет от роду (и вовсе не была ни в кого влюблена). Почувствовала внутреннюю щемящую потребность, горделивую ненасыщенную жажду, вскрывшиеся, подобно гноящимся ранам, избытки нереализованного самолюбия. С тех пор что-то сломалось во мне, окружающий мир был преображен и предстал в новых и не всегда ярких цветах. Исчезли предубеждения и слепая уверенность, за истощенностью воспаленных глаз росла и крепла доселе неизвестная моему существу внутренняя сила. Из поэтов – Маяковский. Из поэтесс – Ахматова, Цветаева (в алфавитном порядке). Больше половины – самоубийцы. Как кстати.
Основная часть из написанного мной в то время ныне покоится дома в Брянске, большая часть не стоит того, чтобы перечитывать. Некоторые строчки отчего-то засели в голову, периодически беспокоят (ноют, зудят), как осколки после ранения:
Лето. Жажда… И стаи во тьме
Пропоют свою песню оврагам,
Мхам болотным, гниющим корягам,
Синеоким лесам и луне
Мне хочется, чтобы это произошло как можно позже, возможно, когда это все-таки произойдет, она уже не будет так думать и не совершит задуманного. Мне очень хочется в это верить.
Но сейчас она убеждена в своем сумасшедшем желании. Похоже, она только об этом и думает, она объяснила мне, что я, выходит, все сделала не верно. Пальцы дрожали, неслушались, и голова кружилась (от вида крови, конечно), сознание потеряла быстро. И вода была едва теплая. Соседей снизу залила. Левая рука теперь работает неловко, врач говорит, что я там что-то повредила, когда резала, но вроде это восстанавливается.
Лера знает сотни способов уйти из жизни, некоторые, по ее словам «девяностодевятипроцентные» и возможны даже здесь, в больнице.
– Здесь в коридоре у окна в огромном кашпо, – рассказывала она заговорщицким тоном, – есть такое растение диффенбахия с крупными темно-зелеными листьями, я где-то слышала, что оно ядовитое, и, если съесть несколько листиков…
Впрочем, все это отвратительно. Нет уж, спасибо, жрать диффенбахию не собираюсь! (Бедная Лера…)
Теперь на учет к психиатру поставят и, вообще, сколько еще в больнице продержат! А впереди отработки, сессия, родителей обещала навестить и…
Плохо, что здесь нельзя курить!»
***
Ночь приходит мертвая, больная, щемящая… Веронике не спится.
Накатывает усталость, а все же не уснуть. Мысли петляют однообразными бессмысленными лабиринтами. Скоро зима, а значит, город будет завален снегом, песком, солью, еще какой-нибудь дрянью. Ночи будут темные и холодные. Три безжизненных, неинтересных, хмурых месяца впереди. Хочется верить, впрочем, даже неважно во что, просто хочется верить.
Вероника лежит на постели и сосредоточенно рассматривает руки. «Интересно, а шрамы останутся?»
8
Одиночество проникает незаметно. Одиночество подобно скрытому заболеванию, неощутимому до самой последней стадии, когда уже ни чем не помочь, и все только виновато разводят руками.
И вот пустые, оголенные комнаты, тоскливо-знакомая обстановка и внутренняя опустошенность. В горле какая-то невыносимая горечь. Почему-то боязно смотреть по сторонам, прикасаться к предметам, книгам, бумагам – все несет в себе слишком большую смысловую нагрузку, как в аркаде, в ванную вообще лучше не заходить. Хуже всего, что за окном с самого утра пасмурно. Небо затянуто серым безобразным линялым брезентом. Небо безучастно.
Однако, верно, все самое страшное позади – и больше никаких суицидов (в этом не везет, как и в любви).
Первый день «на свободе», в своей квартире, неуютно, но терпимо, одиноко, не более чем всегда. Независима от всего мира… пожалуй, нет – завтра к врачу и слишком много дел, надо многое разобрать и во многом разобраться, прежде всего в себе. Вероника напряжена, она пишет…
***
16 ноября
«Не вышло, остаюсь среди живых. Пишу, потому что хочется задокументировать, записать (очиститься), после уже перечитать, убедить себя самою: Я – есмь[28 - В своем дневнике Вероника ссылается на стихотворение Марины Цветаевой.], я жива, жива… буду жить!
Как-то все не выходит быть праведной, мудрой, справедливой к себе и к тем, другим, которые подобны людям, не получается быть просто счастливой, радостной. Все улыбки выходят криво. Не получается забывать, прощать; память превратилась в ворох ненужной макулатуры: письма, даты, обрывки стихов, заголовки газет, сказанные вслух и застрявшие навсегда в голове, но не озвученные фразы, простые картинки из жизни, черно-белые, цветные и сепия, осколки снов и реальность, открытки и поздравления, электронные сообщения, смс, напоминания, архивы и прочий хлам, дневники, блоги, ЖЖ… Все суета. Все это во мне живет своей жизнью, эволюционирует вместе со мной. Мы не можем вырвать ни одной страницы из нашей жизни…[29 - Цитата из Жорж Санд: «Мы не можем вырвать ни одной страницы из нашей жизни, хотя легко можем бросить в огонь саму книгу».] Мы не можем вырваться из замкнутого круга. Я не смогла. Не получилось шагнуть в пропасть до самого конца, не изведала всей ее глубины, вырвали из бездны (зачем?) и поволокли дальше. Не дали скончаться. Не зарыли (а хоть бы и живьем!), не утаптывали землю, не справляли поминок. Куда там! Вернулась в трезвом уме и почти твердой памяти с новыми надеждами и бинтами на запястьях. Еще совсем слабая, обиженная, но уже другая (и под кожей чья-то чужая кровь бродит), словом, изменилась с тех пор. В зеркало еще не гляделась – боюсь. Человек переменчив, только вот вокруг все по-прежнему. Те же улицы, те же лица. Одиночество здесь повсюду: утром рядом с тобой в постели – на одной подушке, на твоем плече, за завтраком оно застает тебя врасплох с чашкой кофе в руках, а потом шагает следом за тобой по улицам и вечером поджидает в прихожей, а ночью караулит твой сон и, не отводя глаз, таращится на тебя из всех углов непроницаемым сфинксом.
Мечтала об успокоении, о себе думала. Эгоистка! Хотела всех оставить, отмучилась, мол… Напрасно все это, теперь только опомнилась, поняла, хотя нет – начинаю понимать.
Думаю о будущем, вероятно, поэтому и пишу эти строки. Странно, никогда не вела дневников, хоть и тяготела к письму, видимо, доверяла только себе, теперь могу довериться бумаге, как тогда, в ту ночь, когда была немного безумна (хотя об этом с сомнением в голосе).
Пока еще не решила, как все будет дальше. Рано сейчас об этом, время покажет. Смеюсь, глупо смеюсь своим мыслям, а все потому, что осознаю банальность всего происходящего со мной. Ведь, верно, было точно также с кем-то и до меня, не я первая сделала такой шаг, не я первая сошла с ума, безумцев и до меня хватало. Хочется курить, кажется, это единственная потребность моего организма в нынешнем его состоянии. Опять смеюсь.
Уже курю… Продолжаю: все как-то перемешалось во мне теперь, множество эмоций, воспоминаний (что всего хуже), переживаний. А ведь все это и гроша не стоит, с этим багажом не пойдешь в завтра. Собственно, куда я пойду? Позади кресты, пепелища, вокзалы; эпитафия прожитым годам уже написана, и на ладони линия жизни перечеркнута, однако не оборвалась. Впереди светлое завтра, безграничное счастье, ванильные небеса, розовые шторы или, что более вероятно, монотонная гнетущая душевная горечь (взахлеб), а потом небо, звезды, погост, оцинкованный май… Впрочем, не важно, все одно – не быть. Не я, другая… Поживем, будем смотреть…
Знаю только одно: дальше без них. Вычеркиваю всех… безжалостно, без сожаления, без упрека, не стыдясь, не оглядываясь, хороню всех: хороших, плохих, добрых и злых, любимых и не очень, милых, дорогих и опротивевших, коих число многократно больше. Сжигаю все и вся (в конце концов, Господь узнает своих![30 - Согласно истории Крестовых походов, когда один из предводителей войска Христа спросил у папского легата Арнольда-Амальрика о том, как отличить католиков от еретиков, тот ответил: «Caedite eos! Novit enim Dominus qui sunt eius» – «Убивайте всех! Господь узнает своих!».]). Ухмыляюсь.
Я пишу эти строки, сидя на кухне на кривом деревянном табурете, ссутулившись до невозможности, курю одну за одной дешевые сигареты, чему-то улыбаюсь (еще ведь могу, как странно), а сама, наверное, бледна ужасно, болезненно-некрасива, видимо, напоминаю Голлума. Кто бы видел, девятнадцатилетняя девочка, поэтесса Вероника Грац с разбитым сердцем и неловко вскрытыми венами, со своими страстями и терзаниями и этой никому, кроме себя самой, не нужной исповедью (кстати, очередное переиздание, анонсирую – публикуется впервые!) предаюсь самовольному auto de fe[31 - Аутодафе (ауто-да-фе, ауто де фе; порт. auto da fе, исп. auto de fe, лат. actus fidei, буквально – «акт веры») – в Средние века в Испании и Португалии торжественная религиозная церемония, включавшая в себя процессии, богослужение, выступление проповедников, публичное покаяние осужденных еретиков и чтение их приговоров.]. Глупо. Не могу по-другому, что поделать, ювенильна от природы. Стало быть, простительно. Не обвиняйте!
К людям очень требовательна, не люблю смешных, и простодушных, и дешевых, а сама? Если уж линчевать себя, то самым циничным образом. Эгоистична (об этом уже было), наивна (сознаюсь), романтична (следствие ювенильности, думаю), будем продолжать? Бесталанная, одинокая, ненужная; груба, диковата, ненормальна, не любима, не религиозна, упряма, к окружающим жестока (не всегда), умереть не смогла (тоже скверная особенность), чувствительная натура, фигурой и лицом не идеал (и не Анна Ахматова, что обиднее), правильных решений принимать не умею, изменчива (как все женщины), слаба, грешна, не богата, бываю невыносима… Опять же вредные привычки (мну очередную сигарету в пепельнице, медленно сворачиваю ей шею, все, прикончила!). Каюсь, каюсь, каюсь…
От таких размышлений не то что вены резать станешь, можно и запить, но уж это совсем противно. А все же искренняя, этого не отымешь. Иных добродетелей не имею.
Исписалась, вышла в тираж, стала бесполезна, только вот в ящик не сыграла. Чувствую свою оторванность от окружающего мира, не преемственность к происходящим событиям; последние полгода не живу, а существую, точнее, пытаюсь выживать (с переменным успехом, надо сказать). Трогательная, себя жалею, утешаю, а между тем измучилась, извилась, исстрадалась. Склонна к депрессии, особенно осенью, особенно когда все плохо, когда больше нет сил, когда вокруг пустота и больше нет никого. О нем писать не буду… не могу, не хочу, ненавижу…
Хочется научиться забывать. Еще то желание! Вроде есть способ: записать на листке бумаги то, что хочешь выбросить из памяти, и сжечь или разорвать в клочья[32 - Метод забывать информацию, описанный в произведении Лурии А. «Маленькая книжка о большой памяти».]. Надо будет испробовать на себе, терять нечего!
Если вдуматься, сегодня не такой уж скверный день. Еще вчера палаты, больничные коридоры, болезненные исступленные лица, остекленелые глаза, духота, скука, чокнутая Лерка. А сегодня я почти принадлежу сама себе. Мне почти хорошо. Время откровений. Я пишу для того, чтобы исцелиться, и мне как будто в самом деле становится легче. В целом мире нет человека, которому я бы могла все это поведать вот так вот запросто, вывалить целиком эту горестную муть, всю эту грязь и пошлость, скопившуюся душевную копоть, мусор своих мыслей. Кто бы стал выслушивать? Была бы не понята, заклеймили бы сумасшедшей (что, в принципе, не столь далеко от истины). Я сама не могу разобраться в себе, куда уж другим! Не допущу, не доверюсь, сохраню душу от чуждого мира.
Смотрю на себя со стороны, будто во сне (очень реалистичный дурной сон), созерцаю свое превращение; убеждаю: я соглядатай, всего лишь сторонний наблюдатель, не должна мешать (вмешиваться). Что-то, конечно, изменилось, но жизнь идет своим чередом, надо продолжать имитацию жизни, выполнять привычные функции: принимать пищу, контактировать с миром. Социальная адаптация, говорят, затягивает…
Пью кофе, выкурила треть пачки, на улице темнеет, странная лирическая нега окончательно одолела. Перечитала свои последние стихи (до чего докатилась): неказисто, сумбурно, грубовато, фальшиво, хотя отдельные строки не кажутся окончательно прогнившими (думаю, и в этом заблуждаюсь). Какое наследие оставила после себя. В самом деле, была бы чуть удачливее в своем последнем предприятии, и… черная гранитная ограда, белый обелиск (непременно хочется белый обелиск), фигурный цоколь, на табличке «Вероника…» и так далее, родилась-скончалась, фото, цветы, венки, ненастоящая скорбь друзей, чьи-то искусственно (или искусно) вызванные слезы, сплошная бутафория и надувательство (надругательство, правильнее). Ради этого и умирать не стоит.
Устала, сегодня уже безумно устала, веки липнут друг к другу, во всем теле непреодолимая слабость (все-таки я еще очень истощена), хочется лечь, отрешиться от всего, освободить разум от мыслей. Подводить итоги пока рано, я еще не освободилась, не исцелилась, во мне все так болезненно и хрупко. Знаю, дальше будет лишь хуже, и все же хочется верить!
День тянется за днем, жизнь состоит из мелочей, счастливые мгновения проходят, незаметно приобретая странные свойства, напоминая о себе неожиданно, убеждая, что и ты когда-то была счастлива, но только не умела этого заметить, распознать вовремя (разве этого мало), и кто, собственно, виноват в том, что ты так несчастна. Одиночество абсолютно, оно заполняет все пространство, одиночество равнодушно, беспристрастно, оно не выбирает себе спутников. Я привыкаю к нему, изучаю его стороны, и вместе с тем – Я, Вероника Грац, имела неосторожность быть рожденной, продолжаю свое существование. Сего дня мне полных девятнадцать лет, именую себя поэтесса. Влюблена. Прибавляю: «Была». Отрицаю прошлое (отныне). Не верую в Бога и Зигмунда Фрейда. Причисляю себя к последователям Серебряного века. Самонареченный диадох. Сомневаюсь. Исправленному не верю. Начинаю новую летопись жизни. Как там пишется в автобиографии: «Брошена, неприкаянна, в окончании – захоронена у дороги…» Так, что ли? Будет что добавить – отпишусь! Точка».
9
17 ноября.
«Сегодня другой день (…).
Возвращаюсь к своей рукописи. Пауза. Грею чайник, хочется уюта и тепла, спокойного постепенного мирного пробуждения без сторонней помощи и радикальных мер. По кухне разносится мерное жужжание, быстро и незаметно обрываясь в пустоту, наполняя жизнь сомнительным смыслом. На столе пепельница с кучей окурков (подобие могильного кургана), на которые я таращусь минуты три в летаргическом исступлении. В конце концов это вызывает неприятное сиротливое урчание в животе и легкое чувство тошноты. Включаю радио (скорее, по привычке). Повезло. Слушаю Янку[33 - Я?на Станисла?вовна Дя?гилева (Я?нка) (4 сентября 1966, Новосибирск – ок. 9 мая 1991) – рок-певица, поэтесса, автор песен, участница панк-рок-групп «Гражданская оборона», «Великие Октябри» и др.]. Столетний дождь. Пью черный байховый (спасительный напиток, подобный митридатию[34 - Ядовитое снадобье. Считается, что многие годы царь Митридат принимал ядовитые снадобья и так приспособился к ним, что стал неуязвим для яда.]). Потихоньку согреваюсь и обжигаю небо (тихонько дотрагиваюсь кончиком языка). Во дворе, поднимая невозможный, отвратительный и раздражающий переполох, орудуют мусоровозы. На часах… Стоят! Форточка открыта и любезно пропускает хладный воздух. Надо бы закрыть, но сил вознестись до нее в себе не нахожу. Наверное, это плохо. Мне становится по большому счету все равно – скверное и пугающее предчувствие. Куда-то запропастился плед. Опустилась. Отвлечься не выходит, и я читаю то, что начеркала вчера. Этакая антропомантия[35 - Гадание на человеческих внутренностях.] на груде собственных костей. Пауза. Молчание. Говорить не с кем, пустота помещений, поэтому продолжаю писать…
Страшно мерзнут руки, продолжается озноб (вся в объятиях мурашей). Мысли путаются, а голова ужасно тяжела. Не обессудьте…
Итак, вы не найдете меня в списках умерших. Меня не заколотили в ящик (не положили во гроб), не засыпали землей, не прочли траурного панегирика, земля не стала мне пухом, и собаки до меня не добрались[36 - В Древнем Риме было проклятие: «Пусть земля будет тебе пухом, и собакам легко будет добраться до тебя».]. Я продолжаю бесславное бытие в своем темном логове, в однокомнатной квартире в уродливой многоэтажке в сером, свинцовом, мрачном, жестоком городе. Сколько лет? Три года. До этого прожила почти шестнадцать лет с родителями в Брянске (считать лимитой!). Кстати, там и родилась четырнадцатого августа. Мама рассказывала, что тогда весь день шел проливной дождь (у меня есть все основания доверять этому факту).
Отец Аркадий Николаевич Грац, мать Александра Леонидовна Грац (Свиридова до замужества). Отец (согласно профессии – инженер), бывало, рассказывал о нашей фамилии, тогда была еще несмышленой, помню очень смутно. Вроде фамилия имеет польские или немецкие корни (склоняюсь в сторону Westfalen[37 - Вестфалия (нем.) – историческая область на северо-западе Германии.]). В общем, Grazios[38 - Грация, изящество; привлекательность, прелесть; приятность; любезность, приветливость, вежливость (нем.).]. Мать – медсестра в Брянской областной инфекционной больнице.
Родителям давно не писала. Не знаю почему. Оправданий нет. Смягчающих обстоятельств тоже. Да что же я могу написать? «Дорогие мама и папа, дочка ваша, единственная и любимая, выросла, повзрослела, стала самостоятельной, нужды ни в чем не испытывает, не голодает, учится на положительные отметки, однако сделалась самоубийцей, хоть в этом нехитром деле удачи и не снискала. А нонче страдает меланхолией, ежится от холода и много курит». Дура! Сколько же можно заниматься самоедством!…
Детские воспоминания всегда самые теплые, стойкие, с каким-то терпким, прелым, нестираемым ароматом, со вкусом алого шиповника и предвкушением дождя, свежим ветром, улыбками и беспечной радостью, пустыми мимолетными обидами, морозной зимой с узорами на стеклах и нежным солнечным летом, с зеленью и душистой сиренью, навсегда полюбившимися песнями, маленькими незаменимыми удовольствиями, с мороженым, с воркующими голубями на карнизе поутру, с любимыми игрушками, с хорошими друзьями.
В детстве была болезненная тихоня. Звалась Ника (одноклассники величали Рони). Училась хорошо, читала много, плакала мало.
Что-то еще? Наверное, о поэзии. Стихи начала писать четырнадцати лет от роду (и вовсе не была ни в кого влюблена). Почувствовала внутреннюю щемящую потребность, горделивую ненасыщенную жажду, вскрывшиеся, подобно гноящимся ранам, избытки нереализованного самолюбия. С тех пор что-то сломалось во мне, окружающий мир был преображен и предстал в новых и не всегда ярких цветах. Исчезли предубеждения и слепая уверенность, за истощенностью воспаленных глаз росла и крепла доселе неизвестная моему существу внутренняя сила. Из поэтов – Маяковский. Из поэтесс – Ахматова, Цветаева (в алфавитном порядке). Больше половины – самоубийцы. Как кстати.
Основная часть из написанного мной в то время ныне покоится дома в Брянске, большая часть не стоит того, чтобы перечитывать. Некоторые строчки отчего-то засели в голову, периодически беспокоят (ноют, зудят), как осколки после ранения:
Лето. Жажда… И стаи во тьме
Пропоют свою песню оврагам,
Мхам болотным, гниющим корягам,
Синеоким лесам и луне