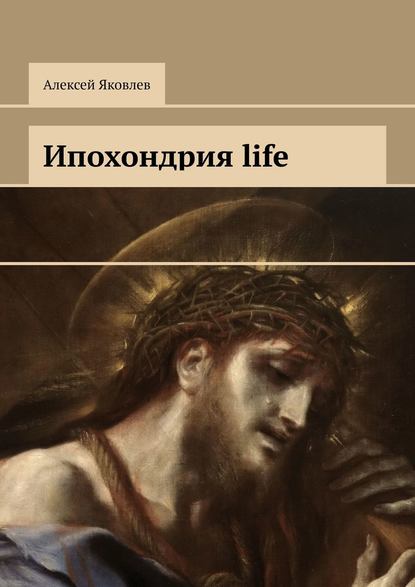По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ипохондрия life
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ощущения всегда состоят из мелких деталей. Вероника знала, что произойдет дальше. Все это было раньше и повторялось вновь. По комнате предсказуемо закишели звуки шаркающих шагов, откуда-то доносился стук капающей воды, кто-то перешептывался в коридорах, кто-то подслушивал, стоя за спиной (прямо из стены, из мглы), что-то надоедливо дребезжало совсем рядом.
Вероника ощущала, как шумно стучало ее сердце (чуть чаще, чем обычно), очень сильно сушило горло, кто-то кашлял совсем близко (и это было ново), ощущался запах свежей краски, как это бывает в художественных мастерских, и еще какой-то странный подкисленный едкий запах, как в аптеках. Вероника закрыла лицо руками и заплакала от ощущения безнадежности, и еще хотелось не видеть и не слышать человека напротив. Но он продолжал говорить, и до Вероники все время долетали обрывки фраз, которые мужчина в черном, казалось бы, небрежно сплевывал на пол перед собой.
– Тебе тоже холодно… Но ничего этого не может повториться… Посмотри на руки – откуда это… Мы не можем уйти и не вернуться… Надо открыть окна… Кто-то проник в твое сердце… Никогда. «Никогда, никогда, никогда» – донеслось эхом со всех сторон.
Теперь все закружилось, и Вероника поняла, что утратила контроль над происходящим. Перед глазами замелькали белые бинты, на отливающем глянцем кафельном полу рассыпались пунцовые осенние листья, комната наполнилась гвалтом, топотом, неприятно распухали, становясь бесформенными и нечувствительными, пальцы рук, что-то давило в области сердца, стены поплыли в стороны. Вероника почувствовала, что она куда-то проваливается. Мужчина легко поднялся с кресла и стал медленно наклоняться ближе к Веронике; комната исчезла, потолок почернел, став небом, лишенным луны и звезд, пространство вокруг росло с угрожающей скоростью и постоянством. Дрожь бежала по спине. Позади поднялось что-то темное, многократно удесятерилось, заполнило собой все, объяло и поглотило Веронику, с силой прижало грудь, вонзилось под лопатки, надавило в области живота, крепко стянуло правую руку в области плеча, побежало по сосудам, болью потекло по всему телу.
Вероника уже плакала навзрыд, было страшно, и ей овладело ощущение, будто произошло что-то непоправимое, жуткое, что-то бесконечное… Рядом уже не было никого, в воздухе повисла непроницаемая могильная тишина. Веронику окружало нагромождение бесформенных тяжеловесных масс. Все тело сковал холод…
Наваждение, наваждение… Вероника проснулась… Или это только казалось пробуждением…
3
Питирим возвращался домой поздно из своей мастерской, промокший от проливного дождя и вымотанный бесплодными усилиями начать новую работу. Одежда промокла от дождевых потоков, налипла на тело, холодно касаясь кожного покрова. Ночь была особенно темна, некоторое время дождь шел буквально стеной, и Питирим даже пережидал под козырьком автобусной остановки, слушая металлический стук над головой и клокотанье водяного потока у самых ног. Даже теперь холодная морось чувствовалась в воздухе, редкие капли норовили за шиворот, под ногами осторожно расширялись темные рытвины луж, а от земли тянуло перепрелой осенней влагой. Из подворотен доносился монотонный собачий вой, шипели по мокрому асфальту шины проносящихся автомобилей, одинокие фонари приглушенно освещали, указуя путь.
Питирима немного знобило, но тело сделалось нечувствительным к холоду, ведь мысли были тревожны и мрачны. «А что поделаешь, ведь ничего не изменишь, лучшее, что возможно, – прийти выпить горячего имбирного чая, лучше с медом, чтобы не проснуться завтра с простудой, и температурой, и этим неприятным скоблящим ощущением в горле. Так или иначе, Альбина далеко, а я здесь, и ничего не изменится само собой, а я не приложу тех усилий, которых в любом случае будет недостаточно…»
Питирим завернул в свой двор, знакомый рыжий кот, вымокший до костей, нервно дернул перед самыми ногами в кромешную и вечную тьму подвала. У соседней парадной мигали широким радиусом пронзительно-синие огни скорой помощи, водитель стоял рядом с кабиной, курил спокойно, сосредоточенно, искорка сигареты плавно мерцала во тьме. Будто жерло печки, распахнулась дверь парадной, нервно и раздражающе пищал домофон, с лязгом хлопнула дверь, водитель бросил бычок мимо урны и торопливо перехватил носилки. Питирим проходил как раз вровень, и фонарный свет падал ярко и равномерно, он рассмотрел отчетливо лицо девочки, бледное, спокойное, с красивыми правильными чертами, прикрытые веки, русые волосы. Она исчезла в глубине автомобиля. Сложившись и скользнув в колею, слегка щелкнули колесики носилок, двери захлопнулись. Питирим уже заходил в свой подъезд, обернулся – карета скорой резко разворачивалась, под ногами что-то рыжее проскочило в манящую теплоту подъезда, где-то в соседних дворах громыхнул гром, и эхо заскользило вдоль домов.
Рассвет застал Питирима с грифельным огрызком в руке и наброском, сделанным в бессонной ночи. Рядом с Питиримом на столе недопитый горький кофе, несколько измятых листов бумаги, мысли его блуждали сложным лабиринтом, склонявшим ко сну. Прямо перед ним на плотном картоне лицо девушки, спокойно-грациозное: высокий лоб, узкие скулы, глубокий задумчивый взгляд – византийская Феодора, Ольга Хохлова, Юдифь Густава Климта.
– Интересно, как там эта бедная девочка?
4
Утро неспешно заглядывало в простуженные окна домов, расселины коих зияли неприкрытыми ранами. Над городом не было радуги, не было солнца; густые косматые дымы опрокинутого моря неподвижно застыли высоко над крышами. Иссякала в холодных объятиях пасмурного неба бледноликая луна. Серая мономорфная с синевой мундира ткань и золотая расплавленная пуговица на вороте… Или, взглянув из-за другого угла (с иного постамента, если хотите), небо серое, грязное, размазанное, в потертостях, шершавое, очень близкое, осеннее и по-настоящему левитановское.
Седые головы спящих фонарных столбов. Голые скелеты оборванных деревьев, груды разбухшей от влаги опавшей листвы. Обветренные, со следами оспы лица домов. Полноводное междуречье – реки, каналы, пруды. Мокрый генетически обусловленный асфальт, не скрывающий своих уродств, смиренно и послушно представляющий на всеобщее обозрение свои рытвины, вспухающие нарывы, мокнущие язвы, пепельные пигментные пятна, шелушащиеся, растрескавшиеся морщинистые покровные ткани…
Октябрь. Суббота. В ординаторской реанимационного отделения было по-утреннему тоскливо, неуютно и прохладно. Так всегда бывает после бессонного ночного дежурства. У стены диван со светло-зеленым линялым покрывалом, несколько столов офисного типа, на одном из них монитор с плывущими сердечными ритмами и другими показателями жизнедеятельности. На другом столе компьютер с открытой интернет-страницей и сводкой погоды на ближайшую неделю (пасмурно, пасмурно, дождь), на экране внизу в списке популярных товаров обогреватели. Следующий стол в углу в обнимку с раковиной с разводами ржавчины завален посудой – керамическими кружками с логотипами фармацевтических фирм, названиями лекарственных препаратов, незамысловатыми рисунками, среди которых особенно популярны знаки зодиака. Пахнет подгорелым горьковатым кофе и краской.
На одной стене график дежурств, учебные схемы реанимационных манипуляций, списки сотрудников, телефоны, несколько коротких журнальных статей со статистическими выкладками.
Напротив, на другой стене над диваном крепленные скотчем распечатанные демотиваторы. Целующаяся пара с надписью: «Говорят, когда человека перестаешь ждать, он возвращается»; несколько комнат с открытыми настежь дверьми, светло-синие стены с частично облупившейся краской и пол, засыпанный горами песка: «Время не лечит раны, оно просто стирает воспоминания»; еще одна целующаяся пара и сентенция: «Жизнь без любви – это как банковский счет без денег»; на последней картинке в лоскутных смазанных тонах набросок – опрокинутый стул, подобие комнаты, повешенный под потолком в призрачном углу: «Одиночество убивает изнутри медленно». На окнах решетки, за прутьями которых отступающие прочь сумрачные тени и привычное сморщенное, обугленное, заплаканное блеклое утро…
Дежурный реаниматолог передавал смену своему коллеге.
– Девочка. Поступила в ночи. Вероника Аркадьевна Грац, полных лет девятнадцать, студентка. Иногородняя. Живет одна. Анамнез скудный, сопровождения нет. Обнаружена около четырех ночи у себя дома в ванной. Скорую вызвала милиция, а ее в свою очередь соседи, живущие этажом ниже. Она их залила. Хорошо еще не захлебнулась. Сначала звонили в дверь, потом вызвали милицию. Лежала в ванной без сознания. Попытка суицида. Порезала вены. Предположительная кровопотеря около семисот – тысячи миллилитров. Оставила записку. Какой-то бред, вообще все как положено. Не хочу, мол, жить, что-то там про одиночество и тому подобное. Прилагается к истории. Теперь про анализы. На момент поступления эритроциты – два и два, гемоглобин – шестьдесят девять, гематокрит – двадцать три, лейкоцитоза нет, СОЭ – двадцать один, группа крови первая отрицательная. Кровь лили. Биохимия: глюкоза – три и шесть, белок – шестьдесят семь, натрий – нижняя граница нормы, калий – нижняя граница нормы, капаем полярку, печеночные ферменты в норме. Свежие анализы в работе, минут через двадцать лаборатория должна отзвониться. Кровь на гепатиты, форму пятьдесят, этанол взяли, хотя запаха алкоголя не было, следов инъекций на руках нет, других следов травм кроме порезов тоже нет, раны обработали, перевязали, конечности зафиксировали, поставили подклюку, мочевой катетер. Был легкий психомотор, делали седативные, теперь отсыпается. Гемодинамика стабильная: артериальное давление – сто десять на шестьдесят пять, пульс – восемьдесят шесть, ритмичный. Тоны сердца ясные. Шумов нет. Электрокардиограмма без патологии. Дыхание самостоятельное. Сатурация в норме, пока на увлажненном кислороде. Температура с утра тридцать семь и четыре. Может быть, и простудилась, пока в холодной ванне лежала, но в легких хрипов нет, дыхание жесткое, понятное дело, курильщица. Антибиотики все равно добавлять нужно. Осмотрена офтальмологом – застоя нет. Когда полностью придет в сознание, первым делом надо показать психиатру, заявку уже подали.
– Чем резала?
– Обычной бритвой, явно не подготовилась, скорее всего, спонтанно все придумала, резала не правильно, литературу не почитала.
– От несчастной любви, значит?
– Вероятней всего… Эффект Вертера…[25 - У подростков значительно чаще, чем среди взрослых, наблюдается так называемый эффект Вертера – самоубийство под влиянием чьего-либо примера. В свое время опубликование Гетевского «Вертера» вызвало волну самоубийств среди немецкой молодежи.]
5
Есть что-то гетевское в попытке осеннего суицида… или Достоевский, Куприн…
Новый день оборачивается новыми картинами бытия. Постимпрессионизм в больничных тонах. Вероника лежит в мономорфной белой, как прокисшее молоко, палате. Потолок покрыт унылыми трещинами, а в окно, прищурившись, заглядывает рыжеволосая осенняя печаль.
Вероника бледна, но щеки ее рдеют легким румянцем. Вероника сгорает от стыда. Солнце бесшумно тонет в поляризующем растворе. На подоконнике, запутавшись в остаточных лохмотьях сна, кривляются незатейливые цветы коих нет, совсем некстати цветет декабрист (ехидный смех за углом…), и отчего-то удушливо пахнет мелиссой…
Болезненный вид соседки, вылущенный из обступивших белоснежных полотен, не внушает доверия. На запястьях пластырь, бинты (будто только что с креста) и ремешки-фиксаторы. Позади девятнадцать лет праведной жизни и Голгофа…
Веронике тоскливо, ужасно хочется спать, неимоверно тяжелеют веки, и нестерпимо сушит во рту; мысли путаются, петляют эфемерными лабиринтами, строем карабкаются по кисломолочным стенам, соскальзывая вниз со скрежетом отворяемых оконных ставней.
Осенний сплин подобен хронической болезни, протекающей с сезонными рецидивами и пугающей своим неутешительным прогнозом. Здесь холодно и неуютно, такая хрупкая, как оказалось, вечность дрожит меж стен хрустальным переливом. Кашель соседки на мгновение вырывает из разверзнувшейся бездны. Капля за каплей бежит прозрачный раствор, тысячи молекул жизни, нехитрая вечность, целая вселенная внутри.
Бесконечно мелькают безликие халаты, шершавые простыни, тревожные прокисшие стены, обернутая стеклянной пленкой и ставшая равнодушно далекой осень.
Здесь время течет неспешно, здесь пасмурно и сиротливо. Витражи октября переливаются оранжевыми, багряными, ядовито-желточными цветами и узорами, а сменяющая день ночь обступает со всех сторон картинами Пикассо. Бездонные синие этюды бессонных больничных ночей. Хочется уйти по бесконечно длинному коридору, не замечая чужих и беспристрастных лиц. Хочется не слушать звук чужих шагов, не слушать шум дождя, не смотреть по сторонам, где все дышит страданием и несчастьем, хочется уйти от всего этого, быть незамеченной и никем неузнанной, стать свободной и открыть дверь, за которой притаилась спокойная, светлая, вседарующая благодать.
Вероника ощущает зыбкость своих надежд, всю хрупкость своих мечтаний, и потому она пребывает в смятении. Вероника прислушивается к дыханию соседки и сквозь обступившее ее пространство различает каждый новый стук своего сердца. «Нежная хрупкая птица в моей груди», – думает Вероника и уже (нелепая неугомонная, еще совсем юная романтичность) подыскивает новую строку с неизбитой рифмой. Жаль, что нет под рукой листа бумаги и простой шариковой ручки (достаточным кажется даже карандаш), однако свет давно потушен, и все время отвлекает кашель соседки, приглушенный и робкий, непредсказуемый и нестерпимый…
Где же ты, спокойная, светлая, вседарующая благодать?
6
30 октября
«Сегодня долго беседовали с лечащим врачом. У него усталый взгляд и на склерах красные прожилки сосудов, как бывает после бессонной ночи. Голос спокойный и монотонный, но меня этот голос отчего-то вгоняет в еще большую тревогу, будто именно в этом голосе кроется вся пугающая суть случившегося со мной. Наверное, поэтому в разговоре с ним я всегда напряжена и скованна, а это, видимо, плохо в моем положении. Когда он измеряет мне давление, привычным движением затягивая манжету у меня на плече, я чувствую себя неловко и совершенно беспомощно, будто я кольцуемая птица в силке. Мне кажется, моя бледная кожа покрывается мурашками, становится похожей на корку апельсина, а он спокойно слушает, в изгибе локтя нащупывая холодной воронкой шум, и в этот момент мне становится особенно омерзительно, будто от прикосновения неприятного человека («рука прокаженная») или в постели с нелюбимым мужчиной. Я дрожу, как мне кажется, всем телом, ладони покрываются влагой, липкой, неприятной, как будто от сладкого сиропа, и нижняя губа кривится. Мне становится себя жалко, но лицо доктора по-прежнему безучастно… Ехидно корчится стрелка на циферблате, дергается «немножко нервно», затем медленно уходит к нулю, в затекшей руке я чувствую облегчение, и он размыкает оковы, разъединяя липучку манжеты, из-под которой появляется мое оголенное плечо, а на нем (кожица у меня нежная, и синяки образуются легко) едва различимые пурпурные жилки кровянистой росы…
Доктор уходит, и я чувствую некоторое облегчение. В коридоре слишком много настороженных, напряженных, тяжеловесных взглядов, которые пугают меня еще более, чем мое собственное состояние. Иногда хочется плакать, но я сдерживаю себя, видимо, из-за какого-то врожденного стеснения – плакать при посторонних. Однако вечером приходит медсестра с очередной бутылью загадочного бесцветного и абсолютно прозрачного раствора, она ловко подключает капельницу, и вслед за небольшим жжением в локте приходит чувство нарастающей слабости; тревога внутри утихает, я бессмысленно таращусь в белый потрескавшийся потолок, вижу, как он расплывается надо мною, словно огромное полотно, которым меня накрывают полностью, как саваном, и ловлю себя на мысли, что медленные капельки влаги застыли меж век, а самые проворные из них уже скользят по моим щекам. Это та единственная, как мне кажется, слабость, которую я еще могу себе позволить…»
7
1 ноября
«Ноябрь – это хранитель наших тайн, надежд, разочарований. Ноябрь – молчаливый наблюдатель, равнодушный к нашим исповедям, беспощадный и суровый. Ноябрь – пронзительный крик осени, холодный, хмурый, настороженный зверь. И он как-то особенно страшен из окна больничной палаты… Вскрыла вены, не приняла яд, не открыла газ, не искала крюк[26 - Фраза из письма Марины Цветаевой: «Никто не видит, не знает, что я год уже (приблизительно) ищу глазами крюк… Я год примеряю смерть».] – не повесилась… Вскрыла вены. Глупо, гадко, самой мерзко и все еще стыдно.
Пишу в свой мобильный телефон. Его мне принесла моя знакомая Лика, она единственная, кто про все знает; навещает меня два-три раза в неделю и почти ни о чем не расспрашивает. Мне бы и не хотелось, чтобы она задавала некоторые вопросы, я их сама себе не задаю, потому что знаю, что ответов пока нет. Она принесла мне мобильник, некоторые необходимые вещи, что-то из продуктов, гематоген с витамином С и лесным орехом, а вот сигареты отказалась. Говорит, что, если я буду нарушать режим (курить здесь нельзя), меня еще долго не выпишут. Может быть, она и права. Мне сейчас сложно рассуждать здраво. Я не попросила ее, чтобы она принесла блокнот или тетрадь для записей, потому что если это кто-то прочтет из персонала, то, возможно, меня действительно признают сумасшедшей, и тогда мне отсюда не спастись, а я очень хочу домой, в смысле на свободу. А может быть, я это надумываю. Одно я точно могу сказать: еще месяц здесь, и я сгнию заживо.
От скуки я слишком много думаю, и мысли приходят разные. Что-то никак не получается подняться выше первой ступени той самой пирамиды, словно с издевкой над всем человечеством выдуманной Абрахамом Маслоу, нам преподавали в университете; даже уверенно взобраться на первую не получается. От таких рассуждений меня накрывает тоска, впрочем, я все время тоскую.
Целый день среди… хм, больных… Невыносимо! «Сумасшедшие, знаете ли, не хворают» – с улыбкой вспоминаю полюбившуюся строку из Альфреда де Виньи.
Моя соседка – Лера. Все время кашляющая светлокудрая девица с туманной пеленой, застлавшей изумрудного цвета глаза, будто она только что проснулась или сильно выпила, и с татуировкой на левом плече – бирюзовокрылая нимфалида с надписью: «Je me souviens del’amour[27 - Буквально «Я вспоминаю любовь» (фр.).]». Она постоянно незримо пребывает со мной. Эта близость действует на меня угнетающе. Находясь в палате, она не умолкает ни на секунду, зато, выходя в коридор на прогулку, пребывая в столовой или в общем зале перед телевизором, она всегда напряжена и задумчива и, по-моему, ни с кем кроме меня не общается. Она рассказывает мне странные истории из своей жизни, о своем детстве, которое она провела в Таллине, о своих друзьях, о том, почему она уже давно не понимает своих родителей, а они в свою очередь ее, и почему она бросила институт, и больше всего про то, что случилось с ней в последние два года. Эти ее рассказы отчего-то крепко врезаются в мою память и не дают спокойно спать ночью, она же вообще страдает бессонницей и, как мне кажется, никогда не спит. Наверное, оттого у меня все еще нездоровый вид, хотя гемоглобин растет, и показатели крови улучшаются, если верить словам лечащего врача. Я не высыпаюсь, и у меня красные белки глаз с утра и под вечер. Уснуть в этих стенах да еще с такой соседкой просто немыслимо. Попросить ее замолчать бесполезно, я пробовала.
– Я, в общем-то, и не с тобой разговариваю, я болтаю, просто, чтобы успокоиться, знаешь, мне очень одиноко, а голоса меня успокаивают. Если тебе неинтересно, можешь пойти в коридор, или попроси другую палату, – совсем не раздражаясь, с задумчивым равнодушием отвечает она. Но других палат нет, я спрашивала. А что касается коридора, там еще хуже. Лера хотя бы не лезет к тебе с идиотскими расспросами, и еще она практически никогда не улыбается, только когда произносит одно имя, а меня сейчас улыбки отчего-то ужасно раздражают, словно это что-то настолько мерзкое, что мне приходится с отвращением отводить взгляд.
Поэтому я понуро сижу на своей койке, неловко подогнув под себя ноги, и, обхватив колени руками, с тоской ссыльного поэта или приговоренного к смертной казни в глазах безропотно слушаю ее тошнотворные повествования. Вообще-то, мне ее очень жалко…
Ей двадцать два года и она амфетаминовая наркоманка, а еще она безумно влюблена в своего парня, которого зовут Андрей. Это его имя она называет улыбаясь и неизменно прикусывая нижнюю губу. Андрей на два года младше, и это он приучил ее к наркотикам. Они познакомились в каком-то петербургском ночном клубе почти два года назад и с тех пор вместе. И эти последние два года жизни, с ее слов, – это постоянные «эфедриновые вечеринки и метадоновые друзья».
Лера рассказала мне, что они мечтают вместе совершить самоубийство. Она говорит, что таким образом они якобы докажут друг другу свою любовь и «окончательно наплюют на всех» или что-то в этом роде. Бред.
Вероника ощущала, как шумно стучало ее сердце (чуть чаще, чем обычно), очень сильно сушило горло, кто-то кашлял совсем близко (и это было ново), ощущался запах свежей краски, как это бывает в художественных мастерских, и еще какой-то странный подкисленный едкий запах, как в аптеках. Вероника закрыла лицо руками и заплакала от ощущения безнадежности, и еще хотелось не видеть и не слышать человека напротив. Но он продолжал говорить, и до Вероники все время долетали обрывки фраз, которые мужчина в черном, казалось бы, небрежно сплевывал на пол перед собой.
– Тебе тоже холодно… Но ничего этого не может повториться… Посмотри на руки – откуда это… Мы не можем уйти и не вернуться… Надо открыть окна… Кто-то проник в твое сердце… Никогда. «Никогда, никогда, никогда» – донеслось эхом со всех сторон.
Теперь все закружилось, и Вероника поняла, что утратила контроль над происходящим. Перед глазами замелькали белые бинты, на отливающем глянцем кафельном полу рассыпались пунцовые осенние листья, комната наполнилась гвалтом, топотом, неприятно распухали, становясь бесформенными и нечувствительными, пальцы рук, что-то давило в области сердца, стены поплыли в стороны. Вероника почувствовала, что она куда-то проваливается. Мужчина легко поднялся с кресла и стал медленно наклоняться ближе к Веронике; комната исчезла, потолок почернел, став небом, лишенным луны и звезд, пространство вокруг росло с угрожающей скоростью и постоянством. Дрожь бежала по спине. Позади поднялось что-то темное, многократно удесятерилось, заполнило собой все, объяло и поглотило Веронику, с силой прижало грудь, вонзилось под лопатки, надавило в области живота, крепко стянуло правую руку в области плеча, побежало по сосудам, болью потекло по всему телу.
Вероника уже плакала навзрыд, было страшно, и ей овладело ощущение, будто произошло что-то непоправимое, жуткое, что-то бесконечное… Рядом уже не было никого, в воздухе повисла непроницаемая могильная тишина. Веронику окружало нагромождение бесформенных тяжеловесных масс. Все тело сковал холод…
Наваждение, наваждение… Вероника проснулась… Или это только казалось пробуждением…
3
Питирим возвращался домой поздно из своей мастерской, промокший от проливного дождя и вымотанный бесплодными усилиями начать новую работу. Одежда промокла от дождевых потоков, налипла на тело, холодно касаясь кожного покрова. Ночь была особенно темна, некоторое время дождь шел буквально стеной, и Питирим даже пережидал под козырьком автобусной остановки, слушая металлический стук над головой и клокотанье водяного потока у самых ног. Даже теперь холодная морось чувствовалась в воздухе, редкие капли норовили за шиворот, под ногами осторожно расширялись темные рытвины луж, а от земли тянуло перепрелой осенней влагой. Из подворотен доносился монотонный собачий вой, шипели по мокрому асфальту шины проносящихся автомобилей, одинокие фонари приглушенно освещали, указуя путь.
Питирима немного знобило, но тело сделалось нечувствительным к холоду, ведь мысли были тревожны и мрачны. «А что поделаешь, ведь ничего не изменишь, лучшее, что возможно, – прийти выпить горячего имбирного чая, лучше с медом, чтобы не проснуться завтра с простудой, и температурой, и этим неприятным скоблящим ощущением в горле. Так или иначе, Альбина далеко, а я здесь, и ничего не изменится само собой, а я не приложу тех усилий, которых в любом случае будет недостаточно…»
Питирим завернул в свой двор, знакомый рыжий кот, вымокший до костей, нервно дернул перед самыми ногами в кромешную и вечную тьму подвала. У соседней парадной мигали широким радиусом пронзительно-синие огни скорой помощи, водитель стоял рядом с кабиной, курил спокойно, сосредоточенно, искорка сигареты плавно мерцала во тьме. Будто жерло печки, распахнулась дверь парадной, нервно и раздражающе пищал домофон, с лязгом хлопнула дверь, водитель бросил бычок мимо урны и торопливо перехватил носилки. Питирим проходил как раз вровень, и фонарный свет падал ярко и равномерно, он рассмотрел отчетливо лицо девочки, бледное, спокойное, с красивыми правильными чертами, прикрытые веки, русые волосы. Она исчезла в глубине автомобиля. Сложившись и скользнув в колею, слегка щелкнули колесики носилок, двери захлопнулись. Питирим уже заходил в свой подъезд, обернулся – карета скорой резко разворачивалась, под ногами что-то рыжее проскочило в манящую теплоту подъезда, где-то в соседних дворах громыхнул гром, и эхо заскользило вдоль домов.
Рассвет застал Питирима с грифельным огрызком в руке и наброском, сделанным в бессонной ночи. Рядом с Питиримом на столе недопитый горький кофе, несколько измятых листов бумаги, мысли его блуждали сложным лабиринтом, склонявшим ко сну. Прямо перед ним на плотном картоне лицо девушки, спокойно-грациозное: высокий лоб, узкие скулы, глубокий задумчивый взгляд – византийская Феодора, Ольга Хохлова, Юдифь Густава Климта.
– Интересно, как там эта бедная девочка?
4
Утро неспешно заглядывало в простуженные окна домов, расселины коих зияли неприкрытыми ранами. Над городом не было радуги, не было солнца; густые косматые дымы опрокинутого моря неподвижно застыли высоко над крышами. Иссякала в холодных объятиях пасмурного неба бледноликая луна. Серая мономорфная с синевой мундира ткань и золотая расплавленная пуговица на вороте… Или, взглянув из-за другого угла (с иного постамента, если хотите), небо серое, грязное, размазанное, в потертостях, шершавое, очень близкое, осеннее и по-настоящему левитановское.
Седые головы спящих фонарных столбов. Голые скелеты оборванных деревьев, груды разбухшей от влаги опавшей листвы. Обветренные, со следами оспы лица домов. Полноводное междуречье – реки, каналы, пруды. Мокрый генетически обусловленный асфальт, не скрывающий своих уродств, смиренно и послушно представляющий на всеобщее обозрение свои рытвины, вспухающие нарывы, мокнущие язвы, пепельные пигментные пятна, шелушащиеся, растрескавшиеся морщинистые покровные ткани…
Октябрь. Суббота. В ординаторской реанимационного отделения было по-утреннему тоскливо, неуютно и прохладно. Так всегда бывает после бессонного ночного дежурства. У стены диван со светло-зеленым линялым покрывалом, несколько столов офисного типа, на одном из них монитор с плывущими сердечными ритмами и другими показателями жизнедеятельности. На другом столе компьютер с открытой интернет-страницей и сводкой погоды на ближайшую неделю (пасмурно, пасмурно, дождь), на экране внизу в списке популярных товаров обогреватели. Следующий стол в углу в обнимку с раковиной с разводами ржавчины завален посудой – керамическими кружками с логотипами фармацевтических фирм, названиями лекарственных препаратов, незамысловатыми рисунками, среди которых особенно популярны знаки зодиака. Пахнет подгорелым горьковатым кофе и краской.
На одной стене график дежурств, учебные схемы реанимационных манипуляций, списки сотрудников, телефоны, несколько коротких журнальных статей со статистическими выкладками.
Напротив, на другой стене над диваном крепленные скотчем распечатанные демотиваторы. Целующаяся пара с надписью: «Говорят, когда человека перестаешь ждать, он возвращается»; несколько комнат с открытыми настежь дверьми, светло-синие стены с частично облупившейся краской и пол, засыпанный горами песка: «Время не лечит раны, оно просто стирает воспоминания»; еще одна целующаяся пара и сентенция: «Жизнь без любви – это как банковский счет без денег»; на последней картинке в лоскутных смазанных тонах набросок – опрокинутый стул, подобие комнаты, повешенный под потолком в призрачном углу: «Одиночество убивает изнутри медленно». На окнах решетки, за прутьями которых отступающие прочь сумрачные тени и привычное сморщенное, обугленное, заплаканное блеклое утро…
Дежурный реаниматолог передавал смену своему коллеге.
– Девочка. Поступила в ночи. Вероника Аркадьевна Грац, полных лет девятнадцать, студентка. Иногородняя. Живет одна. Анамнез скудный, сопровождения нет. Обнаружена около четырех ночи у себя дома в ванной. Скорую вызвала милиция, а ее в свою очередь соседи, живущие этажом ниже. Она их залила. Хорошо еще не захлебнулась. Сначала звонили в дверь, потом вызвали милицию. Лежала в ванной без сознания. Попытка суицида. Порезала вены. Предположительная кровопотеря около семисот – тысячи миллилитров. Оставила записку. Какой-то бред, вообще все как положено. Не хочу, мол, жить, что-то там про одиночество и тому подобное. Прилагается к истории. Теперь про анализы. На момент поступления эритроциты – два и два, гемоглобин – шестьдесят девять, гематокрит – двадцать три, лейкоцитоза нет, СОЭ – двадцать один, группа крови первая отрицательная. Кровь лили. Биохимия: глюкоза – три и шесть, белок – шестьдесят семь, натрий – нижняя граница нормы, калий – нижняя граница нормы, капаем полярку, печеночные ферменты в норме. Свежие анализы в работе, минут через двадцать лаборатория должна отзвониться. Кровь на гепатиты, форму пятьдесят, этанол взяли, хотя запаха алкоголя не было, следов инъекций на руках нет, других следов травм кроме порезов тоже нет, раны обработали, перевязали, конечности зафиксировали, поставили подклюку, мочевой катетер. Был легкий психомотор, делали седативные, теперь отсыпается. Гемодинамика стабильная: артериальное давление – сто десять на шестьдесят пять, пульс – восемьдесят шесть, ритмичный. Тоны сердца ясные. Шумов нет. Электрокардиограмма без патологии. Дыхание самостоятельное. Сатурация в норме, пока на увлажненном кислороде. Температура с утра тридцать семь и четыре. Может быть, и простудилась, пока в холодной ванне лежала, но в легких хрипов нет, дыхание жесткое, понятное дело, курильщица. Антибиотики все равно добавлять нужно. Осмотрена офтальмологом – застоя нет. Когда полностью придет в сознание, первым делом надо показать психиатру, заявку уже подали.
– Чем резала?
– Обычной бритвой, явно не подготовилась, скорее всего, спонтанно все придумала, резала не правильно, литературу не почитала.
– От несчастной любви, значит?
– Вероятней всего… Эффект Вертера…[25 - У подростков значительно чаще, чем среди взрослых, наблюдается так называемый эффект Вертера – самоубийство под влиянием чьего-либо примера. В свое время опубликование Гетевского «Вертера» вызвало волну самоубийств среди немецкой молодежи.]
5
Есть что-то гетевское в попытке осеннего суицида… или Достоевский, Куприн…
Новый день оборачивается новыми картинами бытия. Постимпрессионизм в больничных тонах. Вероника лежит в мономорфной белой, как прокисшее молоко, палате. Потолок покрыт унылыми трещинами, а в окно, прищурившись, заглядывает рыжеволосая осенняя печаль.
Вероника бледна, но щеки ее рдеют легким румянцем. Вероника сгорает от стыда. Солнце бесшумно тонет в поляризующем растворе. На подоконнике, запутавшись в остаточных лохмотьях сна, кривляются незатейливые цветы коих нет, совсем некстати цветет декабрист (ехидный смех за углом…), и отчего-то удушливо пахнет мелиссой…
Болезненный вид соседки, вылущенный из обступивших белоснежных полотен, не внушает доверия. На запястьях пластырь, бинты (будто только что с креста) и ремешки-фиксаторы. Позади девятнадцать лет праведной жизни и Голгофа…
Веронике тоскливо, ужасно хочется спать, неимоверно тяжелеют веки, и нестерпимо сушит во рту; мысли путаются, петляют эфемерными лабиринтами, строем карабкаются по кисломолочным стенам, соскальзывая вниз со скрежетом отворяемых оконных ставней.
Осенний сплин подобен хронической болезни, протекающей с сезонными рецидивами и пугающей своим неутешительным прогнозом. Здесь холодно и неуютно, такая хрупкая, как оказалось, вечность дрожит меж стен хрустальным переливом. Кашель соседки на мгновение вырывает из разверзнувшейся бездны. Капля за каплей бежит прозрачный раствор, тысячи молекул жизни, нехитрая вечность, целая вселенная внутри.
Бесконечно мелькают безликие халаты, шершавые простыни, тревожные прокисшие стены, обернутая стеклянной пленкой и ставшая равнодушно далекой осень.
Здесь время течет неспешно, здесь пасмурно и сиротливо. Витражи октября переливаются оранжевыми, багряными, ядовито-желточными цветами и узорами, а сменяющая день ночь обступает со всех сторон картинами Пикассо. Бездонные синие этюды бессонных больничных ночей. Хочется уйти по бесконечно длинному коридору, не замечая чужих и беспристрастных лиц. Хочется не слушать звук чужих шагов, не слушать шум дождя, не смотреть по сторонам, где все дышит страданием и несчастьем, хочется уйти от всего этого, быть незамеченной и никем неузнанной, стать свободной и открыть дверь, за которой притаилась спокойная, светлая, вседарующая благодать.
Вероника ощущает зыбкость своих надежд, всю хрупкость своих мечтаний, и потому она пребывает в смятении. Вероника прислушивается к дыханию соседки и сквозь обступившее ее пространство различает каждый новый стук своего сердца. «Нежная хрупкая птица в моей груди», – думает Вероника и уже (нелепая неугомонная, еще совсем юная романтичность) подыскивает новую строку с неизбитой рифмой. Жаль, что нет под рукой листа бумаги и простой шариковой ручки (достаточным кажется даже карандаш), однако свет давно потушен, и все время отвлекает кашель соседки, приглушенный и робкий, непредсказуемый и нестерпимый…
Где же ты, спокойная, светлая, вседарующая благодать?
6
30 октября
«Сегодня долго беседовали с лечащим врачом. У него усталый взгляд и на склерах красные прожилки сосудов, как бывает после бессонной ночи. Голос спокойный и монотонный, но меня этот голос отчего-то вгоняет в еще большую тревогу, будто именно в этом голосе кроется вся пугающая суть случившегося со мной. Наверное, поэтому в разговоре с ним я всегда напряжена и скованна, а это, видимо, плохо в моем положении. Когда он измеряет мне давление, привычным движением затягивая манжету у меня на плече, я чувствую себя неловко и совершенно беспомощно, будто я кольцуемая птица в силке. Мне кажется, моя бледная кожа покрывается мурашками, становится похожей на корку апельсина, а он спокойно слушает, в изгибе локтя нащупывая холодной воронкой шум, и в этот момент мне становится особенно омерзительно, будто от прикосновения неприятного человека («рука прокаженная») или в постели с нелюбимым мужчиной. Я дрожу, как мне кажется, всем телом, ладони покрываются влагой, липкой, неприятной, как будто от сладкого сиропа, и нижняя губа кривится. Мне становится себя жалко, но лицо доктора по-прежнему безучастно… Ехидно корчится стрелка на циферблате, дергается «немножко нервно», затем медленно уходит к нулю, в затекшей руке я чувствую облегчение, и он размыкает оковы, разъединяя липучку манжеты, из-под которой появляется мое оголенное плечо, а на нем (кожица у меня нежная, и синяки образуются легко) едва различимые пурпурные жилки кровянистой росы…
Доктор уходит, и я чувствую некоторое облегчение. В коридоре слишком много настороженных, напряженных, тяжеловесных взглядов, которые пугают меня еще более, чем мое собственное состояние. Иногда хочется плакать, но я сдерживаю себя, видимо, из-за какого-то врожденного стеснения – плакать при посторонних. Однако вечером приходит медсестра с очередной бутылью загадочного бесцветного и абсолютно прозрачного раствора, она ловко подключает капельницу, и вслед за небольшим жжением в локте приходит чувство нарастающей слабости; тревога внутри утихает, я бессмысленно таращусь в белый потрескавшийся потолок, вижу, как он расплывается надо мною, словно огромное полотно, которым меня накрывают полностью, как саваном, и ловлю себя на мысли, что медленные капельки влаги застыли меж век, а самые проворные из них уже скользят по моим щекам. Это та единственная, как мне кажется, слабость, которую я еще могу себе позволить…»
7
1 ноября
«Ноябрь – это хранитель наших тайн, надежд, разочарований. Ноябрь – молчаливый наблюдатель, равнодушный к нашим исповедям, беспощадный и суровый. Ноябрь – пронзительный крик осени, холодный, хмурый, настороженный зверь. И он как-то особенно страшен из окна больничной палаты… Вскрыла вены, не приняла яд, не открыла газ, не искала крюк[26 - Фраза из письма Марины Цветаевой: «Никто не видит, не знает, что я год уже (приблизительно) ищу глазами крюк… Я год примеряю смерть».] – не повесилась… Вскрыла вены. Глупо, гадко, самой мерзко и все еще стыдно.
Пишу в свой мобильный телефон. Его мне принесла моя знакомая Лика, она единственная, кто про все знает; навещает меня два-три раза в неделю и почти ни о чем не расспрашивает. Мне бы и не хотелось, чтобы она задавала некоторые вопросы, я их сама себе не задаю, потому что знаю, что ответов пока нет. Она принесла мне мобильник, некоторые необходимые вещи, что-то из продуктов, гематоген с витамином С и лесным орехом, а вот сигареты отказалась. Говорит, что, если я буду нарушать режим (курить здесь нельзя), меня еще долго не выпишут. Может быть, она и права. Мне сейчас сложно рассуждать здраво. Я не попросила ее, чтобы она принесла блокнот или тетрадь для записей, потому что если это кто-то прочтет из персонала, то, возможно, меня действительно признают сумасшедшей, и тогда мне отсюда не спастись, а я очень хочу домой, в смысле на свободу. А может быть, я это надумываю. Одно я точно могу сказать: еще месяц здесь, и я сгнию заживо.
От скуки я слишком много думаю, и мысли приходят разные. Что-то никак не получается подняться выше первой ступени той самой пирамиды, словно с издевкой над всем человечеством выдуманной Абрахамом Маслоу, нам преподавали в университете; даже уверенно взобраться на первую не получается. От таких рассуждений меня накрывает тоска, впрочем, я все время тоскую.
Целый день среди… хм, больных… Невыносимо! «Сумасшедшие, знаете ли, не хворают» – с улыбкой вспоминаю полюбившуюся строку из Альфреда де Виньи.
Моя соседка – Лера. Все время кашляющая светлокудрая девица с туманной пеленой, застлавшей изумрудного цвета глаза, будто она только что проснулась или сильно выпила, и с татуировкой на левом плече – бирюзовокрылая нимфалида с надписью: «Je me souviens del’amour[27 - Буквально «Я вспоминаю любовь» (фр.).]». Она постоянно незримо пребывает со мной. Эта близость действует на меня угнетающе. Находясь в палате, она не умолкает ни на секунду, зато, выходя в коридор на прогулку, пребывая в столовой или в общем зале перед телевизором, она всегда напряжена и задумчива и, по-моему, ни с кем кроме меня не общается. Она рассказывает мне странные истории из своей жизни, о своем детстве, которое она провела в Таллине, о своих друзьях, о том, почему она уже давно не понимает своих родителей, а они в свою очередь ее, и почему она бросила институт, и больше всего про то, что случилось с ней в последние два года. Эти ее рассказы отчего-то крепко врезаются в мою память и не дают спокойно спать ночью, она же вообще страдает бессонницей и, как мне кажется, никогда не спит. Наверное, оттого у меня все еще нездоровый вид, хотя гемоглобин растет, и показатели крови улучшаются, если верить словам лечащего врача. Я не высыпаюсь, и у меня красные белки глаз с утра и под вечер. Уснуть в этих стенах да еще с такой соседкой просто немыслимо. Попросить ее замолчать бесполезно, я пробовала.
– Я, в общем-то, и не с тобой разговариваю, я болтаю, просто, чтобы успокоиться, знаешь, мне очень одиноко, а голоса меня успокаивают. Если тебе неинтересно, можешь пойти в коридор, или попроси другую палату, – совсем не раздражаясь, с задумчивым равнодушием отвечает она. Но других палат нет, я спрашивала. А что касается коридора, там еще хуже. Лера хотя бы не лезет к тебе с идиотскими расспросами, и еще она практически никогда не улыбается, только когда произносит одно имя, а меня сейчас улыбки отчего-то ужасно раздражают, словно это что-то настолько мерзкое, что мне приходится с отвращением отводить взгляд.
Поэтому я понуро сижу на своей койке, неловко подогнув под себя ноги, и, обхватив колени руками, с тоской ссыльного поэта или приговоренного к смертной казни в глазах безропотно слушаю ее тошнотворные повествования. Вообще-то, мне ее очень жалко…
Ей двадцать два года и она амфетаминовая наркоманка, а еще она безумно влюблена в своего парня, которого зовут Андрей. Это его имя она называет улыбаясь и неизменно прикусывая нижнюю губу. Андрей на два года младше, и это он приучил ее к наркотикам. Они познакомились в каком-то петербургском ночном клубе почти два года назад и с тех пор вместе. И эти последние два года жизни, с ее слов, – это постоянные «эфедриновые вечеринки и метадоновые друзья».
Лера рассказала мне, что они мечтают вместе совершить самоубийство. Она говорит, что таким образом они якобы докажут друг другу свою любовь и «окончательно наплюют на всех» или что-то в этом роде. Бред.