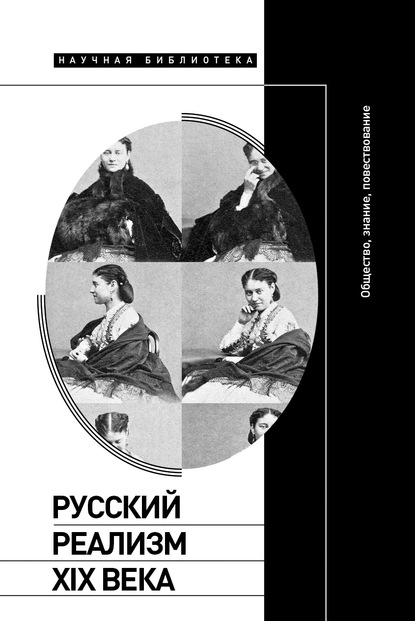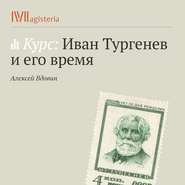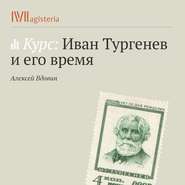По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Русский реализм XIX века. Общество, знание, повествование
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Русский реализм XIX века. Общество, знание, повествование
Маргарита Вайсман
Илья Клигер
Алексей Владимирович Вдовин
Кирилл Осповат
Научная дискуссия о русском реализме, скомпрометированная советским литературоведением, прервалась в постсоветскую эпоху. В результате модернизация научного языка и адаптация новых академических трендов не затронули историю русской литературы XIX века. Авторы сборника, составленного по следам трех международных конференций, пытаются ответить на вопросы: как можно изучать реализм сегодня? Чем русские жанровые модели отличались от западноевропейских? Как наука и политэкономия влияли на прозу русских классиков? Почему, при всей радикальности взглядов на «женский вопрос», роль женщин-писательниц в развитии русского реализма оставалась весьма ограниченной? Возобновляя дискуссию о русском реализме как важнейшей «моделирующей системе» определенного этапа модерности, авторы рассматривают его сквозь призму социального воображаемого, экономики, эпистемологии XIX века и теории мимесиса, тем самым предлагая читателю широкий диапазон современных научных подходов к проблеме.
Русский реализм XIX века. Общество, знание, повествование
Сборник статей
Введение. «Реализм» и русская литература XIX века
Маргарита Вайсман, Алексей Вдовин, Илья Клигер, Кирилл Осповат
Фантомный «реализм»
Идея сборника пришла его составителям едва ли не одновременно после одной из конференций о русском реализме. В конце сентября 2016 года Молли Брансон и Белла Григорян провели в Йельском университете представительный коллоквиум «The Russian Century: The Literary, Visual, and Performing Arts, 1801–1917», пригласив исследователей русского XIX века из США, Великобритании и России. В 2017 году эстафету переняла Высшая школа экономики, собравшая коллег из Германии, США, России, Канады и Великобритании на конференцию «Эффекты правдоподобия: режимы и концепции реализма в русской литературе». Наконец, в самом конце того же 2017 года в Университете Нью-Йорка некоторые участники двух предыдущих конференций встретились на воркшопе «What is Russian about Russian Realism?». После него стало окончательно ясно, что доклады всех трех смежных конференций могут составить сборник, представляющий широкий срез подходов к изучению русского реализма или даже «реализмов». Более того, благодаря череде других конференций и семинаров в России, Германии, Великобритании, США и Канаде сложилась международная сеть исследователей, объединенных сходными представлениями о том, как нужно изучать реализм сегодня.
Во-первых, они не чураются многозначного термина «реализм», но стремятся контекстуализировать его и активировать его эвристический потенциал, позволяющий не сводить историю литературы середины и конца XIX столетия к набору авторов и индивидуальных идиостилей (idioms), но различать за ними транснациональную эстетическую и идеологическую парадигму. Такой подход подразумевает, во-вторых, необходимость сравнительной оптики. История и поэтика русского реализма должны изучаться в соотнесении с иными литературами не просто потому, что таким образом высвечиваются локальные блики, тени и полутона; транснациональная перспектива продуктивна, в-третьих, для социологического подхода к феномену реализма. Речь идет, точнее, о социологической поэтике реализма, обращающейся к «социальному воображаемому» (к этому понятию мы еще вернемся) различных жанров и национальных традиций. На этих основаниях можно объяснить, например, почему один и тот же жанр романа принимает разные формы в разных уголках Европы или Америк[1 - Недавний обзор ответов на этот вопрос см. в кн.: Моретти Ф. Дальнее чтение. М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2016. С. 222–247.]. Социологизм продуктивен и тем, что возвращает реализму те контексты, в которые он был помещен самими его создателями и практиками, – в контекст экономики (политическая экономия, утопический социализм, марксизм и т. д.), естественных и общественных наук (позитивизм, социология, физиология, психология, биология и т. д.) и политического воображаемого (социализм, либерализм, теории демократии и суверенитета и т. д.). В-четвертых, такая сознательная открытость самого реализма иным рациональным формам познания действительности и симбиоз с ними делают особенно острой и насущной задачу разработать метаязык, который не воспроизводил бы идеи В. Г. Белинского, А. И. Герцена, П. В. Анненкова, К. Маркса, Г. Курбе, Шанфлери, Н. А. Добролюбова, А. М. Скабичевского, В. В. Стасова, П. Д. Боборыкина, Г. В. Плеханова, Г. А. Гуковского и многих других, но позволял бы выявлять и объяснять те идеологические корреляции и констелляции, соотнесения и наложения символических структур и литературных жанров и форм, которые были порождены и валоризированы реализмом.
Мы ожидаем возражений: зачем воскрешать сегодня скомпрометированный термин? Стоит ли пытаться отслоить от схоластических советских наслоений якобы сохранное понятийное ядро? Этот вопрос осложняется и исходной многозначностью понятия «реализм». Еще в 1921 году Р. О. Якобсон на нескольких примерах показал, что оно обладает применительно к литературе как минимум пятью ходовыми и часто смешиваемыми значениями: А – авторская интенция создать правдоподобный текст; B – эффект восприятия какого-либо текста как правдоподобного; C – «сумма характерных признаков определенного художественного направления XIX столетия»; D – насыщение текста фабульно немотивированными деталями, создающими эффект реальности; E – «требование последовательной мотивировки, реализации поэтических приемов»[2 - Якобсон Р. О. О художественном реализме // Якобсон Р. О. Работы по поэтике. М.: Прогресс, 1987. С. 387–393. Опубликованная по-чешски статья лишь в 1987 году была переведена на русский.]. Спустя почти сто лет после Якобсона исследователям реализма в разных национальных традициях очевидно, что реализм в значении C, то есть доминирующий литературный стиль середины XIX века, включал в себя значения A, D и отчасти B и E (в зависимости от рецептивной готовности потребителя признать текст правдоподобным). Несмотря на эту концептуальную сложность или, наоборот, благодаря ей, работа с понятием «реализм», как представляется авторам и составителям этого сборника, обещает быть плодотворной.
Категорически отказываясь от «реализма», мы теряем больше, чем приобретаем. Начнем с того, что с нашего горизонта исчезает сам исторически циркулировавший с 1830?х годов термин, за которым стоял в сознании современников осязаемый, хоть и сложный, феномен. Хорошо известно, например, что французские критики начали оперировать понятием «реализм» применительно к историческим романам задолго до манифестов Гюстава Курбе и Шанфлери, еще в 1830?е годы[3 - Гюстав Планш называл реализмом способность исторических романов передавать обстановку ушедших эпох, а в русской критике говорилось (в отрицательном смысле) о господстве «реализма во французской поэзии» (Драма Гюго «Лукреция Борджиа» (окончание) // Телескоп. 1833. Ч. 13. С. 558).]. В русском контексте моментом подлинного рождения этого литературного понятия и одновременно точкой принципиального расхождения его значений считается 1849 год, когда П. В. Анненков в статье «Заметки о русской литературе 1848 года», опираясь на работы Герцена, разграничил два реализма – «правильный» (Тургенева и Гончарова) и «псевдо» (Ф. М. Достоевского и его последователей). Неудивительно, что уже в 1855 году словарь иностранных слов фиксировал определение «реализма» как «изображения явлений так, как они есть, без прикрас». В последующие годы, когда в «толстых журналах» и вне их стирались границы между литературной критикой, философией и публицистикой, бытовало сразу несколько конкурирующих концепций реализма – от манифеста Чернышевского до «реализма в высшем смысле» Достоевского[4 - Полноценная история понятия «реализм» в России до сих пор не написана, хотя и существуют отдельные работы литературоведов, искусствоведов и музыковедов (ср. Сорокин Ю. С. К истории термина «реализм» в русской критике // Известия АН СССР. Серия ОЛЯ. 1957. Т. XVI. Вып. 3. С. 193–213). Намного богаче немецкоязычная историография этого понятия (Klein W. Realismus/Realistisch // ?sthetische Grundbegriffe. Historisches W?rterbuch in sieben B?nden / Hg. K. Barck, M. Fontius, F. Wolfzettel, B. Steinwachs. Stuttgart; Weimar: J. B. Metzler Verlag, 2003. Bd. 5. S. 149–196). Из числа англоязычных работ нужно упомянуть некоторые статьи 6?го тома «Cambridge History of Literary Criticism» (2013), посвященные эстетике реализма.].
При всем многообразии концепций реализма в середине XIX века представляется непродуктивным, однако же, подменять это родовое понятие видовыми («натуральная школа», натурализм, «обличительная литература», этнографическая проза и т. п.): в этом случае мы упускаем из виду комплекс важнейших проблем, объединяющих все эти литературно-культурные феномены середины XIX столетия. Не замечая «реализма» (при том, что мы продолжаем говорить о сентиментализме, романтизме, символизме, акмеизме и прочих «измах»), мы отказываемся от возможности всерьез обратиться к стоящим за этим понятием теоретическим вопросам о репрезентации, о нарративной специфике миметического письма и о социальном воображаемом. Эти и другие вопросы обозначают контуры той особой, отличной от романтизма и символизма, системы производства образов реальности и знания о ней, которую имеет смысл именовать реализмом.
Современная научная дискуссия о русском реализме необходима и возможна без воскрешения очевидно устаревших терминов и способов анализа текста. Такая дискуссия кажется сегодня особенно актуальной, поскольку, сбросив сам термин «реализм» со своего корабля, российское литературоведение столкнулось с неожиданной проблемой. Зарубежная наука, в которой исследования реализма не были идеологически скомпрометированы, продолжала производить новые модели интерпретации русских текстов середины XIX века и описывать их средствами обновляющегося научного языка. В русскоязычном пространстве тем временем сложился устойчивый дискурсивный дефицит понятий, необходимых для дискуссий о реализме: компенсируя догматическое давление советской эпохи, отечественная наука отказала в важности соответствующим вопросам. Возможности для синхронной работы над новыми способами решения старых проблем оказались сильно ограничены.
Задача исследований реализма как особого режима репрезентации состоит, разумеется, не в том, чтобы выяснить, принадлежит к нему тот или иной текст/автор или нет (чем, как известно, грешило официальное советское литературоведение). Этот широкий термин продуктивен как отправной пункт, концептуальная рамка, позволяющая разметить комбинацию и соотношение смежных дискурсивных полей. Более того, контрпродуктивно понимать литературный реализм как явление, сущностно обособленное от смежных с ним дискурсов (естественно-научного, гегельянского, марксистского, позитивистского и др.). Скорее, под реализмом нужно понимать сложную дискурсивную констелляцию, эксплуатирующую, подрывающую, абсорбирующую и трансформирующую соседние с ней. Каждая статья нашего сборника демонстрирует идеологические связки и символические структуры, которые реализм образует в симбиозе с ключевыми дискурсами эпохи – политическим, экономическим, естественно-научным, метахудожественным и др.
Исследования реализма в позднем СССР (1970–1980?е)
Кризис в изучении реализма в российском постсоветском литературоведении выразился, среди прочего, в отказе от самого термина, в частичном изоляционизме российской науки (в частности, нарратологии) и в страхе перед социологическими подходами к анализу текстов. Характерна в этом смысле обзорная статья В. М. Марковича 1993 года[5 - Маркович В. М. Вопрос о литературных направлениях и построении истории русской литературы XIX в. // Известия РАН. Сер. лит. и яз. М., 1993. Т. 52. № 3; перепечатана: Маркович В. М. Вопрос о литературных направлениях и построении истории русской литературы XIX века // Освобождение от догм: История русской литературы: состояние и пути изучения: В 2 т. Т. 1. М.: Наследие, 1997. С. 241–249. Цитируется по второму изданию.], предупреждающая, что отказ от одного методологического стереотипа (о примате критического реализма) может привести к противоположной догме (очевидно, к отказу от понятия реализма вообще). Чтобы хоть как-то противостоять прогнозируемому забвению реализма, Маркович отнес это понятие к той категории текстов, которую Белинский в предисловии к «Физиологии Петербурга» назвал беллетристикой. Исследователь предположил, что две традиционно считающиеся ключевыми черты реалистического стиля письма – складывающиеся в монистическую систему социально-исторический детерминизм и психологизм – полнее всего проявляются лишь в текстах «второго ряда», а в классических текстах «первого ряда» (Толстого, Достоевского, Тургенева, Лескова и других романистов) исследователям и читателям очевиден выход за пределы монистического рационализма, так что об их творчестве можно говорить как о гибридном – сочетающем элементы романтизма, реализма, натурализма и будущего символизма[6 - Маркович В. М. Указ. соч. С. 243–244.]. Маркович считал, что каждое из литературных направлений XIX столетия одновременно разворачивается как минимум на трех уровнях: на высшем, где шедевры разных направлений подчас неразличимы по стилю; на среднем, где лучше всего проявляется качественное отличие одного стиля от другого; и на низовом (лубочная и низовая, жанровая литературы), где снова царит неразличимость.
Когда Маркович вывел из зоны «чистого» реализма вершинные романы XIX века, он как будто бы дискредитировал предшествующие советские исследования реализма Толстого, Тургенева, Достоевского, Гончарова. Между тем лучшие из них – работы Г. М. Фридлендера, Л. Я. Гинзбург и И. П. Смирнова – демонстрируют значимые схождения с западными исследованиями реализма 1960–1990?х годов в понимании наиболее принципиальных проблем реализма: репрезентации, психологизма, детерминированности.
Одну из первых в СССР серьезных попыток разработать созвучную мировой науке теорию реализма предпринял Г. М. Фридлендер в книге «Поэтика русского реализма», проецировавшей на русскую литературу ключевые идеи Э. Ауэрбаха о демократизации репрезентации и о все большем вторжении в нее «низкой» действительности[7 - Фридлендер Г. М. Поэтика русского реализма. Л.: Наука, 1971. С. 29–30.]. Отказавшись от сугубо структуралистского подхода к проблеме, ученый рассматривал реализм как возникшую на рубеже XVIII–XIX веков демократическую идеологию, которая лишь к 1830–1840?м годам обрела устойчивые жанровые, стилистические и нарративные формы. Они подчинялись принципам историзма и психологизма (индивидуализации характера), выразившимся на идеологическом уровне в новой модели личности, а на повествовательном – в доминировании внутренних монологов и несобственно-прямой речи[8 - Там же. С. 88, 108–110.]. Сложность в изучении реализма в такой перспективе заключалась в том, что эти принципы, взятые сами по себе, были характерны и для исторического и сентиментального идеологического романа 1810–1830?х годов (в первую очередь английского и французского). Чтобы описать неочевидные, но определяющие свойства реализма, необходима была более чувствительная и вместе с тем междисциплинарная оптика.
Значительным шагом в этом направлении стала серия книг Л. Я. Гинзбург: «„Былое и думы“ Герцена» (1957), «О психологической прозе» (1971), «О литературном герое» (1979), «Литература в поисках реальности» (1987). Прошедшая формальную школу 1920?х годов, а позже – блокаду Ленинграда, скорее всего принадлежавшая к квир-дискурсу[9 - См. об этом: Van Buskirk E. S. Lydia Ginzburg’s Prose: Reality in Search of Literature. Princeton; Oxford: Princeton University Press, 2016. P. 109–160; рус. перевод: Ван Баскирк Э. Проза Лидии Гинзбург. М.: Новое литературное обозрение, 2020.] Л. Я. Гинзбург разработала междисциплинарный подход к реализму и собственный язык его описания. Наряду с ее собственным писательским опытом он вобрал в себя функционализм ОПОЯЗа, социологизм, идеи американской функциональной психологии (в первую очередь Дж. Г. Мида) и широкий сравнительный кругозор, в средоточии которого находилась традиция французской психологической прозы от Сен-Симона до «нового романа»[10 - О соотношении всех этих компонентов в творчестве Гинзбург см.: Зорин А. Л. Проза Л. Я. Гинзбург и гуманитарная мысль XX века // Новое литературное обозрение. 2006. № 76.]. Такое достаточно редкое для позднесоветской науки сочетание объясняет, почему книги Гинзбург были переведены на европейские языки и легко приживались в западной методологической среде, став ориентиром для западных исследователей[11 - Книга «О психологической прозе» была переведена на чешский, венгерский и английский. Из написанных на Западе работ, так или иначе вдохновленных подходом Гинзбург, укажем на английскую монографию И. Паперно «Семиотика поведения: Николай Чернышевский – человек эпохи реализма» (1988, рус. пер. – 1996).]. Из позднесоветских теорий реализма эта, вероятно, оказалась единственной, воспринятой за пределами стран социалистического лагеря. Подход Гинзбург к психологической прозе и границам литературности отличался гибкостью, инклюзивностью и антидогматизмом. Уже введение к книге «О психологической прозе» предлагает отчетливо антиинтерналистский подход к изучению реализма, который оказывается для Гинзбург коррелятом позитивизма, идеологии естественных наук и историографии. Реализм, таким образом, мыслится как локализованное в XIX веке состояние литературной системы, выработавшей особое соотношение между художественной прозой, документалистикой (в первую очередь эго-документами) и наукой. Определение реализма у Гинзбург изоморфно ее исследовательской установке: реализм – это «поэтика не опосредованного готовыми эстетическими формами отношения к действительности»[12 - Гинзбург Л. Я. О литературном герое. Л.: Сов. писатель, 1979. С. 63. Постструктуралистская нарратология 1980–1990?х годов (Р. Барт, Ж. Женетт, М. Риффатер) показала, что такое прямое, в обход эстетических форм, отношение реализма к действительности является сложно устроенной миметической иллюзией. Ср. известную статью Р. Барта «Эффект реальности» или книгу М. Риффатера «Fictional Truth» (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1990).]. В основе идеологии реалистического типа письма, по Гинзбург, лежат два базовых принципа – неизбирательность репрезентации (монистический охват, «тотальность» – слово, явно навеянное Лукачем; см. с. 23 нашего введения) и «реалистическая сублимация» (превращение любых явлений реальности в социально-моральные и эстетические нормы)[13 - Гинзбург Л. Я. О литературном герое. С. 68.]. Оба принципа приводят авторов реалистических текстов к социальному, историческому и биологическому детерминизму, предопределяющему антропологический взгляд на человека[14 - Гинзбург Л. Я. Литература в поисках реальности // Она же. Литература в поисках реальности: Статьи, эссе, заметки. Л.: Сов. писатель, 1987. С. 8.].
Антидогматизм подхода Гинзбург хорошо отвечает объекту ее изучения – психологической прозе авторов вроде Толстого и Пруста, у которых характеры оказываются текучими и многослойными, а их нарративная репрезентация базируется на принципиальном несовпадении мотивировки, внутренней и внешней речи и поступков[15 - Она же. О психологической прозе. Л.: Сов. писатель, 1971. С. 321–322, 427 и др.], при этом объектом изображения становятся как раз причинно-следственные связи между этими феноменами[16 - Там же. С. 295.]. Немного преувеличивая, можно сказать, что для Гинзбург реализм был синонимичен понятию «психологическая проза». Отсюда – широкий хронологический охват ее книг: от мемуаров Сен-Симона и романа Руссо до эпопеи Пруста, а в работах конца 1980?х – вплоть до французского «нового романа» 1950–1960?х, представители которого объявили себя «новыми реалистами»[17 - Гинзбург Л. Я. О литературном герое. С. 82; Литература в поисках реальности. С. 37–45.].
В итоговой статье «Литература в поисках реальности» (1985), посвященной реализму, Гинзбург, ссылаясь на появившиеся к тому времени работы по истории понятия «реализм» и на «Слова и вещи» М. Фуко, разграничила три объекта изучения: реальность, реальное и реализм. В отличие от осмысляемой со времен Аристотеля категории реального (то есть правдоподобного, «иллюзии реальности»), реализм «порожден социальными и культурными условиями XIX века»[18 - Она же. Литература в поисках реальности. С. 7.]. Именно в эту эпоху произошел окончательный «отказ от обязательной связи чувственно-конкретного с низким, комическим, гротескным, от жанрово-стилистической иерархии и эстетически препарированного, „избранного“ слова»[19 - Там же. С. 8.]. Это позволило реализму изображать «немотивированные», «случайные» предметы и детали, отточить техники представления психических процессов человека, но вместе с тем и выработать «свои механизмы условности», главным из которых Гинзбург считала «рационалистическую трактовку действительности»[20 - Там же. С. 30–31.].
Психологическая аналитика, таким образом, оказывается определяющим признаком реализма. В центре понятия «реализм» у Гинзбург стоит текстуальная техника моделирования человеческой личности – как ее внутреннего психологического континуума, так и социальных проекций и ролей[21 - Она же. О психологической прозе. С. 5–6.]. Последние составляют «символические образы поведения»[22 - Она же. О литературном герое. С. 46.], которые искусство, и литература в частности, поставляет в социум.
Помещенная в контекст синхронных ей западных исследований реализма, концепция Гинзбург оказывается неожиданно созвучна новаторским работам Доррит Кон, в первую очередь – ее известной книге «Прозрачное мышление»[23 - Сohn D. Transparent Minds: Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction. Princeton: Princeton University Press, 1978.]. Написанная одновременно с книгами Гинзбург, работа Кон породила целое направление в нарратологии, с тех пор не оставляющей вопроса о том, какими именно нарративными, стилистическими и дискурсивными приемами создается иллюзия прозрачности сознания персонажей в прозе и является ли эта прозрачность тотальной[24 - Некоторые современные когнитивные нарратологи считают, что не тотально. См.: Herman D. Introduction // The Emergence of Mind: Representations of Consciousness in Narrative Discourse in English / Ed. by D. Herman. Lincoln; London: University of Nebraska Press, 2011. P. 10–17.].
Более того, эта иллюзия доступности мыслительного и эмоционального сознания персонажей многими нарратологами признана фундаментальным свойством прозаического диегезиса и жанра романа[25 - На русском языке обзор постулирующих этот тезис теорий К. Хамбургер и Д. Кон см. в: Рикер П. Время и рассказ. СПб.; М.: Университетская книга, 2000. Т. 2. С. 69–84.]. Австрийско-немецкий нарратолог Моника Флудерник пошла еще дальше и предложила считать детальную репрезентацию сознания в литературе XVIII–XXI веков именно тем конвенциональным свойством, которым создается эстетический эффект от текста и к которому привыкли с конца XVIII века читатели, потребляющие все больше романов[26 - «…effect produced also by the mimetically motivated evocation of human consciousness and of its (sometimes) chaotic experience of being in the world» (Fludernik M. Towards the Natural Narratology. London; New York: Routledge, 1996. P. 22).]. Это новое понимание нарративности опирается не на традиционную акциональность (actionality), а на переживаемость, имеющую антропоморфную природу («experientiality of an anthropomorphic nature»). Герои произведений в такой перспективе рассматриваются как «прототипически человеческие субъекты», «которые могут совершать физические движения, речевые и мыслительные акты, и все эти действия непременно оказываются связанными с их сознанием, ментальным центром самосознания, интеллекта, восприятия, эмоциональности» («prototypically human existents», «who can perform acts of physical movements, speech acts and thought acts, and their acting necessarily revolves around their consciousness, their mental centre of self-awareness, intellection, perception, and emotionality»)[27 - Fludernik M. Towards the Natural Narratology. P. 19.]. Как показала Флудерник, исторически и эволюционно такая форма «переживаемости» не существовала с самого начала мировой литературы, но развивалась лишь постепенно в некоторых жанрах – преимущественно в эпической поэзии, драме и романе. В XVIII–XIX веках именно подъем жанра романа и сформировал устойчивое представление о том, что такой режим переживаемости является наиболее естественным, и обеспечил валоризацию этого типа нарратива. Таким образом, «реализм и переживаемость очень во многом пересекаются»[28 - Ibid. P. 21.].
Построения Гинзбург и Флудерник могут быть сопоставлены и с другой влиятельной современной теорией, которая хотя и не напрямую связана с проблематикой реализма, но тем не менее косвенно оказывается в центре дебатов о кризисе классической репрезентации в XIX веке. Речь идет о теории Жака Рансьера, помещающего реализм внутрь большой парадигмы – экспрессивного, или эстетического, режима в истории искусства, сложившегося на рубеже XVIII–XIX веков и радикально перераспределившего «чувственное» (sensible) за счет распада строго иерархической жанровой системы предшествующих столетий. Этот распад был вызван постепенным разрушением жесткой корреляции между объектом репрезентации и ее языком, в результате чего в расширяющуюся воронку репрезентации начали попадать предельно низменные и тривиальные фрагменты действительности, лишившиеся привязки к конкретному жанру. По Рансьеру, такой ошеломляюще демократизирующий эффект реализма зиждется на романтической идее прозревания скрытой сущности вещей[29 - Ranci?re J. Mute Speech. Literature, Critical Theory, and Politics / Transl. by J. Swenson. New York: Columbia University Press, 2011. P. 107. Демократизации чувственного на примере романа Флобера «Госпожа Бовари» посвящена специальная работа Рансьера: Ranci?re J. Why Emma Bovary Had to be Killed // Critical Inquiry. 2008. Vol. 34. № 2. Winter. P. 233–248.]. Этот вывод хорошо сочетается с концепцией «прозрачного сознания» – приема, стремящегося к всеохватывающему отображению того, что представлено быть не может, – процесса человеческого мышления. При этом идея Рансьера о расподоблении объекта и языка его описания не только совпадает с упомянутым выше тезисом Гинзбург, но и оказывается не столь оригинальной, поскольку в контексте изучения реализма не раз высказывалась на материале разных литератур, хотя, разумеется, без таких далеко идущих выводов[30 - Она возникает у Тынянова, Лотмана и Гинзбург. Из недавних работ см., например: Пильщиков И., Шапир М. Эволюция стилей в русской поэзии от Ломоносова до Пушкина (набросок концепции) // Стих, язык, поэзия: Памяти Михаила Леоновича Гаспарова. М.: Изд-во РГГУ, 2006. С. 510–546.].
Среди позднесоветских теорий реализма заслуживает особого упоминания большая статья И. П. Смирнова «Реализм: диахронический подход», опубликованная в 1980 году в журнале «Russian Literature» и переработанная в главу монографии в 2000 году[31 - Смирнов И. П. Мегаистория. К исторической типологии культуры. М.: Аграф, 2000. С. 21–77.]. Написанная в семиотическом ключе (в духе Ю. М. Лотмана), работа Смирнова не просто предлагает рассматривать реализм в корреляции с романтизмом и символизмом, но разворачивает универсальную культурную типологию стилевых ансамблей, именуемых «первичными» и «вторичными» художественными системами или стилями[32 - Универсализм Смирнова достигает своего апогея в распространенном в 1970?е годы утверждении, что «деление на первичные и вторичные стили имеет психофизиологическое основание – функциональную асимметрию головного мозга» (с. 49).]. Эта неудачная терминология (включающая оценочность и заимствованная у Д. С. Лихачева) семиотически классифицирует все художественные стили на основании того, в каких отношениях в них находятся знак и референт. Первичные стили (романеск, ренессанс, классицизм, реализм и постсимволизм) понимают «мир смыслов как продолжение фактической реальности», придавая знаку статус референта, в то время как «вторичные стили» (готика, барокко, романтизм, символизм) наделяют реальность статусом текста, считают ее семантическим универсумом, в котором четко разграничены план выражения и содержания[33 - Смирнов И. П. Мегаистория. С. 22.]. «„Первичные“ художественные системы (и среди них – реализм) подавляют форму содержания субстанцией содержания, „вторичные“ же подчиняют субстанцию форме. ‹…› Именно гипертрофированное внимание реализма к субстанции содержания создало научную традицию, которая отвергает возможность системного подхода к реалистической ментальности»[34 - Там же. С. 43.].
Не замыкаясь в сугубо семиотической интерпретации реализма, Смирнов исследует природу манифестации знания и познавательного процесса у писателей-реалистов. Явно перекликаясь с идеей Гинзбург о фокусировке реализма на выявлении скрытых причинно-следственных связей между феноменами реальности, Смирнов предложил более нюансированное описание реализма как «системы транзитивных отношений»: «Реализм был поглощен поиском опосредующих звеньев между различающимися элементами мирового целого, производил замещение одного элемента (x) другим (z) на том основании, что оба они обнаруживали связь с некоторой третьей единицей (y), т. е. выступали как аналогичные величины. Другими словами, базисный троп реалистического мышления был (латентно) метафорой»[35 - Там же. С. 50–51. Этот тезис полемичен к известной идее Якобсона о том, что базовым реалистическим тропом является метонимия (Якобсон Р. О. Два аспекта языка и два типа афатических нарушений // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. С. 110–132).]. Следовательно, «главный познавательный инструмент реализма есть аналогия»[36 - Смирнов И. П. Указ. соч. С. 63.].
Хотя статья Смирнова богата оригинальными наблюдениями, ракурсами и параллелями, далеко не все из них сегодня выдерживают критику. Главная проблема семиотического подхода к реализму заключается в том, что постулирование универсальных законов и свойств реализма (своего рода контрастная поэтика) не объясняет, как и почему они возникли именно в XIX веке и отчего они таковы. Красивая, на первый взгляд, теория чередования первичных и вторичных стилей отдает упрощающей цикличностью и не оставляет места для рассмотрения социокультурного и экономического контекста литературы.
Выход из методологического тупика зачастую можно найти, обратив внимание на решения сходных научных проблем в смежных областях знания или на ином материале. В разговоре о методологических проблемах современного изучения русского реализма XIX века кажется важным обратить внимание на целый комплекс подходов к реализму, разработанный англистикой на материале Викторианской эпохи. После постструктуралистского открытия иллюзионистской природы реализма как трансисторического типа репрезентации[37 - Такой подход был, кстати, свойствен и Ю. М. Лотману, начиная с его спецкурса по «Евгению Онегину».] исследования 1980–1990?х годов сконцентрировались на эпистемологии реализма как реально существовавшего направления в европейском и американском искусстве XIX века – конечно же, ни на минуту не забывая о конструктивистских посылках. Чрезвычайно продуктивным оказался взгляд на реализм как на исторически конкретный тип репрезентации, сосредоточившийся на проблеме познания реальности и обращающийся в этих целях к смежным формам и институтам: к естественным наукам, экономике, (био)политике, институтам государственной власти (например, полиции), возникающему искусству фотографии[38 - См.: Realism and Representation: Essays on the Problem of Realism in Relation to Science, Literature and Culture. Madison: Wisconsin University Press, 1993; Pond K. A. What Do We Know? Reconsideration of Victorian Realism and Epistemological Doubt // Literature Compass. 2015. Vol. 12. № 9. P. 471–481.]. Фукольдианский и в широком смысле социологический поворот в гуманитарных науках 1970–1980?х годов открыл наиболее интересные возможности для разработок такого рода.
Перед исследователями русского реализма встает серьезная задача рассмотреть под таким углом зрения русский реализм XIX века, фокусируясь теперь не на схоластическом вопросе о том, вписывается ли тот или иной автор или текст в реалистическую парадигму, и даже не на том, какие направления (романтизм, натурализм, символизм или иной -изм) скрещиваются в реализме, – а на том, как и при каких формальных и эпистемологических условиях производится реалистический текст, претендующий, как правило, на беспрецедентно точное отображение и познание реальности, и как он встроен, с одной стороны, в дискурсивную сеть своей эпохи, а с другой – в бурно развивающийся процесс капиталистического производства текстов.
В 1990–2000?е годы на русском языке время от времени выходили работы, написанные в таком русле. Укажем здесь лишь на две книги, представляющие собой, как кажется, наиболее продуктивные попытки возобновить серьезное изучение реализма на русском материале. Книга М. С. Макеева «Спор о человеке в русской литературе 60–70?х годов XIX века: Литературный персонаж как познавательная модель человека» (М., 1999), хотя и не касается напрямую реалистической репрезентации, ставит проблему повествовательного моделирования человеческой личности в рамках различных радикальных идеологий 1860–1870?х годов. Опираясь на теории Л. Я. Гинзбург, Л. Гольдмана и К. Мангейма, Макеев показывает, каким именно образом социальные науки о человеке того времени (политическая экономия, физиология, биология, социология Г. Спенсера и др.) и идеологические доктрины (народничество, марксизм) диктовали способы моделирования человеческого поведения, сознания и (не)включенности в историю в текстах Н. Помяловского, В. Слепцова, Ф. Решетникова, Л. Толстого, Б. Маркевича, Н. Чаева, М. Салтыкова-Щедрина, П. Боборыкина и др. Работа Макеева, позволяющая радикально обновить устоявшиеся представления о так называемых «революционных демократах», «революционном движении» и народниках, остается одним из важнейших свидетельств эпохи антидогматизма и методологической свободы 1990?х в российском литературоведении.
Другая яркая попытка пересмотреть традиционную картину русского реализма принадлежит Е. К. Созиной. Комбинируя в книге «Эволюция русского реализма XIX века: семиотика и поэтика» классический семиотический подход с постструктуралистскими теориями Ю. Кристевой и М. Фуко, исследовательница предлагает рассматривать реализм 1840–1880?х годов как особую «дискурсивную формацию» со специфической антропологической, этической и эпистемологической моделью человека и исторического процесса, построенной на детерминизме: «Кроме установки на „жизнеподобие“, в систему реалистических конвенции? неизбежно вводится принцип детерминизма; мы стремились наполнить его конкретно-текстовым смыслом – показать реализацию этого принципа в структуре повествования». Как резюмирует Созина, уже в романах Достоевского и Толстого жесткая логика социально-психологического детерминизма осложняется «двойной причинностью», а затем и вовсе растворяется «в вероятности любых объяснительных версий поведения чеховского человека»[39 - Созина Е. К. Эволюция русского реализма XIX века: семиотика и поэтика: Учеб. пособие. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2006. С. 113.]. В этом тезисе легко усмотреть перекличку с идеей В. М. Марковича о том, что вершинные тексты реализма выходят за пределы его поэтики и тем самым проблематизируют ее, – так что реализм оказывается в высшей степени рефлексивным стилем, постоянно переосмысляющим границы и возможности репрезентации.
Стремясь компенсировать дефицит исследовательских подходов к изучению реализма в российской науке, мы остановимся далее на важнейших и наиболее востребованных сегодня проблемных полях в изучении реалистической репрезентации – вопросах социального воображаемого, экономики, естественно-научной эпистемологии и метафикциональности.
Социальное воображаемое реализма
Проблемы репрезентации общественных отношений и производства моделей социальности в литературе реализма получили исходное и, пожалуй, наиболее многостороннее освещение в рамках богатой и философски изощренной традиции западного марксизма. Одной из ключевых фигур в этом ряду стал британский философ-культуролог Рэймонд Уильямс. Его книга «Английский роман от Диккенса до Лоуренса» («The English Novel From Dickens To Lawrence», 1970) открывается впечатляющим списком романов, вышедших в Англии на протяжении двадцати месяцев в 1847–1848 годах: «Домби и сын» Диккенса, «Грозовой перевал» Эмили Бронте, «Ярмарка тщеславия» Теккерея, «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, «Мэри Бартон» Элизабет Гаскелл, «Танкред» Бенджамина Дизраели, «Незнакомка из Уайлдфелл-Холла» Энн Бронте и др. Задаваясь вопросом об определяющих чертах этого поколения писателей, которое мы привыкли связывать со становлением английского реализма, исследователь считает главной из них интерес к проблемам сообщества.
На протяжении почти ста лет, от Диккенса до Лоуренса, эта тема играет определяющую роль. Как устроено сообщество, каким оно было в прошлом, как оно соотносится с индивидами и их взаимоотношениями ‹…› Ибо в этот период вопрос о том, как должна осуществляться жизнь в сообществе, встает перед обществом острее и тревожней, чем когда-либо в истории[40 - Williams R. The English Novel from Dickens to Lawrence. New York: Oxford University Press, 1970. P. 12.].
Говоря о французской литературе этой же эпохи, Эрих Ауэрбах приходит к выводу, что там «политические и социальные предпосылки реалистически точно вплетаются в действие, как ни в одном романе, ни в одном литературном произведении прошлого»[41 - Ауэрбах Э. Мимесис: Изображение действительности в западноевропейской литературе. М.: Прогресс, 1976. С. 453.]. Как показывает в настоящем издании Вадим Школьников, русский реализм складывался в 1840?е годы вокруг понятий «социальность» и «действительность», восходящих к французским и немецким образцам и описывающих модели взаимодействия между индивидами и сообществами.
Влиятельнейшая интерпретация реализма XIX века как течения, занятого описанием и исследованием современного социального мира, была предложена Д. Лукачем. Уже в «Теории романа» (1916), пронизанной терминологией немецкого идеализма, Лукач определяет роман как «эпопею эпохи, у которой больше нет непосредственного ощущения экстенсивной тотальности жизни, для которой жизненная имманентность смысла стала проблемой, но которая все-таки тяготеет к тотальности»[42 - Лукач Г. Теория романа (Опыт историко-философского исследования форм большой эпики) // Новое литературное обозрение. 1994. № 9. С. 32.]. Уже в этом тексте Лукача «тотальность» практически синонимична с общественной жизнью; позднее он опишет их тождество в марксистских категориях. В памятном разборе «Утраченных иллюзий» Бальзака Лукач предлагает читать этот роман как систематический анализ неотвратимого «превращения духа [т. е. сознательной человеческой деятельности] в товар» в буржуазном обществе и его последствий для общественных институтов, взаимоотношений между людьми и отдельной личности[43 - Лукач Г. «Утраченные иллюзии» // Лукач Г. К истории реализма. М.: Гослитиздат, 1936. С. 215.]. Согласно Лукачу, Бальзак создает широкую картину современного общества как сети тончайших взаимосвязей, подчиняющихся общей логике и проявляющихся в перспективе субъекта в отчуждении (от общественных процессов, конкретных лиц, собственных творческих возможностей). «Действительность», таким образом, предстает социально и исторически обусловленной системой общественных отношений. Ее закономерности являются индивиду во враждебном обличии, разрушающем надежды, желания и идеалы. В судьбе отчужденной личности манифестируется властвующий над ней общественный (бес)порядок. Такой взгляд – представленный не в последнюю очередь в советском сборнике Лукача «К истории реализма» (1936), куда вошла и работа о Бальзаке, – стоял за заезженным термином «критический реализм» в советской науке о литературе XIX века, а также за понятием «трагического реализма» у западных исследователей, более или менее прямо связанных с наследием «марксистского гуманизма»[44 - См. Orr J. Tragic Realism and Modern Society: Studies in the Sociology of the Modern Novel. Pittsburgh: Pittsburgh University Press, 1977.].
Такой подход позволяет осмыслить исторические импликации реализма, однако чаще всего оставляет в стороне тот факт, что само понятие общества в его абстрактном и всеобъемлющем значении только складывалось в обсуждаемую эпоху. В этом процессе реалистические тексты играли узловую роль. Бальзак объявлял, что его «Человеческая комедия» должна соперничать с институтами государственного учета гражданского состояния (l’Еtat-Civil), учрежденными Французской революцией – важнейшим биополитическим инструментом конструирования общества в его специфически-модерном понимании. В исследовании Мэри Пуви «Конструирование общественного тела: становление британской культуры в середине XIX в.» («Making a Social Body: British Cultural Formation, 1830–1864», 1995) описана роль английского романа среди конкурирующих модусов осознания и воображения постепенно возникающей общественной цельности. Бенедикт Андерсон в классической работе «Воображаемые сообщества» видит в романе Нового времени узловую символическую форму складывающейся нации как огромного единого «социологического организма, движущегося по расписанию сквозь гомогенное, пустое время»[45 - Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма / Пер. В. Г. Николаева. М.: Канон-Пресс-Ц, 2001. C. 47.].
Фредерик Джеймисон в книге «Политическое бессознательное: повествование как социально-символический акт» («The Political Unconscious: Narrative As A Socially Symbolic Act», 1981) возобновляет намеченное Лукачем направление мысли, но придает ему отчетливое продуктивистское измерение. Литература реализма предстает у него инструментом распространения специфических представлений об обществе, отвечающих и подчиняющихся логике расширяющегося капиталистического рынка. В этом своем качестве реалистические сочинения оперируют на уровне общественного воображения, размывая социальные – и соответствующие им жанровые, стилистические и повествовательные – границы и формы. Они стирают дифференцированность действительности, позволяя тем самым рационализировать и исчислить ее, облегчая победу товарной формы в общенациональном масштабе. Таким способом реалистическая литература создает «то самое „означаемое“ – вновь сложившееся исчислимое пространство экспансии и рыночной эквивалентности, новый секулярный и „расколдованный“ предметный мир товарной системы, с его посттрадиционным бытом и приводящей в замешательство „бессмысленно“-эмпирической случайной средой, Umwelt, реалистическое отражение которой этот новый повествовательный дискурс затем поставит себе в заслугу»[46 - Jameson F. The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1981. P. 152.].
Между теорией отражения Лукача и ее продуктивистской реинтерпретацией у Джеймисона лежит важнейший методологический сдвиг в (левых) историцистских подходах к литературе. Этот сдвиг связан с несколькими именами и направлениями, вышедшими на авансцену в 1960–1970?х годах. Важное место среди них занимал уже упомянутый Реймонд Уильямс, один из основателей cultural studies. Возобновляя восходящее к Грамши понятие гегемонии, Уильямс описал при его помощи активную (а не просто «отражающую») роль культурного производства в формировании и распаде общественных формаций. Не менее важна и предложенная Луи Альтюссером реинтерпретация работы идеологии и введенные им понятия «структурной причинности» (узловой для перетолкования Лукача у Джеймисона) и «относительной автономии» (важной для Пуви и других). Расцвет «нового историзма», хотя хронологически следовал за работами Джеймисона, опирался на генеалогические исследования Фуко (к нему мы еще вернемся). Наконец, отечественная школа семиотики культуры, чье воздействие признают важнейшие представители нового историзма, отказывается и от упрощенной веры в эстетическую автономию литературы, и – в полемике с официальным марксизмом – от подхода к ней как типическому отражению заданной социальной реальности. Вместо этого литература предстает «моделирующей системой» – символической формой, в которой кристаллизуются и артикулируются общественные представления о социуме и личности. Классический пример этого подхода – работа Лотмана «Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века». На нее опирается, существенно развивая ее, уже упомянутая важнейшая монография И. Паперно «Семиотика поведения: Николай Чернышевский – человек эпохи реализма» (1988), исследующая «реализм» как эстетическую систему и историческую констелляцию. И у Лотмана, и у Паперно литературные тексты рассматриваются как модели для самосознания и поведения. В западных «продуктивистских» описаниях реалистического общественного воображения исторический анализ самосознания чаще всего уступает место более спекулятивным способам аргументации. Это можно связать, в частности, с тем фактом, что в Англии и Франции XIX века мы имеем дело с намного более массовой читающей публикой, что заставляет рассуждать в более общих категориях (таких, как «класс», «нация» и т. п.), а не анализировать отдельных читателей или читательские кружки.
Несколько менее известны – и, вероятно, не столь прямо применимы в литературоведении – работы Корнелиуса Касториадиса, чьим термином «социальное воображаемое» (l’imaginaire social) озаглавлен один из разделов предлагаемого издания. Их проблематика, однако же, прямо связана с очерченными выше вопросами. В книге «Воображаемое установление общества» («L’Institution imaginaire de la sociеtе», 1975) Касториадис определяет общественное воображаемое как коллективный процесс артикуляции и распределения социальных позиций и смыслов, концептуально предпосланный самому различию между субъектом и объектом и определяющий способы осуществления этого различия в каждой конкретной общественной конфигурации. Коллективное действие учреждения общества в воображаемом, пролегающее глубже деления на означение и существование, может быть понято как ряд молчаливых ответов на непроизнесенные вопросы о природе этого общества: «кто мы есть как коллектив? чем мы являемся друг для друга? где мы, чего мы хотим, к чему стремимся и чего нам недостает?»[47 - Касториадис К. Воображаемое установление общества / Пер. Г. Волкова, С. Офертас. М.: Гнозис, 2003. C. 165.] – ответов, лежащих в основе всякого социального действия и взаимодействия. Касториадис спорит с теми из марксистов, кто настаивает на радикальном различии между производством и воспроизводством человеческой жизни и «смыслом, который [эта деятельность] в себе несет». «Труд людей (как в самом узком, так и в самом широком смыслах этого слова) через свои характеристики – объекты, цели, приемы, инструменты – указывает на специфичный для каждого общества способ постижения мира, определения себя как потребности, на отношения к другим человеческим существам»[48 - Там же. О социальных воображаемых Нового времени см.: Taylor Ch. Modern Social Imaginaries. Durham; London: Duke University Press, 2004. Новейшие статьи о работе социального воображения у Достоевского и Толстого см. в блоке «Литературная эпистемология социального» (Новое литературное обозрение. 2019. № 1 (155)).]. В этой перспективе не остается места жесткому разделению на базис и надстройку, на которое опираются истолкования реализма как «отражения действительности». Не остается оснований и для прямолинейных представлений об эстетической автономии. Вместо этого можно заключить (возвращаясь к нашей теме), что реалистическая литература возникает параллельно с современным представлением о социальном субъекте как таковым. Черпая повествовательные и концептуальные модели из современных ему сценариев общественной жизни, реализм – может быть, даже более интенсивно, чем литература других эпох, – участвует в производстве социального воображаемого и, таким образом, имеет прямые – хотя зачастую осложненные противоречиями – социополитические последствия.
Предпосылки такого рода заметны в нескольких работах настоящего сборника. Так, Вадим Школьников исследует судьбу гегельянского тезиса о конце искусства в сочинениях Белинского и показывает, как критик приходит к представлению о реалистическом искусстве как форме общественного действия. Критическая мысль Белинского, в которой складываются очертания русского реализма, оказывается настолько же удалена от теории отражения, как от чистого эстетизма. Она созвучна скорее идеям нашего времени об активно-конструктивистских отношениях реализма к «жизни». В статье Кирилла Зубкова о «Губернских очерках» Щедрина речь идет о том, как в формальной организации повествования обнаруживается отказ от логик типизации и нарративного означения действительности. Общественные факты предстают читательскому взгляду без опосредующего повествовательного истолкования. От читателя требуется активная позиция: он должен сам прочертить связи описанных персонажей и событий с собственным социальным миром.
В самом акте чтения, таким образом, порождается новый тип субъектности – позиция политически активного гражданина. В этом смысле выкладки Зубкова напоминают о выводах Кэтрин Гэллэгер, устанавливающей взаимосвязь между развитием фикциональности (повествовательного модуса, требующего от читателей специфического сочетания веры и недоверия) в английском романе XVIII века – и становлением определенного модуса субъектности, построенного на иронии, рефлексии и готовности к кредитным расчетам и отвечающего условиям формирующейся капиталистической модерности[49 - Gallagher C. The Rise of Fictionality // The Novel / Ed. by F. Moretti. Princeton: Princeton University Press, 2006. Vol. 1. P. 336–363. Вместе с тем рассмотренный Зубковым материал высвечивает особенности русской ситуации, в которой нероманные жанры – физиологический очерк, цикл очерков, рассказ, повесть, хроника и даже эпос – играют более или менее узловую роль в формировании реализма и в его каноне. Жанр, понятый как «договор между писателем и читателем», приводящий в действие «определенные ожидания» и таким образом обусловливающий «и соблюдение, и нарушение принятых форм понимания», оказывается важнейшим моментом текстуального порождения и воспроизводства социального воображаемого. См.: Culler J. Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics, and the Study of Literature. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1975. P. 147. В этом отношении, как и во многих других, выстроенные вокруг романа западные теории реализма должны подвергнуться трансформации и обогащению при столкновении с русским реализмом и его жанровым многообразием.].
Посвященная отразившимся в «Анне Карениной» историческим контекстам работа Михаила Долбилова освещает границу между текстом и действительностью, так сказать, с другой стороны. Здесь налицо «структурная причинность», связывающая внутритекстовые темы – поиск героем подобающей формы чувств, укореняющей его в мире (в данном случае веры), – с разворачивающимся в исторической действительности всплеском религиозно-патриотического энтузиазма по поводу войны на Балканах. Иными словами, здесь мы имеем дело не со способностью текста артикулировать социальное воображаемое и таким образом воздействовать на субъектность читателей, – но с обратной способностью контекста деформировать аффективную организацию художественного мира, сдвигать ее аксиологические установки, менять акценты, вводить новые «структуры чувства», соотнесенные с аналогичными структурами общественного опыта.
Понятие «структур чувства» было введено Реймондом Уильямсом и обозначает насыщенные аффектами имплицитные представления о мире, опирающиеся на определенные сценарии социальности и зачастую артикулируемые в художественных произведениях. За этим переплетением аффекта с социальным воображаемым встает вопрос о роли эмоций в общественном существовании. Так, Уильямс говорит о смене общественного отношения к бедности в викторианской Англии благодаря, в частности, романистам вроде Диккенса и Эмили Бронте[50 - См.: Williams R. Marxism and Literature. Oxford; New York: Oxford University Press, 1977. P. 132–134. См. также новейшую работу Джеймисона об аффектах в литературе реализма, о которой пойдет речь ниже: Jameson F. The Antinomies of Realism. London; New York: Verso, 2015.]. Долбилов прослеживает в «Анне Карениной» нормативный пласт такого рода, касающийся еще более фундаментальных представлений о том, что должно и не должно считаться истинным чувством (тихое, личное, несводимое к разумным основаниям, но не противоречащее им, – а не экзальтированное, публичное, демонстративно-иррациональное). В «Анне Карениной» – как вообще у Толстого – специфически-политические аффекты неизбежно находятся под подозрением. Напротив того, в фокусе работы Кирилла Осповата о сентиментальной поэтике «Бедных людей» Достоевского располагаются именно политические аффекты. Как и у Уильямса, речь тут идет об отношении к бедности и беднякам. Осповат описывает сложную «структуру чувства»: возмущение и ужас соседствуют с отстраненным состраданием, отвечающим устройству сентиментального повествования как эстетического объекта и рассчитанного на продажу на книжном рынке товара. Сам акт изображения «бедных людей», привлекающий внимание к их беде, соотнесен с актом политического представительства и подчинен той же самой дилемме: как участие в политической сфере возможно только при условии отчуждения своих прав в пользу другого, так и «бедные люди» появляются в романе как товар, отчужденный предмет эстетического потребления. Эстетическое сочувствие одновременно открывает глаза на бедность и нейтрализует политические последствия этого акта.
Выводы Осповата в известной степени согласуются с заключениями статьи Беллы Григорян о «Неточке Незвановой». И в этом романе исходно политический импульс образования, Bildung, связанный с обещанием политической уполномоченности, нейтрализуется превращением его в товар. В центре внимания Григорян стоят не столько аффекты, сколько жанры «средней» словесности и различного рода объекты – товары, при помощи которых героиня-повествовательница учится привлекать и удерживать внимание читателя. В «Неточке Незвановой» главное достижение homo narrans – превращение в homo oeconomicus.
Маргарита Вайсман
Илья Клигер
Алексей Владимирович Вдовин
Кирилл Осповат
Научная дискуссия о русском реализме, скомпрометированная советским литературоведением, прервалась в постсоветскую эпоху. В результате модернизация научного языка и адаптация новых академических трендов не затронули историю русской литературы XIX века. Авторы сборника, составленного по следам трех международных конференций, пытаются ответить на вопросы: как можно изучать реализм сегодня? Чем русские жанровые модели отличались от западноевропейских? Как наука и политэкономия влияли на прозу русских классиков? Почему, при всей радикальности взглядов на «женский вопрос», роль женщин-писательниц в развитии русского реализма оставалась весьма ограниченной? Возобновляя дискуссию о русском реализме как важнейшей «моделирующей системе» определенного этапа модерности, авторы рассматривают его сквозь призму социального воображаемого, экономики, эпистемологии XIX века и теории мимесиса, тем самым предлагая читателю широкий диапазон современных научных подходов к проблеме.
Русский реализм XIX века. Общество, знание, повествование
Сборник статей
Введение. «Реализм» и русская литература XIX века
Маргарита Вайсман, Алексей Вдовин, Илья Клигер, Кирилл Осповат
Фантомный «реализм»
Идея сборника пришла его составителям едва ли не одновременно после одной из конференций о русском реализме. В конце сентября 2016 года Молли Брансон и Белла Григорян провели в Йельском университете представительный коллоквиум «The Russian Century: The Literary, Visual, and Performing Arts, 1801–1917», пригласив исследователей русского XIX века из США, Великобритании и России. В 2017 году эстафету переняла Высшая школа экономики, собравшая коллег из Германии, США, России, Канады и Великобритании на конференцию «Эффекты правдоподобия: режимы и концепции реализма в русской литературе». Наконец, в самом конце того же 2017 года в Университете Нью-Йорка некоторые участники двух предыдущих конференций встретились на воркшопе «What is Russian about Russian Realism?». После него стало окончательно ясно, что доклады всех трех смежных конференций могут составить сборник, представляющий широкий срез подходов к изучению русского реализма или даже «реализмов». Более того, благодаря череде других конференций и семинаров в России, Германии, Великобритании, США и Канаде сложилась международная сеть исследователей, объединенных сходными представлениями о том, как нужно изучать реализм сегодня.
Во-первых, они не чураются многозначного термина «реализм», но стремятся контекстуализировать его и активировать его эвристический потенциал, позволяющий не сводить историю литературы середины и конца XIX столетия к набору авторов и индивидуальных идиостилей (idioms), но различать за ними транснациональную эстетическую и идеологическую парадигму. Такой подход подразумевает, во-вторых, необходимость сравнительной оптики. История и поэтика русского реализма должны изучаться в соотнесении с иными литературами не просто потому, что таким образом высвечиваются локальные блики, тени и полутона; транснациональная перспектива продуктивна, в-третьих, для социологического подхода к феномену реализма. Речь идет, точнее, о социологической поэтике реализма, обращающейся к «социальному воображаемому» (к этому понятию мы еще вернемся) различных жанров и национальных традиций. На этих основаниях можно объяснить, например, почему один и тот же жанр романа принимает разные формы в разных уголках Европы или Америк[1 - Недавний обзор ответов на этот вопрос см. в кн.: Моретти Ф. Дальнее чтение. М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2016. С. 222–247.]. Социологизм продуктивен и тем, что возвращает реализму те контексты, в которые он был помещен самими его создателями и практиками, – в контекст экономики (политическая экономия, утопический социализм, марксизм и т. д.), естественных и общественных наук (позитивизм, социология, физиология, психология, биология и т. д.) и политического воображаемого (социализм, либерализм, теории демократии и суверенитета и т. д.). В-четвертых, такая сознательная открытость самого реализма иным рациональным формам познания действительности и симбиоз с ними делают особенно острой и насущной задачу разработать метаязык, который не воспроизводил бы идеи В. Г. Белинского, А. И. Герцена, П. В. Анненкова, К. Маркса, Г. Курбе, Шанфлери, Н. А. Добролюбова, А. М. Скабичевского, В. В. Стасова, П. Д. Боборыкина, Г. В. Плеханова, Г. А. Гуковского и многих других, но позволял бы выявлять и объяснять те идеологические корреляции и констелляции, соотнесения и наложения символических структур и литературных жанров и форм, которые были порождены и валоризированы реализмом.
Мы ожидаем возражений: зачем воскрешать сегодня скомпрометированный термин? Стоит ли пытаться отслоить от схоластических советских наслоений якобы сохранное понятийное ядро? Этот вопрос осложняется и исходной многозначностью понятия «реализм». Еще в 1921 году Р. О. Якобсон на нескольких примерах показал, что оно обладает применительно к литературе как минимум пятью ходовыми и часто смешиваемыми значениями: А – авторская интенция создать правдоподобный текст; B – эффект восприятия какого-либо текста как правдоподобного; C – «сумма характерных признаков определенного художественного направления XIX столетия»; D – насыщение текста фабульно немотивированными деталями, создающими эффект реальности; E – «требование последовательной мотивировки, реализации поэтических приемов»[2 - Якобсон Р. О. О художественном реализме // Якобсон Р. О. Работы по поэтике. М.: Прогресс, 1987. С. 387–393. Опубликованная по-чешски статья лишь в 1987 году была переведена на русский.]. Спустя почти сто лет после Якобсона исследователям реализма в разных национальных традициях очевидно, что реализм в значении C, то есть доминирующий литературный стиль середины XIX века, включал в себя значения A, D и отчасти B и E (в зависимости от рецептивной готовности потребителя признать текст правдоподобным). Несмотря на эту концептуальную сложность или, наоборот, благодаря ей, работа с понятием «реализм», как представляется авторам и составителям этого сборника, обещает быть плодотворной.
Категорически отказываясь от «реализма», мы теряем больше, чем приобретаем. Начнем с того, что с нашего горизонта исчезает сам исторически циркулировавший с 1830?х годов термин, за которым стоял в сознании современников осязаемый, хоть и сложный, феномен. Хорошо известно, например, что французские критики начали оперировать понятием «реализм» применительно к историческим романам задолго до манифестов Гюстава Курбе и Шанфлери, еще в 1830?е годы[3 - Гюстав Планш называл реализмом способность исторических романов передавать обстановку ушедших эпох, а в русской критике говорилось (в отрицательном смысле) о господстве «реализма во французской поэзии» (Драма Гюго «Лукреция Борджиа» (окончание) // Телескоп. 1833. Ч. 13. С. 558).]. В русском контексте моментом подлинного рождения этого литературного понятия и одновременно точкой принципиального расхождения его значений считается 1849 год, когда П. В. Анненков в статье «Заметки о русской литературе 1848 года», опираясь на работы Герцена, разграничил два реализма – «правильный» (Тургенева и Гончарова) и «псевдо» (Ф. М. Достоевского и его последователей). Неудивительно, что уже в 1855 году словарь иностранных слов фиксировал определение «реализма» как «изображения явлений так, как они есть, без прикрас». В последующие годы, когда в «толстых журналах» и вне их стирались границы между литературной критикой, философией и публицистикой, бытовало сразу несколько конкурирующих концепций реализма – от манифеста Чернышевского до «реализма в высшем смысле» Достоевского[4 - Полноценная история понятия «реализм» в России до сих пор не написана, хотя и существуют отдельные работы литературоведов, искусствоведов и музыковедов (ср. Сорокин Ю. С. К истории термина «реализм» в русской критике // Известия АН СССР. Серия ОЛЯ. 1957. Т. XVI. Вып. 3. С. 193–213). Намного богаче немецкоязычная историография этого понятия (Klein W. Realismus/Realistisch // ?sthetische Grundbegriffe. Historisches W?rterbuch in sieben B?nden / Hg. K. Barck, M. Fontius, F. Wolfzettel, B. Steinwachs. Stuttgart; Weimar: J. B. Metzler Verlag, 2003. Bd. 5. S. 149–196). Из числа англоязычных работ нужно упомянуть некоторые статьи 6?го тома «Cambridge History of Literary Criticism» (2013), посвященные эстетике реализма.].
При всем многообразии концепций реализма в середине XIX века представляется непродуктивным, однако же, подменять это родовое понятие видовыми («натуральная школа», натурализм, «обличительная литература», этнографическая проза и т. п.): в этом случае мы упускаем из виду комплекс важнейших проблем, объединяющих все эти литературно-культурные феномены середины XIX столетия. Не замечая «реализма» (при том, что мы продолжаем говорить о сентиментализме, романтизме, символизме, акмеизме и прочих «измах»), мы отказываемся от возможности всерьез обратиться к стоящим за этим понятием теоретическим вопросам о репрезентации, о нарративной специфике миметического письма и о социальном воображаемом. Эти и другие вопросы обозначают контуры той особой, отличной от романтизма и символизма, системы производства образов реальности и знания о ней, которую имеет смысл именовать реализмом.
Современная научная дискуссия о русском реализме необходима и возможна без воскрешения очевидно устаревших терминов и способов анализа текста. Такая дискуссия кажется сегодня особенно актуальной, поскольку, сбросив сам термин «реализм» со своего корабля, российское литературоведение столкнулось с неожиданной проблемой. Зарубежная наука, в которой исследования реализма не были идеологически скомпрометированы, продолжала производить новые модели интерпретации русских текстов середины XIX века и описывать их средствами обновляющегося научного языка. В русскоязычном пространстве тем временем сложился устойчивый дискурсивный дефицит понятий, необходимых для дискуссий о реализме: компенсируя догматическое давление советской эпохи, отечественная наука отказала в важности соответствующим вопросам. Возможности для синхронной работы над новыми способами решения старых проблем оказались сильно ограничены.
Задача исследований реализма как особого режима репрезентации состоит, разумеется, не в том, чтобы выяснить, принадлежит к нему тот или иной текст/автор или нет (чем, как известно, грешило официальное советское литературоведение). Этот широкий термин продуктивен как отправной пункт, концептуальная рамка, позволяющая разметить комбинацию и соотношение смежных дискурсивных полей. Более того, контрпродуктивно понимать литературный реализм как явление, сущностно обособленное от смежных с ним дискурсов (естественно-научного, гегельянского, марксистского, позитивистского и др.). Скорее, под реализмом нужно понимать сложную дискурсивную констелляцию, эксплуатирующую, подрывающую, абсорбирующую и трансформирующую соседние с ней. Каждая статья нашего сборника демонстрирует идеологические связки и символические структуры, которые реализм образует в симбиозе с ключевыми дискурсами эпохи – политическим, экономическим, естественно-научным, метахудожественным и др.
Исследования реализма в позднем СССР (1970–1980?е)
Кризис в изучении реализма в российском постсоветском литературоведении выразился, среди прочего, в отказе от самого термина, в частичном изоляционизме российской науки (в частности, нарратологии) и в страхе перед социологическими подходами к анализу текстов. Характерна в этом смысле обзорная статья В. М. Марковича 1993 года[5 - Маркович В. М. Вопрос о литературных направлениях и построении истории русской литературы XIX в. // Известия РАН. Сер. лит. и яз. М., 1993. Т. 52. № 3; перепечатана: Маркович В. М. Вопрос о литературных направлениях и построении истории русской литературы XIX века // Освобождение от догм: История русской литературы: состояние и пути изучения: В 2 т. Т. 1. М.: Наследие, 1997. С. 241–249. Цитируется по второму изданию.], предупреждающая, что отказ от одного методологического стереотипа (о примате критического реализма) может привести к противоположной догме (очевидно, к отказу от понятия реализма вообще). Чтобы хоть как-то противостоять прогнозируемому забвению реализма, Маркович отнес это понятие к той категории текстов, которую Белинский в предисловии к «Физиологии Петербурга» назвал беллетристикой. Исследователь предположил, что две традиционно считающиеся ключевыми черты реалистического стиля письма – складывающиеся в монистическую систему социально-исторический детерминизм и психологизм – полнее всего проявляются лишь в текстах «второго ряда», а в классических текстах «первого ряда» (Толстого, Достоевского, Тургенева, Лескова и других романистов) исследователям и читателям очевиден выход за пределы монистического рационализма, так что об их творчестве можно говорить как о гибридном – сочетающем элементы романтизма, реализма, натурализма и будущего символизма[6 - Маркович В. М. Указ. соч. С. 243–244.]. Маркович считал, что каждое из литературных направлений XIX столетия одновременно разворачивается как минимум на трех уровнях: на высшем, где шедевры разных направлений подчас неразличимы по стилю; на среднем, где лучше всего проявляется качественное отличие одного стиля от другого; и на низовом (лубочная и низовая, жанровая литературы), где снова царит неразличимость.
Когда Маркович вывел из зоны «чистого» реализма вершинные романы XIX века, он как будто бы дискредитировал предшествующие советские исследования реализма Толстого, Тургенева, Достоевского, Гончарова. Между тем лучшие из них – работы Г. М. Фридлендера, Л. Я. Гинзбург и И. П. Смирнова – демонстрируют значимые схождения с западными исследованиями реализма 1960–1990?х годов в понимании наиболее принципиальных проблем реализма: репрезентации, психологизма, детерминированности.
Одну из первых в СССР серьезных попыток разработать созвучную мировой науке теорию реализма предпринял Г. М. Фридлендер в книге «Поэтика русского реализма», проецировавшей на русскую литературу ключевые идеи Э. Ауэрбаха о демократизации репрезентации и о все большем вторжении в нее «низкой» действительности[7 - Фридлендер Г. М. Поэтика русского реализма. Л.: Наука, 1971. С. 29–30.]. Отказавшись от сугубо структуралистского подхода к проблеме, ученый рассматривал реализм как возникшую на рубеже XVIII–XIX веков демократическую идеологию, которая лишь к 1830–1840?м годам обрела устойчивые жанровые, стилистические и нарративные формы. Они подчинялись принципам историзма и психологизма (индивидуализации характера), выразившимся на идеологическом уровне в новой модели личности, а на повествовательном – в доминировании внутренних монологов и несобственно-прямой речи[8 - Там же. С. 88, 108–110.]. Сложность в изучении реализма в такой перспективе заключалась в том, что эти принципы, взятые сами по себе, были характерны и для исторического и сентиментального идеологического романа 1810–1830?х годов (в первую очередь английского и французского). Чтобы описать неочевидные, но определяющие свойства реализма, необходима была более чувствительная и вместе с тем междисциплинарная оптика.
Значительным шагом в этом направлении стала серия книг Л. Я. Гинзбург: «„Былое и думы“ Герцена» (1957), «О психологической прозе» (1971), «О литературном герое» (1979), «Литература в поисках реальности» (1987). Прошедшая формальную школу 1920?х годов, а позже – блокаду Ленинграда, скорее всего принадлежавшая к квир-дискурсу[9 - См. об этом: Van Buskirk E. S. Lydia Ginzburg’s Prose: Reality in Search of Literature. Princeton; Oxford: Princeton University Press, 2016. P. 109–160; рус. перевод: Ван Баскирк Э. Проза Лидии Гинзбург. М.: Новое литературное обозрение, 2020.] Л. Я. Гинзбург разработала междисциплинарный подход к реализму и собственный язык его описания. Наряду с ее собственным писательским опытом он вобрал в себя функционализм ОПОЯЗа, социологизм, идеи американской функциональной психологии (в первую очередь Дж. Г. Мида) и широкий сравнительный кругозор, в средоточии которого находилась традиция французской психологической прозы от Сен-Симона до «нового романа»[10 - О соотношении всех этих компонентов в творчестве Гинзбург см.: Зорин А. Л. Проза Л. Я. Гинзбург и гуманитарная мысль XX века // Новое литературное обозрение. 2006. № 76.]. Такое достаточно редкое для позднесоветской науки сочетание объясняет, почему книги Гинзбург были переведены на европейские языки и легко приживались в западной методологической среде, став ориентиром для западных исследователей[11 - Книга «О психологической прозе» была переведена на чешский, венгерский и английский. Из написанных на Западе работ, так или иначе вдохновленных подходом Гинзбург, укажем на английскую монографию И. Паперно «Семиотика поведения: Николай Чернышевский – человек эпохи реализма» (1988, рус. пер. – 1996).]. Из позднесоветских теорий реализма эта, вероятно, оказалась единственной, воспринятой за пределами стран социалистического лагеря. Подход Гинзбург к психологической прозе и границам литературности отличался гибкостью, инклюзивностью и антидогматизмом. Уже введение к книге «О психологической прозе» предлагает отчетливо антиинтерналистский подход к изучению реализма, который оказывается для Гинзбург коррелятом позитивизма, идеологии естественных наук и историографии. Реализм, таким образом, мыслится как локализованное в XIX веке состояние литературной системы, выработавшей особое соотношение между художественной прозой, документалистикой (в первую очередь эго-документами) и наукой. Определение реализма у Гинзбург изоморфно ее исследовательской установке: реализм – это «поэтика не опосредованного готовыми эстетическими формами отношения к действительности»[12 - Гинзбург Л. Я. О литературном герое. Л.: Сов. писатель, 1979. С. 63. Постструктуралистская нарратология 1980–1990?х годов (Р. Барт, Ж. Женетт, М. Риффатер) показала, что такое прямое, в обход эстетических форм, отношение реализма к действительности является сложно устроенной миметической иллюзией. Ср. известную статью Р. Барта «Эффект реальности» или книгу М. Риффатера «Fictional Truth» (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1990).]. В основе идеологии реалистического типа письма, по Гинзбург, лежат два базовых принципа – неизбирательность репрезентации (монистический охват, «тотальность» – слово, явно навеянное Лукачем; см. с. 23 нашего введения) и «реалистическая сублимация» (превращение любых явлений реальности в социально-моральные и эстетические нормы)[13 - Гинзбург Л. Я. О литературном герое. С. 68.]. Оба принципа приводят авторов реалистических текстов к социальному, историческому и биологическому детерминизму, предопределяющему антропологический взгляд на человека[14 - Гинзбург Л. Я. Литература в поисках реальности // Она же. Литература в поисках реальности: Статьи, эссе, заметки. Л.: Сов. писатель, 1987. С. 8.].
Антидогматизм подхода Гинзбург хорошо отвечает объекту ее изучения – психологической прозе авторов вроде Толстого и Пруста, у которых характеры оказываются текучими и многослойными, а их нарративная репрезентация базируется на принципиальном несовпадении мотивировки, внутренней и внешней речи и поступков[15 - Она же. О психологической прозе. Л.: Сов. писатель, 1971. С. 321–322, 427 и др.], при этом объектом изображения становятся как раз причинно-следственные связи между этими феноменами[16 - Там же. С. 295.]. Немного преувеличивая, можно сказать, что для Гинзбург реализм был синонимичен понятию «психологическая проза». Отсюда – широкий хронологический охват ее книг: от мемуаров Сен-Симона и романа Руссо до эпопеи Пруста, а в работах конца 1980?х – вплоть до французского «нового романа» 1950–1960?х, представители которого объявили себя «новыми реалистами»[17 - Гинзбург Л. Я. О литературном герое. С. 82; Литература в поисках реальности. С. 37–45.].
В итоговой статье «Литература в поисках реальности» (1985), посвященной реализму, Гинзбург, ссылаясь на появившиеся к тому времени работы по истории понятия «реализм» и на «Слова и вещи» М. Фуко, разграничила три объекта изучения: реальность, реальное и реализм. В отличие от осмысляемой со времен Аристотеля категории реального (то есть правдоподобного, «иллюзии реальности»), реализм «порожден социальными и культурными условиями XIX века»[18 - Она же. Литература в поисках реальности. С. 7.]. Именно в эту эпоху произошел окончательный «отказ от обязательной связи чувственно-конкретного с низким, комическим, гротескным, от жанрово-стилистической иерархии и эстетически препарированного, „избранного“ слова»[19 - Там же. С. 8.]. Это позволило реализму изображать «немотивированные», «случайные» предметы и детали, отточить техники представления психических процессов человека, но вместе с тем и выработать «свои механизмы условности», главным из которых Гинзбург считала «рационалистическую трактовку действительности»[20 - Там же. С. 30–31.].
Психологическая аналитика, таким образом, оказывается определяющим признаком реализма. В центре понятия «реализм» у Гинзбург стоит текстуальная техника моделирования человеческой личности – как ее внутреннего психологического континуума, так и социальных проекций и ролей[21 - Она же. О психологической прозе. С. 5–6.]. Последние составляют «символические образы поведения»[22 - Она же. О литературном герое. С. 46.], которые искусство, и литература в частности, поставляет в социум.
Помещенная в контекст синхронных ей западных исследований реализма, концепция Гинзбург оказывается неожиданно созвучна новаторским работам Доррит Кон, в первую очередь – ее известной книге «Прозрачное мышление»[23 - Сohn D. Transparent Minds: Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction. Princeton: Princeton University Press, 1978.]. Написанная одновременно с книгами Гинзбург, работа Кон породила целое направление в нарратологии, с тех пор не оставляющей вопроса о том, какими именно нарративными, стилистическими и дискурсивными приемами создается иллюзия прозрачности сознания персонажей в прозе и является ли эта прозрачность тотальной[24 - Некоторые современные когнитивные нарратологи считают, что не тотально. См.: Herman D. Introduction // The Emergence of Mind: Representations of Consciousness in Narrative Discourse in English / Ed. by D. Herman. Lincoln; London: University of Nebraska Press, 2011. P. 10–17.].
Более того, эта иллюзия доступности мыслительного и эмоционального сознания персонажей многими нарратологами признана фундаментальным свойством прозаического диегезиса и жанра романа[25 - На русском языке обзор постулирующих этот тезис теорий К. Хамбургер и Д. Кон см. в: Рикер П. Время и рассказ. СПб.; М.: Университетская книга, 2000. Т. 2. С. 69–84.]. Австрийско-немецкий нарратолог Моника Флудерник пошла еще дальше и предложила считать детальную репрезентацию сознания в литературе XVIII–XXI веков именно тем конвенциональным свойством, которым создается эстетический эффект от текста и к которому привыкли с конца XVIII века читатели, потребляющие все больше романов[26 - «…effect produced also by the mimetically motivated evocation of human consciousness and of its (sometimes) chaotic experience of being in the world» (Fludernik M. Towards the Natural Narratology. London; New York: Routledge, 1996. P. 22).]. Это новое понимание нарративности опирается не на традиционную акциональность (actionality), а на переживаемость, имеющую антропоморфную природу («experientiality of an anthropomorphic nature»). Герои произведений в такой перспективе рассматриваются как «прототипически человеческие субъекты», «которые могут совершать физические движения, речевые и мыслительные акты, и все эти действия непременно оказываются связанными с их сознанием, ментальным центром самосознания, интеллекта, восприятия, эмоциональности» («prototypically human existents», «who can perform acts of physical movements, speech acts and thought acts, and their acting necessarily revolves around their consciousness, their mental centre of self-awareness, intellection, perception, and emotionality»)[27 - Fludernik M. Towards the Natural Narratology. P. 19.]. Как показала Флудерник, исторически и эволюционно такая форма «переживаемости» не существовала с самого начала мировой литературы, но развивалась лишь постепенно в некоторых жанрах – преимущественно в эпической поэзии, драме и романе. В XVIII–XIX веках именно подъем жанра романа и сформировал устойчивое представление о том, что такой режим переживаемости является наиболее естественным, и обеспечил валоризацию этого типа нарратива. Таким образом, «реализм и переживаемость очень во многом пересекаются»[28 - Ibid. P. 21.].
Построения Гинзбург и Флудерник могут быть сопоставлены и с другой влиятельной современной теорией, которая хотя и не напрямую связана с проблематикой реализма, но тем не менее косвенно оказывается в центре дебатов о кризисе классической репрезентации в XIX веке. Речь идет о теории Жака Рансьера, помещающего реализм внутрь большой парадигмы – экспрессивного, или эстетического, режима в истории искусства, сложившегося на рубеже XVIII–XIX веков и радикально перераспределившего «чувственное» (sensible) за счет распада строго иерархической жанровой системы предшествующих столетий. Этот распад был вызван постепенным разрушением жесткой корреляции между объектом репрезентации и ее языком, в результате чего в расширяющуюся воронку репрезентации начали попадать предельно низменные и тривиальные фрагменты действительности, лишившиеся привязки к конкретному жанру. По Рансьеру, такой ошеломляюще демократизирующий эффект реализма зиждется на романтической идее прозревания скрытой сущности вещей[29 - Ranci?re J. Mute Speech. Literature, Critical Theory, and Politics / Transl. by J. Swenson. New York: Columbia University Press, 2011. P. 107. Демократизации чувственного на примере романа Флобера «Госпожа Бовари» посвящена специальная работа Рансьера: Ranci?re J. Why Emma Bovary Had to be Killed // Critical Inquiry. 2008. Vol. 34. № 2. Winter. P. 233–248.]. Этот вывод хорошо сочетается с концепцией «прозрачного сознания» – приема, стремящегося к всеохватывающему отображению того, что представлено быть не может, – процесса человеческого мышления. При этом идея Рансьера о расподоблении объекта и языка его описания не только совпадает с упомянутым выше тезисом Гинзбург, но и оказывается не столь оригинальной, поскольку в контексте изучения реализма не раз высказывалась на материале разных литератур, хотя, разумеется, без таких далеко идущих выводов[30 - Она возникает у Тынянова, Лотмана и Гинзбург. Из недавних работ см., например: Пильщиков И., Шапир М. Эволюция стилей в русской поэзии от Ломоносова до Пушкина (набросок концепции) // Стих, язык, поэзия: Памяти Михаила Леоновича Гаспарова. М.: Изд-во РГГУ, 2006. С. 510–546.].
Среди позднесоветских теорий реализма заслуживает особого упоминания большая статья И. П. Смирнова «Реализм: диахронический подход», опубликованная в 1980 году в журнале «Russian Literature» и переработанная в главу монографии в 2000 году[31 - Смирнов И. П. Мегаистория. К исторической типологии культуры. М.: Аграф, 2000. С. 21–77.]. Написанная в семиотическом ключе (в духе Ю. М. Лотмана), работа Смирнова не просто предлагает рассматривать реализм в корреляции с романтизмом и символизмом, но разворачивает универсальную культурную типологию стилевых ансамблей, именуемых «первичными» и «вторичными» художественными системами или стилями[32 - Универсализм Смирнова достигает своего апогея в распространенном в 1970?е годы утверждении, что «деление на первичные и вторичные стили имеет психофизиологическое основание – функциональную асимметрию головного мозга» (с. 49).]. Эта неудачная терминология (включающая оценочность и заимствованная у Д. С. Лихачева) семиотически классифицирует все художественные стили на основании того, в каких отношениях в них находятся знак и референт. Первичные стили (романеск, ренессанс, классицизм, реализм и постсимволизм) понимают «мир смыслов как продолжение фактической реальности», придавая знаку статус референта, в то время как «вторичные стили» (готика, барокко, романтизм, символизм) наделяют реальность статусом текста, считают ее семантическим универсумом, в котором четко разграничены план выражения и содержания[33 - Смирнов И. П. Мегаистория. С. 22.]. «„Первичные“ художественные системы (и среди них – реализм) подавляют форму содержания субстанцией содержания, „вторичные“ же подчиняют субстанцию форме. ‹…› Именно гипертрофированное внимание реализма к субстанции содержания создало научную традицию, которая отвергает возможность системного подхода к реалистической ментальности»[34 - Там же. С. 43.].
Не замыкаясь в сугубо семиотической интерпретации реализма, Смирнов исследует природу манифестации знания и познавательного процесса у писателей-реалистов. Явно перекликаясь с идеей Гинзбург о фокусировке реализма на выявлении скрытых причинно-следственных связей между феноменами реальности, Смирнов предложил более нюансированное описание реализма как «системы транзитивных отношений»: «Реализм был поглощен поиском опосредующих звеньев между различающимися элементами мирового целого, производил замещение одного элемента (x) другим (z) на том основании, что оба они обнаруживали связь с некоторой третьей единицей (y), т. е. выступали как аналогичные величины. Другими словами, базисный троп реалистического мышления был (латентно) метафорой»[35 - Там же. С. 50–51. Этот тезис полемичен к известной идее Якобсона о том, что базовым реалистическим тропом является метонимия (Якобсон Р. О. Два аспекта языка и два типа афатических нарушений // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. С. 110–132).]. Следовательно, «главный познавательный инструмент реализма есть аналогия»[36 - Смирнов И. П. Указ. соч. С. 63.].
Хотя статья Смирнова богата оригинальными наблюдениями, ракурсами и параллелями, далеко не все из них сегодня выдерживают критику. Главная проблема семиотического подхода к реализму заключается в том, что постулирование универсальных законов и свойств реализма (своего рода контрастная поэтика) не объясняет, как и почему они возникли именно в XIX веке и отчего они таковы. Красивая, на первый взгляд, теория чередования первичных и вторичных стилей отдает упрощающей цикличностью и не оставляет места для рассмотрения социокультурного и экономического контекста литературы.
Выход из методологического тупика зачастую можно найти, обратив внимание на решения сходных научных проблем в смежных областях знания или на ином материале. В разговоре о методологических проблемах современного изучения русского реализма XIX века кажется важным обратить внимание на целый комплекс подходов к реализму, разработанный англистикой на материале Викторианской эпохи. После постструктуралистского открытия иллюзионистской природы реализма как трансисторического типа репрезентации[37 - Такой подход был, кстати, свойствен и Ю. М. Лотману, начиная с его спецкурса по «Евгению Онегину».] исследования 1980–1990?х годов сконцентрировались на эпистемологии реализма как реально существовавшего направления в европейском и американском искусстве XIX века – конечно же, ни на минуту не забывая о конструктивистских посылках. Чрезвычайно продуктивным оказался взгляд на реализм как на исторически конкретный тип репрезентации, сосредоточившийся на проблеме познания реальности и обращающийся в этих целях к смежным формам и институтам: к естественным наукам, экономике, (био)политике, институтам государственной власти (например, полиции), возникающему искусству фотографии[38 - См.: Realism and Representation: Essays on the Problem of Realism in Relation to Science, Literature and Culture. Madison: Wisconsin University Press, 1993; Pond K. A. What Do We Know? Reconsideration of Victorian Realism and Epistemological Doubt // Literature Compass. 2015. Vol. 12. № 9. P. 471–481.]. Фукольдианский и в широком смысле социологический поворот в гуманитарных науках 1970–1980?х годов открыл наиболее интересные возможности для разработок такого рода.
Перед исследователями русского реализма встает серьезная задача рассмотреть под таким углом зрения русский реализм XIX века, фокусируясь теперь не на схоластическом вопросе о том, вписывается ли тот или иной автор или текст в реалистическую парадигму, и даже не на том, какие направления (романтизм, натурализм, символизм или иной -изм) скрещиваются в реализме, – а на том, как и при каких формальных и эпистемологических условиях производится реалистический текст, претендующий, как правило, на беспрецедентно точное отображение и познание реальности, и как он встроен, с одной стороны, в дискурсивную сеть своей эпохи, а с другой – в бурно развивающийся процесс капиталистического производства текстов.
В 1990–2000?е годы на русском языке время от времени выходили работы, написанные в таком русле. Укажем здесь лишь на две книги, представляющие собой, как кажется, наиболее продуктивные попытки возобновить серьезное изучение реализма на русском материале. Книга М. С. Макеева «Спор о человеке в русской литературе 60–70?х годов XIX века: Литературный персонаж как познавательная модель человека» (М., 1999), хотя и не касается напрямую реалистической репрезентации, ставит проблему повествовательного моделирования человеческой личности в рамках различных радикальных идеологий 1860–1870?х годов. Опираясь на теории Л. Я. Гинзбург, Л. Гольдмана и К. Мангейма, Макеев показывает, каким именно образом социальные науки о человеке того времени (политическая экономия, физиология, биология, социология Г. Спенсера и др.) и идеологические доктрины (народничество, марксизм) диктовали способы моделирования человеческого поведения, сознания и (не)включенности в историю в текстах Н. Помяловского, В. Слепцова, Ф. Решетникова, Л. Толстого, Б. Маркевича, Н. Чаева, М. Салтыкова-Щедрина, П. Боборыкина и др. Работа Макеева, позволяющая радикально обновить устоявшиеся представления о так называемых «революционных демократах», «революционном движении» и народниках, остается одним из важнейших свидетельств эпохи антидогматизма и методологической свободы 1990?х в российском литературоведении.
Другая яркая попытка пересмотреть традиционную картину русского реализма принадлежит Е. К. Созиной. Комбинируя в книге «Эволюция русского реализма XIX века: семиотика и поэтика» классический семиотический подход с постструктуралистскими теориями Ю. Кристевой и М. Фуко, исследовательница предлагает рассматривать реализм 1840–1880?х годов как особую «дискурсивную формацию» со специфической антропологической, этической и эпистемологической моделью человека и исторического процесса, построенной на детерминизме: «Кроме установки на „жизнеподобие“, в систему реалистических конвенции? неизбежно вводится принцип детерминизма; мы стремились наполнить его конкретно-текстовым смыслом – показать реализацию этого принципа в структуре повествования». Как резюмирует Созина, уже в романах Достоевского и Толстого жесткая логика социально-психологического детерминизма осложняется «двойной причинностью», а затем и вовсе растворяется «в вероятности любых объяснительных версий поведения чеховского человека»[39 - Созина Е. К. Эволюция русского реализма XIX века: семиотика и поэтика: Учеб. пособие. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2006. С. 113.]. В этом тезисе легко усмотреть перекличку с идеей В. М. Марковича о том, что вершинные тексты реализма выходят за пределы его поэтики и тем самым проблематизируют ее, – так что реализм оказывается в высшей степени рефлексивным стилем, постоянно переосмысляющим границы и возможности репрезентации.
Стремясь компенсировать дефицит исследовательских подходов к изучению реализма в российской науке, мы остановимся далее на важнейших и наиболее востребованных сегодня проблемных полях в изучении реалистической репрезентации – вопросах социального воображаемого, экономики, естественно-научной эпистемологии и метафикциональности.
Социальное воображаемое реализма
Проблемы репрезентации общественных отношений и производства моделей социальности в литературе реализма получили исходное и, пожалуй, наиболее многостороннее освещение в рамках богатой и философски изощренной традиции западного марксизма. Одной из ключевых фигур в этом ряду стал британский философ-культуролог Рэймонд Уильямс. Его книга «Английский роман от Диккенса до Лоуренса» («The English Novel From Dickens To Lawrence», 1970) открывается впечатляющим списком романов, вышедших в Англии на протяжении двадцати месяцев в 1847–1848 годах: «Домби и сын» Диккенса, «Грозовой перевал» Эмили Бронте, «Ярмарка тщеславия» Теккерея, «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, «Мэри Бартон» Элизабет Гаскелл, «Танкред» Бенджамина Дизраели, «Незнакомка из Уайлдфелл-Холла» Энн Бронте и др. Задаваясь вопросом об определяющих чертах этого поколения писателей, которое мы привыкли связывать со становлением английского реализма, исследователь считает главной из них интерес к проблемам сообщества.
На протяжении почти ста лет, от Диккенса до Лоуренса, эта тема играет определяющую роль. Как устроено сообщество, каким оно было в прошлом, как оно соотносится с индивидами и их взаимоотношениями ‹…› Ибо в этот период вопрос о том, как должна осуществляться жизнь в сообществе, встает перед обществом острее и тревожней, чем когда-либо в истории[40 - Williams R. The English Novel from Dickens to Lawrence. New York: Oxford University Press, 1970. P. 12.].
Говоря о французской литературе этой же эпохи, Эрих Ауэрбах приходит к выводу, что там «политические и социальные предпосылки реалистически точно вплетаются в действие, как ни в одном романе, ни в одном литературном произведении прошлого»[41 - Ауэрбах Э. Мимесис: Изображение действительности в западноевропейской литературе. М.: Прогресс, 1976. С. 453.]. Как показывает в настоящем издании Вадим Школьников, русский реализм складывался в 1840?е годы вокруг понятий «социальность» и «действительность», восходящих к французским и немецким образцам и описывающих модели взаимодействия между индивидами и сообществами.
Влиятельнейшая интерпретация реализма XIX века как течения, занятого описанием и исследованием современного социального мира, была предложена Д. Лукачем. Уже в «Теории романа» (1916), пронизанной терминологией немецкого идеализма, Лукач определяет роман как «эпопею эпохи, у которой больше нет непосредственного ощущения экстенсивной тотальности жизни, для которой жизненная имманентность смысла стала проблемой, но которая все-таки тяготеет к тотальности»[42 - Лукач Г. Теория романа (Опыт историко-философского исследования форм большой эпики) // Новое литературное обозрение. 1994. № 9. С. 32.]. Уже в этом тексте Лукача «тотальность» практически синонимична с общественной жизнью; позднее он опишет их тождество в марксистских категориях. В памятном разборе «Утраченных иллюзий» Бальзака Лукач предлагает читать этот роман как систематический анализ неотвратимого «превращения духа [т. е. сознательной человеческой деятельности] в товар» в буржуазном обществе и его последствий для общественных институтов, взаимоотношений между людьми и отдельной личности[43 - Лукач Г. «Утраченные иллюзии» // Лукач Г. К истории реализма. М.: Гослитиздат, 1936. С. 215.]. Согласно Лукачу, Бальзак создает широкую картину современного общества как сети тончайших взаимосвязей, подчиняющихся общей логике и проявляющихся в перспективе субъекта в отчуждении (от общественных процессов, конкретных лиц, собственных творческих возможностей). «Действительность», таким образом, предстает социально и исторически обусловленной системой общественных отношений. Ее закономерности являются индивиду во враждебном обличии, разрушающем надежды, желания и идеалы. В судьбе отчужденной личности манифестируется властвующий над ней общественный (бес)порядок. Такой взгляд – представленный не в последнюю очередь в советском сборнике Лукача «К истории реализма» (1936), куда вошла и работа о Бальзаке, – стоял за заезженным термином «критический реализм» в советской науке о литературе XIX века, а также за понятием «трагического реализма» у западных исследователей, более или менее прямо связанных с наследием «марксистского гуманизма»[44 - См. Orr J. Tragic Realism and Modern Society: Studies in the Sociology of the Modern Novel. Pittsburgh: Pittsburgh University Press, 1977.].
Такой подход позволяет осмыслить исторические импликации реализма, однако чаще всего оставляет в стороне тот факт, что само понятие общества в его абстрактном и всеобъемлющем значении только складывалось в обсуждаемую эпоху. В этом процессе реалистические тексты играли узловую роль. Бальзак объявлял, что его «Человеческая комедия» должна соперничать с институтами государственного учета гражданского состояния (l’Еtat-Civil), учрежденными Французской революцией – важнейшим биополитическим инструментом конструирования общества в его специфически-модерном понимании. В исследовании Мэри Пуви «Конструирование общественного тела: становление британской культуры в середине XIX в.» («Making a Social Body: British Cultural Formation, 1830–1864», 1995) описана роль английского романа среди конкурирующих модусов осознания и воображения постепенно возникающей общественной цельности. Бенедикт Андерсон в классической работе «Воображаемые сообщества» видит в романе Нового времени узловую символическую форму складывающейся нации как огромного единого «социологического организма, движущегося по расписанию сквозь гомогенное, пустое время»[45 - Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма / Пер. В. Г. Николаева. М.: Канон-Пресс-Ц, 2001. C. 47.].
Фредерик Джеймисон в книге «Политическое бессознательное: повествование как социально-символический акт» («The Political Unconscious: Narrative As A Socially Symbolic Act», 1981) возобновляет намеченное Лукачем направление мысли, но придает ему отчетливое продуктивистское измерение. Литература реализма предстает у него инструментом распространения специфических представлений об обществе, отвечающих и подчиняющихся логике расширяющегося капиталистического рынка. В этом своем качестве реалистические сочинения оперируют на уровне общественного воображения, размывая социальные – и соответствующие им жанровые, стилистические и повествовательные – границы и формы. Они стирают дифференцированность действительности, позволяя тем самым рационализировать и исчислить ее, облегчая победу товарной формы в общенациональном масштабе. Таким способом реалистическая литература создает «то самое „означаемое“ – вновь сложившееся исчислимое пространство экспансии и рыночной эквивалентности, новый секулярный и „расколдованный“ предметный мир товарной системы, с его посттрадиционным бытом и приводящей в замешательство „бессмысленно“-эмпирической случайной средой, Umwelt, реалистическое отражение которой этот новый повествовательный дискурс затем поставит себе в заслугу»[46 - Jameson F. The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1981. P. 152.].
Между теорией отражения Лукача и ее продуктивистской реинтерпретацией у Джеймисона лежит важнейший методологический сдвиг в (левых) историцистских подходах к литературе. Этот сдвиг связан с несколькими именами и направлениями, вышедшими на авансцену в 1960–1970?х годах. Важное место среди них занимал уже упомянутый Реймонд Уильямс, один из основателей cultural studies. Возобновляя восходящее к Грамши понятие гегемонии, Уильямс описал при его помощи активную (а не просто «отражающую») роль культурного производства в формировании и распаде общественных формаций. Не менее важна и предложенная Луи Альтюссером реинтерпретация работы идеологии и введенные им понятия «структурной причинности» (узловой для перетолкования Лукача у Джеймисона) и «относительной автономии» (важной для Пуви и других). Расцвет «нового историзма», хотя хронологически следовал за работами Джеймисона, опирался на генеалогические исследования Фуко (к нему мы еще вернемся). Наконец, отечественная школа семиотики культуры, чье воздействие признают важнейшие представители нового историзма, отказывается и от упрощенной веры в эстетическую автономию литературы, и – в полемике с официальным марксизмом – от подхода к ней как типическому отражению заданной социальной реальности. Вместо этого литература предстает «моделирующей системой» – символической формой, в которой кристаллизуются и артикулируются общественные представления о социуме и личности. Классический пример этого подхода – работа Лотмана «Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века». На нее опирается, существенно развивая ее, уже упомянутая важнейшая монография И. Паперно «Семиотика поведения: Николай Чернышевский – человек эпохи реализма» (1988), исследующая «реализм» как эстетическую систему и историческую констелляцию. И у Лотмана, и у Паперно литературные тексты рассматриваются как модели для самосознания и поведения. В западных «продуктивистских» описаниях реалистического общественного воображения исторический анализ самосознания чаще всего уступает место более спекулятивным способам аргументации. Это можно связать, в частности, с тем фактом, что в Англии и Франции XIX века мы имеем дело с намного более массовой читающей публикой, что заставляет рассуждать в более общих категориях (таких, как «класс», «нация» и т. п.), а не анализировать отдельных читателей или читательские кружки.
Несколько менее известны – и, вероятно, не столь прямо применимы в литературоведении – работы Корнелиуса Касториадиса, чьим термином «социальное воображаемое» (l’imaginaire social) озаглавлен один из разделов предлагаемого издания. Их проблематика, однако же, прямо связана с очерченными выше вопросами. В книге «Воображаемое установление общества» («L’Institution imaginaire de la sociеtе», 1975) Касториадис определяет общественное воображаемое как коллективный процесс артикуляции и распределения социальных позиций и смыслов, концептуально предпосланный самому различию между субъектом и объектом и определяющий способы осуществления этого различия в каждой конкретной общественной конфигурации. Коллективное действие учреждения общества в воображаемом, пролегающее глубже деления на означение и существование, может быть понято как ряд молчаливых ответов на непроизнесенные вопросы о природе этого общества: «кто мы есть как коллектив? чем мы являемся друг для друга? где мы, чего мы хотим, к чему стремимся и чего нам недостает?»[47 - Касториадис К. Воображаемое установление общества / Пер. Г. Волкова, С. Офертас. М.: Гнозис, 2003. C. 165.] – ответов, лежащих в основе всякого социального действия и взаимодействия. Касториадис спорит с теми из марксистов, кто настаивает на радикальном различии между производством и воспроизводством человеческой жизни и «смыслом, который [эта деятельность] в себе несет». «Труд людей (как в самом узком, так и в самом широком смыслах этого слова) через свои характеристики – объекты, цели, приемы, инструменты – указывает на специфичный для каждого общества способ постижения мира, определения себя как потребности, на отношения к другим человеческим существам»[48 - Там же. О социальных воображаемых Нового времени см.: Taylor Ch. Modern Social Imaginaries. Durham; London: Duke University Press, 2004. Новейшие статьи о работе социального воображения у Достоевского и Толстого см. в блоке «Литературная эпистемология социального» (Новое литературное обозрение. 2019. № 1 (155)).]. В этой перспективе не остается места жесткому разделению на базис и надстройку, на которое опираются истолкования реализма как «отражения действительности». Не остается оснований и для прямолинейных представлений об эстетической автономии. Вместо этого можно заключить (возвращаясь к нашей теме), что реалистическая литература возникает параллельно с современным представлением о социальном субъекте как таковым. Черпая повествовательные и концептуальные модели из современных ему сценариев общественной жизни, реализм – может быть, даже более интенсивно, чем литература других эпох, – участвует в производстве социального воображаемого и, таким образом, имеет прямые – хотя зачастую осложненные противоречиями – социополитические последствия.
Предпосылки такого рода заметны в нескольких работах настоящего сборника. Так, Вадим Школьников исследует судьбу гегельянского тезиса о конце искусства в сочинениях Белинского и показывает, как критик приходит к представлению о реалистическом искусстве как форме общественного действия. Критическая мысль Белинского, в которой складываются очертания русского реализма, оказывается настолько же удалена от теории отражения, как от чистого эстетизма. Она созвучна скорее идеям нашего времени об активно-конструктивистских отношениях реализма к «жизни». В статье Кирилла Зубкова о «Губернских очерках» Щедрина речь идет о том, как в формальной организации повествования обнаруживается отказ от логик типизации и нарративного означения действительности. Общественные факты предстают читательскому взгляду без опосредующего повествовательного истолкования. От читателя требуется активная позиция: он должен сам прочертить связи описанных персонажей и событий с собственным социальным миром.
В самом акте чтения, таким образом, порождается новый тип субъектности – позиция политически активного гражданина. В этом смысле выкладки Зубкова напоминают о выводах Кэтрин Гэллэгер, устанавливающей взаимосвязь между развитием фикциональности (повествовательного модуса, требующего от читателей специфического сочетания веры и недоверия) в английском романе XVIII века – и становлением определенного модуса субъектности, построенного на иронии, рефлексии и готовности к кредитным расчетам и отвечающего условиям формирующейся капиталистической модерности[49 - Gallagher C. The Rise of Fictionality // The Novel / Ed. by F. Moretti. Princeton: Princeton University Press, 2006. Vol. 1. P. 336–363. Вместе с тем рассмотренный Зубковым материал высвечивает особенности русской ситуации, в которой нероманные жанры – физиологический очерк, цикл очерков, рассказ, повесть, хроника и даже эпос – играют более или менее узловую роль в формировании реализма и в его каноне. Жанр, понятый как «договор между писателем и читателем», приводящий в действие «определенные ожидания» и таким образом обусловливающий «и соблюдение, и нарушение принятых форм понимания», оказывается важнейшим моментом текстуального порождения и воспроизводства социального воображаемого. См.: Culler J. Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics, and the Study of Literature. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1975. P. 147. В этом отношении, как и во многих других, выстроенные вокруг романа западные теории реализма должны подвергнуться трансформации и обогащению при столкновении с русским реализмом и его жанровым многообразием.].
Посвященная отразившимся в «Анне Карениной» историческим контекстам работа Михаила Долбилова освещает границу между текстом и действительностью, так сказать, с другой стороны. Здесь налицо «структурная причинность», связывающая внутритекстовые темы – поиск героем подобающей формы чувств, укореняющей его в мире (в данном случае веры), – с разворачивающимся в исторической действительности всплеском религиозно-патриотического энтузиазма по поводу войны на Балканах. Иными словами, здесь мы имеем дело не со способностью текста артикулировать социальное воображаемое и таким образом воздействовать на субъектность читателей, – но с обратной способностью контекста деформировать аффективную организацию художественного мира, сдвигать ее аксиологические установки, менять акценты, вводить новые «структуры чувства», соотнесенные с аналогичными структурами общественного опыта.
Понятие «структур чувства» было введено Реймондом Уильямсом и обозначает насыщенные аффектами имплицитные представления о мире, опирающиеся на определенные сценарии социальности и зачастую артикулируемые в художественных произведениях. За этим переплетением аффекта с социальным воображаемым встает вопрос о роли эмоций в общественном существовании. Так, Уильямс говорит о смене общественного отношения к бедности в викторианской Англии благодаря, в частности, романистам вроде Диккенса и Эмили Бронте[50 - См.: Williams R. Marxism and Literature. Oxford; New York: Oxford University Press, 1977. P. 132–134. См. также новейшую работу Джеймисона об аффектах в литературе реализма, о которой пойдет речь ниже: Jameson F. The Antinomies of Realism. London; New York: Verso, 2015.]. Долбилов прослеживает в «Анне Карениной» нормативный пласт такого рода, касающийся еще более фундаментальных представлений о том, что должно и не должно считаться истинным чувством (тихое, личное, несводимое к разумным основаниям, но не противоречащее им, – а не экзальтированное, публичное, демонстративно-иррациональное). В «Анне Карениной» – как вообще у Толстого – специфически-политические аффекты неизбежно находятся под подозрением. Напротив того, в фокусе работы Кирилла Осповата о сентиментальной поэтике «Бедных людей» Достоевского располагаются именно политические аффекты. Как и у Уильямса, речь тут идет об отношении к бедности и беднякам. Осповат описывает сложную «структуру чувства»: возмущение и ужас соседствуют с отстраненным состраданием, отвечающим устройству сентиментального повествования как эстетического объекта и рассчитанного на продажу на книжном рынке товара. Сам акт изображения «бедных людей», привлекающий внимание к их беде, соотнесен с актом политического представительства и подчинен той же самой дилемме: как участие в политической сфере возможно только при условии отчуждения своих прав в пользу другого, так и «бедные люди» появляются в романе как товар, отчужденный предмет эстетического потребления. Эстетическое сочувствие одновременно открывает глаза на бедность и нейтрализует политические последствия этого акта.
Выводы Осповата в известной степени согласуются с заключениями статьи Беллы Григорян о «Неточке Незвановой». И в этом романе исходно политический импульс образования, Bildung, связанный с обещанием политической уполномоченности, нейтрализуется превращением его в товар. В центре внимания Григорян стоят не столько аффекты, сколько жанры «средней» словесности и различного рода объекты – товары, при помощи которых героиня-повествовательница учится привлекать и удерживать внимание читателя. В «Неточке Незвановой» главное достижение homo narrans – превращение в homo oeconomicus.