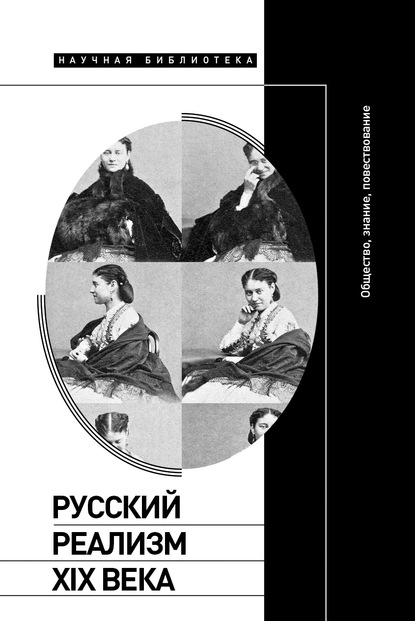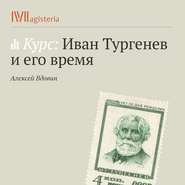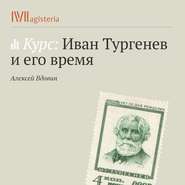По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Русский реализм XIX века. Общество, знание, повествование
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Главная методологическая проблема, стоящая на пути исследований саморефлексивности прозы XIX века, – противопоставление мимесиса и саморефлексии как взаимоисключающих модусов литературного дискурса – была обозначена в ранних работах по теории метапрозы Патриции Во и Роберта Альтера. Однако этот методологический конфликт был успешно разрешен историками литературы на французском материале (что закономерно, учитывая центральное место, которое занимают романы Бальзака в исходных теоретических построениях) – в частности, в новаторском исследовании Анн Джефферсон «Читая реализм у Стендаля»[113 - Jefferson A. Reading Realism in Stendhal. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.], в котором исследовательница утверждает возможность сосуществования миметического и саморефлексивного модусов повествования в европейском романе XIX века. Выкладки Джефферсон, хотя и опирающиеся преимущественно на французский материал, чрезвычайно полезны для выработки и развития новых подходов к изучению метаязыка русского литературного реализма.
Парадокс сосуществования мимесиса и реализма кажется неразрешимым: абсолютно верное воспроизведение действительности невозможно, так как сам процесс изображения (через характеристики используемого способа передачи, фокусировку изображающего и т. п.) в той или иной мере искажает предмет изображения. Однако внимательное прочтение писательских размышлений о теории и практике этого процесса заставляет заново взглянуть на особенности воплощения этого парадокса и намеченных путей его разрешения в текстах русского реализма.
Статьи раздела «Мимесис» в той или иной мере воплощают на практике теоретические подходы, кратко освещенные выше, выявляя мета- и интертекстуальные связи между различными ключевыми текстами русского реализма. В статье М. Кучерской и А. Лифшица рассматриваются тексты и театральные постановки, которые послужили так называемым «реквизитом» для повести Лескова «Тупейный художник». Типичная проблема сосуществования в реализме установки на подлинность повествования и одновременно художественного вымысла решается у Лескова, по мнению авторов, особым образом. «Тупейный художник» создавался как будто бы в диалоге с известными Лескову драматическими и прозаическими текстами, что позволяет рассматривать этот текст как пример удачной интеграции общей теоретической проблемы в конкретный текст. Лесков противопоставляет жуткую реальность, в которой живут его персонажи, создаваемой ими на сцене художественной иллюзии, что дает авторам статьи возможность описать его метод литературного мимесиса в контексте теоретических подходов к типам репрезентации, характерным для русского реализма.
В статье М. Вайсман проделана важная литературно-археологическая работа: на материале писем, программных статей и литературной критики реконструируется противоречивая теория реализма А. Ф. Писемского и ее воплощение в романе 1863 года «Взбаламученное море». Опираясь на теорию метапрозы, Вайсман анализирует ранее малоизученный фрагмент романа «Взбаламученное море» как пример авторской рефлексии о природе литературного реализма. Конкретная реализация этой рефлексии в романе рассматривается на примере металепсиса – нарративного приема, упраздняющего разницу между миром рассказа и миром, в котором этот рассказ создается.
Статья Б. Маслова об исторической поэтике реалистических сюжетов также использует конкретный пример – сюжет «курортного рецидива» или повторной встречи – как повод для построения теоретической модели сюжета, типичного для текстов русского реализма в целом. Опираясь на работы А. Н. Веселовского о генезисе сюжетных схем (по принципу их современности изучаемым сюжетам), Маслов описывает функционирование такой сюжетной схемы в произведениях Тургенева, Мопассана, Т. Манна, Чехова и Бунина. Тексты Тургенева интерпретируются автором статьи как связующее звено между романтизмом, поздним реализмом и модернизмом, выделить которое и позволяет предлагаемая автором классификация сюжетных мотивов.
Перспективы
Представленный читателям сборник имеет своей целью, прежде всего, обозначить векторы развития новых подходов к изучению русского реализма и познакомить читателя с репрезентативной выборкой работ современных ученых в России и за рубежом. Закономерно, однако, что, так как сборник демонстрирует срез современной науки, объектом или предметом которой является русский литературный реализм, набор представленных в нем статей (с поправкой на реальность научной жизни – не все, чьи работы мы хотели бы видеть в сборнике, смогли представить свои тексты) демонстрирует не только последние достижения этой отрасли литературоведения, но и ее лакуны.
В частности, в сборнике лишь очень кратко освещены два важных подхода к литературе XIX века, направленных на введение новых текстов в научный оборот. За исключением Мельникова-Печерского и Писемского, в сборнике мало представлены писатели второго ряда и другие неканонические авторы. В сборник также не вошли статьи о женщинах-писательницах и представителях других маргинализированных социальных и этнических групп, исследования текстов которых «медленно, но верно» продолжают дополнять нашу картину литературной жизни России, в том числе в период развития реализма. Как нам кажется, это отражает в первую очередь количественное, но ни в коей мере не качественное свойство таких исследований. Несмотря на ограниченное количество представленных в сборнике статей, в их тематике и материале тем не менее очевидно влияние именно такого подхода к изучению литературы: экспансия «канона» (что бы мы ни понимали под этим термином, который также подвергся плодотворной ревизии в последние годы) «вглубь» и «вширь».
Идея увеличения слоев литературного материала, доступных исследователям, основана на отказе от оценочного подхода и разделения текстов по принципу «высокого» и «низкого» качества. Примером такого метода могут служить работы А. И. Рейтблата, реконструировавшие литературный и социальный контекст канонических произведений. Такие исследования привлекают внимание к текстам и артефактам популярной культуры, которые со временем не просто выпали из канона, а вообще остались за пределами истории литературы. Особенность таких исследований последнего времени состоит в том, что эти источники интегрируются в литературный процесс не в связке с «большими» именами (рецепцией Достоевским криминального романа занимался еще Р. Г. Назиров), а как самозначимые феномены – в связке с историческими этапами развития культуры. Так, например, сборник «Русские писатели на рубеже веков: сумерки реализма»[114 - Russian Writers and the Fin de Si?cle: The Twilight of Realism / Ed. by K. Bowers and A. Kokobobo. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.] под ред. К. Бауэрс и А. Кокобобо 2015 года показывает в том числе, как жанры популярной литературы, такие как готика и роман ужасов, функционируют как составные части реалистического стиля. Книга Клэр Уайтхед «Поэтика ранней русской уголовной прозы, 1860–1917» (2018)[115 - Whitehead C. The Poetics of Early Russian Crime Fiction 1860–1917: Deciphering Stories of Detection. Oxford: Legenda, 2018.] также рассматривает этот нишевый литературный феномен на равных правах с каноническими текстами эпохи и демонстрирует, как его включенность в реализм сказалась на его судьбе в XX веке в соцреализме и постсоветском литературном пространстве. Популярные жанры XX века (в том числе в эфемерных публикациях брошюр и газет) благодаря исследованиям повседневности хорошо интегрированы в историю литературы, как и популярные тексты второй половины XIX века (обзорное исследование Джеффри Брукса о популярной литературе после 1880?х здесь стоит рядом с книгой Бориса Дралюка о русском Пинкертоне 1904–1937 годов)[116 - Brooks J. When Russia Learned to Read: Literacy and Popular Culture, 1861–1917. Princeton: Princeton University Press, 1985; Dralyuk B. Western Crime Fiction Goes East: The Russian Pinkerton Craze 1907–1934. Leiden: Brill, 2012.], а вот аналогичный ландшафт середины XIX века только-только становится объектом масштабного изучения[117 - См., например, сборник: Reading in Russia. Practices of Reading and Literary Communication 1760–1930 / Ed. by D. Rebecchini and R. Vassena. Milan: di/Segni, 2014; Хрестоматийные тексты: русская педагогическая практика XIX в. и поэтический канон (Acta Slavica Estonica IV. Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение, IX) / Под ред. А. Вдовина и Р. Лейбова. Тарту: Изд-во Тартуского ун-та, 2013.].
Расширение канона требует возвращения в него фигурантов литературной сцены, чьи сочинения по разным причинам были исключены из историй литературы. В первую очередь, этим занимается феминистская историография, весьма плодотворно исследующая тексты русского реализма. Работы Хильде Хоогенбоом о теории реализма Надежды Хвощинской[118 - Hoogenboom H. «Ya rab deistvitel’nosti»: Nadezha Khvoschchinskaia, Realism, and the Detail // Vieldeutiges nicht-zu-ende-sprechen: Thesen und Momentaufnahmen aus der Geschichte russischer Dichterinnen. Fichtenwalde: G?pfert, 2002. P. 129–149.] и общий разбор архива сестер Хвощинских Джен Гит[119 - Gheith J. M. Finding the Middle Ground: Krestovskii, Tur, and the Power of Ambivalence in Nineteenth-Century Russian Women’s Prose. Evanston: Northwestern University Press, 2004.] предоставляют богатый материал для осмысления роли этих писательниц не только в практике, но и в теории русского реализма. В книге «Благородные чувства и развитие русского романа»[120 - Hoogenboom H. Noble Sentiments and the Rise of Russian Novels. Toronto: University of Toronto Press, 2020 (forthcoming).] Хоогенбоом развивает эту идею, утверждая, что «сентиментальный реализм» текстов, написанных женщинами, представляет важную часть теоретического костяка русского реализма. Хоогенбоом, Арья Розенхольм, Джейн Т. Костлоу и др., таким образом, продуктивно применяют теории Наоми Шор и Маргарет Коэн[121 - См.: Schor N. Breaking the Chain: Women, Theory, and French Realist Fiction. New York: Columbia University Press, 1985; Cohen M. The Sentimental Education of the Novel. Princeton: Princeton University Press, 1999; Spectacles of Realism: Body, Gender, Genre / Ed. by M. Cohen and Ch. Prendergast. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1995.] о функционировании текстов, написанных женщинами, в период развития реализма.
Наконец, расширение канона в четвертое, материальное, измерение предполагает использование таких методологий, как археология медиа, для выявления новых пересечений различных форм и материальных носителей, в которых осуществлялось функционирование текстов реализма, вдобавок к рассмотрению уже известных пересечений реализма с материальной культурой, живописью и музыкальными формами. Сюда же можно отнести методы эко-критики, которая тоже хорошо работает с русским реализмом – в нашем сборнике примером такого подхода выступает статья К. Каминского и Э. Мартина о русском лесе, которая идет формальными путями, намеченными в важном исследовании Дж. Т. Костлоу «Кондовое сердце России: прогулки и описания русского леса в XIX веке»[122 - Costlow J. T. Heart-Pine Russia: Walking and Writing the Nineteenth-Century Forest. Ithaca: Cornell University Press, 2013.].
В транснациональном изучении реализма есть и серые зоны – общие вопросы, которые либо еще не поставлены, либо пока остаются без ответа. Среди них, например, напрашиваются следующие: почему социальное воображаемое русского реализма порождает иные типы сюжетов в рамках общеевропейских жанровых моделей? Поставляла ли русская наука XIX века русскому реализму теории в той же мере, что и другие национальные науки? Отражались ли преломленные в российском контексте западные политэкономические модели на формальной и тематической проблематике русского реализма? Иначе ли работали механизмы репрезентации этого, быть может, наиболее саморефлексивного извода реализма? Чем можно объяснить тот парадокс, что при наличии в культурном пространстве эпохи сравнительно радикальных взглядов на «женский вопрос» роль женщин-писательниц в развитии русского реализма оставалась, сравнительно, скажем, с британским вариантом, весьма ограниченной? Смеем надеяться, что статьи, представленные в сборнике, послужат отправным пунктом для дальнейших исследований, направленных на разрешение этих и других вопросов.
?
Наш сборник не состоялся бы, если бы авторы статей не проявили горячего интереса к его проблематике, а рецензенты в кратчайшие сроки не подготовили отзывы. Вряд ли нужно добавлять, что сама идея воплотилась на бумаге благодаря заинтересованности главного редактора издательства «Новое литературное обозрение» И. Д. Прохоровой, которой мы глубоко признательны за поддержку и веру в успех нашего проекта.
Социальное воображаемое и проблема жанров
Белинский и «конец искусства»
«Эстетика» Гегеля и становление русского реализма
Вадим Школьников
I. Вступление: Белинский и «Эстетика» Гегеля
«Эстетика» («Лекции по эстетике») Гегеля оказала определяющее воздействие на развитие воззрений Белинского и в особенности на его «реализм». Под «реализмом» я имею в виду специфическую, локализованную в обществе и истории структуру сознания (Gestalt des Bewu?tseins по Гегелю), модель осмысления мира и взаимодействия с ним[123 - См.: Гегель Г. Ф. В. Феноменология духа / Пер. Г. Г. Шпета. М.: Наука, 2000. С. 24. В терминологии Гегеля Gestalt des Bewu?tseins (структура или форма сознания) не тождественна понятию «мировоззрение», Weltanschauung. В «Феноменологии духа» Weltanschauung употребляется только в одном контексте, при рассмотрении морального мировоззрения Канта. Моральное мировоззрение Канта является лишь одной из множества структур сознания, описанных у Гегеля. Структура сознания определяется в конечном итоге феноменологическим исследователем, который видит то, что сознание не знает о самом себе: как каждая структура сознания в своем имманентном развитии приходит к внутреннему противоречию и самоотрицанию.]. Как показывает Л. Я. Гинзбург, именно так понятие «реализма» толковалось его первыми русскими адептами, в том числе Герценом и тем же Белинским:
Понятие реализм у Герцена не только покрывает его философскую систему; реализм Герцен трактует чрезвычайно широко. Борьба за реализм охватывает сферы политики, философии, науки, искусства, семейных отношений, быта, становится борьбой за новое понимание человека. ‹…› И это непременно переход знания в деяние, теории – в практику построения нового мира[124 - Гинзбург Л. Я. «Былое и думы» Герцена. Л.: ГИХЛ, 1957. С. 4.].
В начале 40?х годов для Герцена, для Белинского реализм – это в сущности метод построения нового, разумного мира[125 - Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. М.: INTRADA, 1999. С. 95.].
Соответственно, «Эстетика» Гегеля служит Белинскому далеко не только источником теоретических суждений об искусстве[126 - О схождениях между эстетическими суждениями Белинского и Гегеля см.: Terras V. Belinskij and Russian Literary Criticism: The Heritage of Organic Aesthetics. Madison, WI: Wisconsin University Press, 1974. P. 59–69.]. Вместе с другими частями гегелевской системы, занимавшей Белинского со времен его участия в кружке Станкевича, «Эстетика» предоставляла ему концептуальный аппарат для осмысления собственной личности, общественной деятельности и бытования реалистической литературы в среде зарождающейся интеллигенции. Это не значит, однако, что Белинский избрал эстетизирующий подход ко всем этим сферам и истолковывал их по законам искусства. Напротив, хорошо усвоив многие положения «Эстетики», «реалист» Белинский должен был отозваться (хотя бы бессознательно) на самое спорное из них: пресловутый тезис о «конце искусства». Предлагаемая работа посвящена отзвукам и следствиям этого гегелевского тезиса в трех различных областях «реалистического» сознания Белинского: в знаменитой идее «примирения с действительностью»; в эволюции его представлений об обществе и «социальности»; и в его взглядах на сходство литературы и науки.
Понимание реализма как «структуры сознания» лежит в основе гегельянской типологии реалистического романа, предложенной Маршаллом Брауном. Он видит в различных конкурирующих определениях реалистического романа «частичные истины» и считает возможным объединить их в единой диалектической конструкции, опирающейся на определение действительности (Wirklichkeit), в гегелевской «Науке логики». Настоящая работа ставит себе несколько иные задачи: «реалистическое» сознание Белинского будет вписано здесь в исторический континуум, очерченный Гегелем в «Эстетике». Я разделяю, однако же, общую посылку Брауна о том, что начала реализма – представленного, в частности, романом второй половины XIX века – лежат вне его самого. Как заключает Браун, «значение – или, говоря языком Гегеля, „истина“ – реализма обнаруживается в системе, неведомой самим реалистам»[127 - Brown M. The Logic of Realism: A Hegelian Approach // PMLA. 1981. Vol. 96. № 2. P. 224.].
Гегелевские «Лекции по эстетике» (Vorlesungen ?ber die ?sthetik) вышли из печати посмертно в 1835 году и почти сразу же стали известны в России. Белинский, как принято думать, не читал по-немецки, но к 1837–1838 годам ознакомился с важнейшими идеями этой книги с помощью своих друзей, Каткова и Бакунина, составлявших для него конспекты[128 - Белинский В. Г. Письмо М. А. Бакунину от 1 ноября 1837 // Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1953–1959. Т. 11. С. 189, 649. См. также: Белинский В. Г. Письмо Н. В. Станкевичу от 29 сентября – 8 октября 1839 // Там же. С. 386–387.]. Можно, конечно, оспаривать состоятельность такого опосредованного усвоения «Эстетики» и других трудов Гегеля, но для Белинского оно было моментом глубокого эмоционального опыта: «Я брал мысли готовые, как подарок; но этим не всё оканчивалось, и при одном этом я ничего бы не выиграл, ничего бы не приобрел: жизнию моею, ценою слез, воплей души, усвоил я себе эти мысли, и они вошли глубоко в мое существо»[129 - Белинский В. Г. Письмо Бакунину от 10 сентября 1838 // Там же. С. 281.]. Сам Белинский доверял своему пониманию «Эстетики» и опирался на нее в своих печатных статьях, вводивших идеи Гегеля в русское общественное сознание и составивших эпоху в отечественной литературной критике.
Очерченная в «Эстетике» общая история искусства оканчивается с эпохой романтизма, и к моменту смерти Гегеля в 1831 году ни в одной европейской литературе «реализм» не стал еще признанным знаменем эпохи. Однако начальную теорию реализма можно усмотреть уже в необычайно широком определении романтизма в «Эстетике» – включающем все искусство христианской Европы после заката Античности, а не только обозначившиеся к концу XVIII века течения в английском и немецком искусстве. По словам Гегеля, «подлинным содержанием романтического служит абсолютная личная жизнь ‹…› духовная субъективность ‹…› Бесконечную ценность обретает теперь действительный отдельный субъект в его внутренней жизненности»[130 - Гегель Г. В. Ф. Эстетика / Под ред. с предисл. М. А. Лифшица. М.: Искусство, 1968–1973. Т. 2. С. 233–234.]. В результате, однако, «дух ‹…› становится уверенным в своей истине лишь благодаря тому, что ‹…› полагает внешнюю реальность как некое несоразмерное ему существование»[131 - Там же. С. 232.]. Гегелевская концепция романтизма вводит, таким образом, важнейшую идею отчуждения, которая будет тесно связана с художественным реализмом XIX века и ляжет в основу «Теории романа» (1920) Лукача. Согласно Лукачу – чья теория опирается на сочинения узловых авторов русского и европейского реализма: Бальзака, Флобера, Гончарова, Достоевского и Толстого – роман представляет собой «историко-философское выражение взаимного отчуждения человека и созданных им структур ‹…› когда человек оказывается одиноким и может обрести смысл и субстанцию только в своей бездомной душе; когда мир ‹…› становится жертвой своей имманентной бессмысленности»[132 - Лукач Г. Теория романа // Новое литературное обозрение. 1994. № 9. С. 36, 53.].
Антагонизм между отдельным субъектом и внешним миром играет важнейшую роль в хорошо известном эпизоде духовной эволюции Белинского – в его предполагаемом отказе от гегельянства и от «примирения с действительностью» (к этому эпизоду мы еще вернемся)[133 - Д. И. Чижевский настаивал, что все ранние русские гегельянцы со временем отвергли Гегеля и вообще немецкую философию: «„Разочарование“ в философии было следствием чрезмерных требований, которые к ней предъявлялись, чрезмерных ожиданий» (Чижевский Д. И. Гегель в России. Париж, 1939. С. 239). Сходным образом, Херберт Боуман объяснял напряженные взаимоотношения Белинского с гегельянством его изначально «ошибочным пониманием» Гегеля (Bowman H. Vissarion Belinski. A Study in the Origins of Social Criticism in Russia. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1954. P. 23). Напротив, Плеханов хорошо видел, что, несмотря на осуждения Гегеля в письмах к Боткину, Белинский до конца жизни оставался гегельянцем (Плеханов Г. В. Сочинения / Под ред. Д. Рязанова. М.; Л.: Гос. изд-во, 1925. Т. 10. С. 343).]. В письме В. П. Боткину от 1 марта 1841 года Белинский писал: «Я давно уже подозревал, что философия Гегеля – только момент, хотя и великий ‹…› Субъект у него не сам себе цель, но средство для мгновенного выражения общего, а это общее является у него в отношении к субъекту Молохом»[134 - Белинский В. Г. Письмо В. П. Боткину от 1 марта 1841 // Белинский В. Г. Указ. соч. Т. 12. С. 22.]. Хотя Гинзбург говорит о «периоде кризиса гегельянских идей»[135 - Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. С. 99.] у Белинского, его отказ от примирения с бесчеловечной действительностью не выходит за пределы гегелевского определения романтизма: «Чем меньше [дух] считает форму внешней действительности достойной себя, тем меньше он может искать в ней свое удовлетворение и находить примирение с собой в единстве с ней»[136 - Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т. 2. С. 240.]. Вообще, в гегельянской перспективе трудно провести четкую границу между романтизмом и реализмом[137 - О совпадении романтизма и реализма см.: Fanger D. Dostoevsky and Romantic Realism. Chicago: University of Chicago Press, 1965.].
Более того, исследуя постепенную секуляризацию романтического искусства, Гегель отмечает ее внимание к жизненной прозе и способность прозревать художественность в любых областях человеческого существования – то есть те самые черты, через которые обычно определяется реализм. Абсолютная ценность внутреннего, духовного существования человека впервые проявилась, согласно Гегелю, в христианстве, и романтизм был первоначально сугубо религиозным искусством. Однако по мере своего развития, соответствующего по внутренней логике протестантизму[138 - Ср. в «Эстетике»: «только протестантизму свойственно всецело входить в прозу жизни, признавать за ней, взятой самой по себе, независимо от религиозных отношений, полную значимость и предоставлять ей развертываться с неограниченной свободой» (Т. 2. С. 309).], романтизм обращается в совершенно светское искусство, и стоявшее в его средоточии «возвышение конечного человека к богу» приходит в «земной мир»[139 - Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т. 2. С. 242.].
В изображениях романтического искусства все находит себе место: все жизненные сферы и явления, большое и малое, высокое и ничтожное, нравственное, безнравственное и злое. Чем больше это искусство становится мирским, тем в большей мере оно захватывает конечные явления мира. Эти явления становятся излюбленными предметами его изображения, оно делает их полностью значимыми, и художник чувствует себя хорошо, изображая их такими, каковы они есть[140 - Там же. С. 306.].
В этом рассуждении без труда узнаются главные моменты очерченной Белинским эстетики «натуральной школы» как первой фазы русского реализма[141 - Об эстетике натуральной школы см.: Кулешов В. И. Натуральная школа в русской литературе XIX века. М.: Просвещение, 1982; Цейтлин А. Г. Становление реализма в русской литературе: Русский физиологический очерк. М.: Наука, 1965.]. Так, сборник «Физиология Петербурга» явным образом стремился распространить сферу литературы на «все явления», извлеченные из петербургской повседневности, и сделать их «полностью значимыми». Во «Взгляде на русскую литературу 1847 года» Белинский констатировал, что «писатели натуральной школы» «любят изображать людей низкого звания, делают героями своих повестей мужиков, дворников, извозчиков, описывают углы, убежища голодной нищеты и часто всяческой безнравственности»[142 - Белинский В. Г. Взгляд на русскую литературу 1847 года // Белинский В. Г. Указ. соч. Т. 10. С. 296.]. Такой выбор тем, увиденный глазами Белинского, неизменно ассоциируется с демократическими импликациями русского реализма.
Однако здесь мы сталкиваемся с противоречием. С одной стороны, романтическое искусство погружается больше других в повседневный быт, «располагается на этой почве как в правомерной в самой себе и удовлетворяющей его стихии». «С другой стороны, это же самое содержание низводится духом до степени чистой случайности, которая не может претендовать на самостоятельную значимость, так как дух не находит в ней своего истинного существования»[143 - Гегель Г. В. Ф. Указ. соч. C. 238.]. Эту проблему распознает и Лукач, усматривающий «объективность» романа «в зрелом понимании той истины, что смысл никак не может полностью пронизать действительность, но и она без него распадается в ничто»[144 - Лукач Г. Указ. соч. С. 47.]. Согласно гегелевскому анализу романтизма, это противоречие между субъективным духом и внешним миром больше не сможет найти разрешения в искусстве:
Сплетаясь друг с другом, эти стороны постоянно вновь отделяются друг от друга, пока наконец не расходятся совсем. Этим они показывают, что своего абсолютного соединения им следует искать в другой области, а не в искусстве[145 - Гегель Г. В. Ф. Указ. соч. C. 286.].
Конечной точкой романтического искусства является случайность как внешнего, так и внутреннего элемента и распадение этих сторон, вследствие чего само искусство устраняет себя и показывает, что для постижения истины сознанию необходимо перейти к более высоким формам, чем те, которые может дать искусство[146 - Там же. С. 243.].
Этот результат мы не должны рассматривать как чисто случайное несчастье, постигшее искусство лишь вследствие трудного времени, прозаичности, недостатка интереса и т. д. Он является действием и поступательным движением самого искусства[147 - Там же. С. 315.].
Гегелевский тезис о «конце искусства» не означает, что художественному творчеству придет конец или что люди потеряют к нему интерес. Гегель нигде не говорит, например, о «смерти искусства»[148 - Snyder S. End-of-Art Philosophy in Hegel, Nietzsche and Danto. Palgrave-Macmillan, 2018. P. 9.]
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: