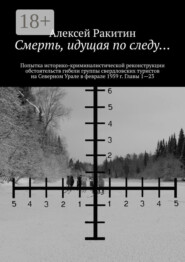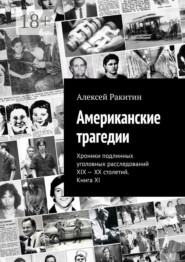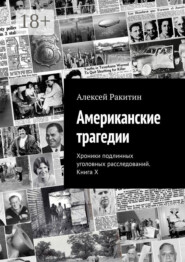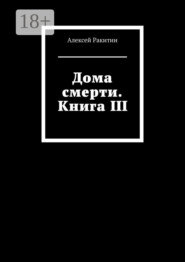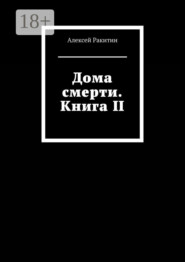По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Смерть, идущая по следу… Попытка историко-криминалистической реконструкции обстоятельств гибели группы свердловских туристов на Северном Урале в феврале 1959 г. Главы 23—36
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
1-й специальный отдел центрального аппарата КГБ, ответственный за контрразведывательное обеспечение объектов атомной отрасли Советского Союза, прилагал большие усилия по контролю за поведением лиц, допущенных к работе по «атомной тематике». В 1955 г. разразился настоящий скандал, когда выяснилось, что один из крупных руководителей атомной отрасли решился на сознательное нарушение режимных требований.
Анатолий Сергеевич Александров, генерал-майор, трижды лауреат Сталинской премии, с 1951 г. возглавлял КБ-11 – головную организацию по разработке ядерных боевых частей. Базировалось КБ в хорошо известном ныне «Арзамасе-16», там были сконструированы первые атомные и термоядерные БЧ, как экспериментальные, так и серийные. Анатолий Сергеевич, проводя много времени в Москве по делам службы, имел в столице квартиру, в то время как семья его проживала в закрытом «номерном» городе. Будучи предоставлен сам себе и располагая немалыми средствами, генерал Александров не чурался «светской» жизни в тогдашнем понимании – ходил по театрам, ресторанам, заводил романтические знакомства. Сначала МГБ, а затем и КГБ внимательно следили за его похождениями, до поры не демонстрируя свою осведомленность о проделках заслуженного генерала. Однако в 1955 г. Александров, которому шел 56-й год, завёл роман с сотрудницей иностранного посольства, младше его на пару десятков лет. Подобное несанкционированное поведение шло против всех требований сохранения гостайны, и руководитель Комитета – Иван Серов – сделал соответствующее представление Хрущёву. Может показаться невероятным, но генерал Александров набрался наглости и в свою очередь пожаловался на Серова, дескать, ему эти «стукачи» и «топтуны» жизнь портят, у него тут любовь, понимаешь ли, романтика и элегия чувств! Хрущёв, обычно не склонный к сантиментам и скорый на расправу, проявил неожиданную мягкость – он пожурил генерала Александрова и… отправил его возводить «Красноярск-45», еще один «номерной атомный» город далеко на востоке страны. Кстати, на освободившееся место начальника КБ-11 из «Челябинска-40» прибыл директор комбината №817 Борис Музруков.
Генералу Александрову после выдворения из Москвы следовало бы угомониться и радоваться тому, что отделался он столь малой кровью, однако урок ловеласу не пошёл впрок. В 1958 г. Анатолий Сергеевич имел неосторожность попроситься обратно в Москву – поближе к театрам, ресторанам и прочим столичным благам. Эта просьба вызвала прилив гнева у Хрущёва, который не поленился припомнить работу Александрова в системе ГУЛАГа во времена Берии и без долгих проволочек велел гнать трижды лауреата на пенсию.
В общем, советская госбезопасность очень придирчиво подходила к систематической проверке секретоносителей всех уровней, несмотря на проявленную ими прежде надёжность и лояльность. Перлюстрации подвергалась почта, проверялись почтовые посылки, периодически производилось прослушивание телефонных переговоров и разговоров на дому, проверялись люди, с которыми контактировали секретоносители. Сбор сведений осуществлялся путём широкого привлечения агентуры, «конфиденциальных помощников», как иногда называли осведомителей штатные сотрудники КГБ, но при этом и сами «конфиденты» негласно проверялись самыми разнообразными методами и приемами. Система контроля за поведением работников предприятий атомной отрасли – в том числе и «Челябинска-40» – с полным правом может быть охарактеризована как тотальная, всеохватная, хотя и почти незаметная для окружающих. По крайней мере для тех, кто не знал приёмов и методов чекистской работы.
В МГБ, а затем и в Комитете государственной безопасности всерьёз рассматривали возможность проникновения вражеских диверсионных групп внутрь охраняемого периметра с целью проведения силовых акций по срыву выпуска продукции комбинатом №817. Наработанные радиохимическим заводом кусочки оксида плутония-235 доставлялись на аффинажный завод под усиленной охраной на двух автомашинах. Мало того, что машину с плутонием сопровождал грузовик со взводом автоматчиков и пулеметами, так ещё вдоль дороги с интервалом в 50 м выставлялись часовые.
Один из самых распространенных современных мифов, связанных с атомным оружием вообще и его производством в СССР, сводится к тому, что, мол-де, отечественные специалисты не знали всей опасности радиоактивного облучения и нарабатывали опыт в этой области методом проб и ошибок. Такой взгляд на вещи совершенно не соответствует действительности. То, что ионизирующие излучения распадающихся атомов опасны, ученые поняли ещё на заре изучения радиоактивности. Вплоть до 1945 г. опасность эта в целом недооценивалась, но после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки – как ни кощунственно это звучит – медики получили колоссальную статистику по характеру разнообразных воздействий атомного оружия на человека. Стало ясно, что атомное оружие наносит основной ущерб отнюдь не ударной волной и термическим воздействием во время взрыва, а ионизирующим облучением и радиоактивным заражением грунта, воды и продуктов питания. Осознание этого факта простимулировало научно-исследовательские работы в области радиационной медицины в самых разных странах мира – США, СССР, Великобритании, Франции, Канаде, Швеции и пр.
В СССР работы по изучению воздействия различных видов радиоактивности на человеческий организм возглавил крупный ученый Н. В. Тимофеев-Ресовский. Его Радиобиологический отдел, входивший в систему Первого Главного управления при Совете министров СССР, располагался в бывшем санатории НКВД «Сунгуль», неподалеку от города Касли Челябинской области (сразу вспоминаем, как американская разведка на слушаниях в Сенатской комиссии рассказывала об этом объекте, но честно признавала, что не вполне ясно понимает, что именно происходит в том районе). На Тимофеева-Ресовского работали некоторые из немецких ученых, вывезенных после мая 1945 г. на восток.
К 1949 г. чрезвычайная опасность проникающих ионизирующих излучений, способных вызывать поражения внутренних органов и крови, уже была хорошо известна. Исследования плутония показали, что это очень токсичный химический элемент, куда более смертоносный, чем циановые соединения, считавшиеся до той поры «эталонными» ядами. Первый этап работы радиохимического завода в Челябинске-40 закончился с пуском в 1950 г. уже упомянутого в этой главе так называемого «цеха №1» и санитарного пропускного пункта к нему. Прежнее здание, в котором, собственно, и был выделен плутоний для первой советской атомной бомбы, после пуска цеха №1 оказалось похоронено в прямом смысле – поверх него насыпали огромный холм и насадили березки. Теперь там настоящий лес… Вся одежда, в которой трудились первые работники радиохимического завода, была сожжена, а пепел пошёл в могильник.
История эта приведена здесь единственно для того, чтобы доказать очевидную любому специалисту по радиохимии истину – уже к 1950 г. советские ученые и руководители производства ясно сознавали огромную опасность радиации и предпринимали все возможные меры к её уменьшению.
Впрочем, и без хиросим-нагасак повседневный опыт работы в Челябинске-40 давал вполне достаточную пищу для должного понимания всей степени опасности радиационного поражения. Разного рода аварийные ситуации возникали достаточно часто, а в таких условиях постигать необходимые для выживания уроки приходилось очень быстро. В 1950 г. в «сороковке» произошли 3 аварии, связанные с утечкой радиоактивности, переоблучение получили 7 работников комбината. В 1951 г. таких аварий было зафиксировано уже 4, а облучение сверх норматива получили 8 человек (из них 1 умер от острого радиационного поражения). В 1952г. произошло еще 4 аварии (2 погибших). А следующий год, 1953-й, оказался воистину «чёрным» для работников «817-го комбината» – на запущенных к тому времени и подготавливаемых к пуску четырёх реакторах имели место 5 аварий, жертвами которых стали 17 человек. Как видим, с 1949 по 1953 г. аварийность в «сороковке» – как по числу аварий, так и по количеству жертв – шла по нарастающей. Кстати, эта статистика, преданная огласке представителями московского Института биофизики только в 21 столетии, заведомо неполна, поскольку касается только аварий, связанных с реакторами комбината, и не учитывает аварийность радиохимического производства, которое следует признать гораздо более опасным с точки зрения возможности переоблучения персонала. И говорить, что в таких условиях кто-то из работников комбината №817 не сознавал в должной мере опасности радиоактивного поражения, не то что бы наивно, а просто глупо.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: