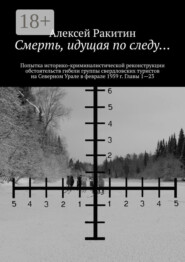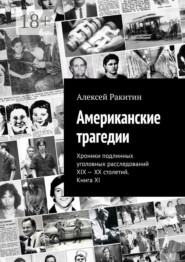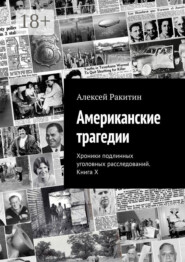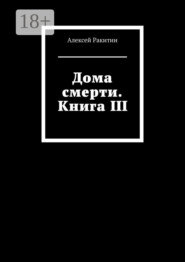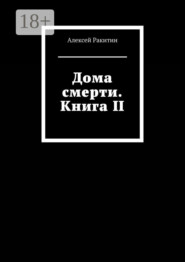По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Смерть, идущая по следу… Попытка историко-криминалистической реконструкции обстоятельств гибели группы свердловских туристов на Северном Урале в феврале 1959 г. Главы 23—36
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Напомним, что к этому времени «Сибирская станция» была далека от завершения – её стройка закончилась лишь через шесть лет. А потому не может быть никаких сомнений в том, что какой-то американский «крот» действительно работал там в 1957 г.
В 1956 г. американская разведка осуществила одну из самых скандальных операций за всё время своего существования, вошедшую в историю под названием «хоум ран» («home run»). В период с 21 марта по 10 мая самолеты-разведчики «стратоджет» различных модификаций совершили по крайней мере 156 глубоких вторжений в воздушное пространство СССР в районе Кольского полуострова, Урала и Сибири. К операции привлекались в общей сложности 21 самолет-разведчик и до 15 самолетов-заправщиков; благодаря использованию последних дальность полетов «стратоджетов» увеличивалась с 6,5 тыс. км до 9,4 тыс. км и даже более в зависимости от количества дозаправок в полёте.
Схема из американской книги, иллюстрирующая операцию «home run». Она наглядно демонстрирует маршруты разведывательных полетов RС-47 во 2-й пол. 1950-х гг. Условные обозначения: 1 – авиабаза ВВС США в г. Туле, Гренландия, выбранная для размещения самолетов RС-47 ввиду равноудаленности от основных районов разведки на территории СССР; 2 – аэропорт в г. Фэрбанкс, Аляска, использовавшийся для базирования самолётов-заправщиков; + – м. Канин Нос в Баренцевом море, в районе которого летом 1960 г. истребитель МиГ-19 капитана В. Полякова сбил американский самолет-разведчик RС-47 «Стратоджет», пытавшийся проникнуть в район Северодвинска. Разведчики, размещенные на авиабазе Туле (Гренландия), летели к Советскому Союзу через Северный полюс, а самолеты-заправщики поднимались из Фэрбэнкса на Аляске и дозаправляли их в зависимости от полётного задания либо при движении к объекту разведки, либо уже на обратном пути. Во время отдельных вылетов «стратоджеты» сжигали топлива больше собственной взлётной массы. Хорошо видны 3 основных сектора, на которые были разделены северные районы Советского Союза: Кольский полуостров и Новая земля, Урал, Чукотка. Последняя особенно интересовала американцев как район базирования советской авиации для удара по Аляске в случае войны. Некоторые «бывшие советские лётчики» пытались высмеять на интернет-форумах саму мысль о возможности разведывательных полетов американских самолетов через Северный полюс с дозаправками, до такой степени она казалась им вздорной. Что ж, пусть посмотрят на американскую картинку… А мы порадуемся, что этим «бывшим военным» балбесам не довелось защищать нас от настоящих американских«бомберов» – итог, боюсь, оказался бы очень печален для всех нас.
На одном из интернет-форумов, где активно обсуждались различные версии гибели группы Игоря Дятлова, многие неосведомленные «самодеятельные исследователи» задавались вопросом: откуда над Уралом могли появиться американские самолёты-разведчики, неужели они летели через Северный полюс? В вопрос этот вкладывался весь возможный сарказм, и в понимании задававших его «знатоков» перелёт из-за Северного полюса был равноценен полету с Луны или Марса. «Знатоки», к сожалению, не знали, что через полюс летал ещё Чкалов. Историческая правда состоит в том, что американские самолеты-разведчики RС-47 во второй половине 1950-х легко и непринужденно летали на Урал именно через Северный полюс. Увидеть их в небе где-нибудь над Денежкиным Камнем или Отортеном можно было чаще, чем иному читателю этого исследования повстречать своих соседей по подъезду.
И это не шутка и даже не очень большое преувеличение.
В ходе упомянутой операции«хоум ран» на протяжении 50 дней американцы осуществляли в среднем более 3 нарушений воздушного пространства СССР с северного направления в сутки. Подчеркну, в сутки! Причем 156 разведывательных самолетов-вылетов – это число, официально признаваемое американцами, и далеко не факт, что оно соответствует действительности. Так, например, ЦРУ признает лишь 28 полетов самолетов U-2 над территорией СССР в период 1956—1960 гг., но практически нет сомнений в том, что эта величина занижена примерно раз в 10. Забавно и то, что ЦРУ и Министерство обороны США сообщают разное число разведывательных полетов U-2 по всему миру: ЦРУ утверждает, что таковых было осуществлено около 2800, а военное ведомство насчитывает их примерно 3100 (разница более чем в 10% какая мелочёвка, правда?).
Само название воздушной операции совершенно точно передаёт её смысл, хотя и подобрано не без некоторого издевательского подтекста. «Home run» – это термин из бейсбола, означающий особую игровую ситуацию, когда отбивающий мяч удачно выбивает его за пределы поля, что позволяет ему без помех достичь домашней базы. В каком-то смысле это «чистая победа», достижению которой противная сторона не в силах помешать.
Советские компетентные органы в связи с операцией «хоумран» зашевелились с заметным опозданием. На это, видимо, повлияла как общая инертность в принятии решений, присущая советскому руководству, так и слабость ПВО в северных районах страны. Защитники советского неба оказались неспособны обнаружить подавляющее большинство пролетов американских самолетов. Руководство в Москве очнулось лишь тогда, когда американцы стали действовать совсем уж нагло – 6 мая 1956 г. пролет от Амбарчика до Анадыря и обратно совершили сразу 6 «стратоджетов»! Фактически американцы сымитировали массированный ядерный удар по стратегическим объектам в глубине Советского Союза, причем совершенно безнаказанно. А это уже не лезло ни в какие ворота! Советская ПВО была бессильна, за время операции«хоум ран“ перехватчики поднимались в небо всего 4 раза. Эффективность их действий оказалась нулевой, летчики наших МиГов ничего не могли противопоставить издевавшимся над ними в радиоэфире пилотам „стратоджетов“. 10 мая 1956 г. МИД СССР разразился гневной нотой, призывая на головы „американской военщины»всевозможные проклятия, однако эти поношения не могли скрыть неспособность советской ПВО противостоять противнику. Примечательно, что обнаглевшие янки, сознавая собственную неуязвимость, направили ответную ноту, в которой доказывали неправоту выдвинутых обвинений.
Использование «воздушных танкеров» позволило американской разведке снять все ограничения по дальности самолётов-разведчиков RC-47. С четырьмя дозаправками в воздухе «стратоджет» совершил даже беспосадочный полёт вокруг земного шара, продолжавшийся около 22 часов.
В последующем военная разведка США использовала северное направление для ведения интенсивных операций по сбору стратегической информации о военно-промышленном потенциале СССР. Группировка самолетов-разведчиков в Туле, насчитывавшая в разное время 20—25 самолетов, действовала против Советского Союза на постоянной основе вплоть до 1963 г. Всё северное побережье нашей страны было разбито на три«окна», или сектора, за каждый из которых отвечала своя авиационная группа. Первый сектор включал в себя Кольский полуостров, Белое море и побережье до Уральских гор (объекты разведки – базы Северного флота, Северодвинск, космодром Плесецк). Второй – район Урала и Западной Сибири (атомный полигон на Новой Земле, «атомные города» и крупные промышленные центры Урала). Наконец, третье«окно» – район Чукотки (американцев беспокоила возможность использования стратегической авиацией СССР аэродромов в этом районе в качестве авиабаз «подскока» для удара по Аляске). Интенсивность вторжений «стратоджетов» в глубь воздушного пространства СССР резко пошла на убыль после лета 1960 г. (когда американский разведчик был сбит в районе мыса Канин Нос), хотя отдельные пролёты вдоль границ с эпизодическим проникновением вглубь воздушного пространства продолжались вплоть до лета 1963 г. Только тогда появление на вооружении советских сил ПВО истребителя МиГ-19 положило конец неуязвимости скоростного разведчика.
На одном из тематических форумов ветеран советских военно-воздушных сил, глубоко уязвленный описанием операции «хоум ран» в этом исследовании, посетовал на то, что автор совершенно не разбирается ни в авиации, ни в истории. И авторитетно заявил, что операция «хоум ран» была сорвана умелыми действиями советских ПВО, которые своевременно перебросили гвардейский полк истребительной авиации на базу в поселок Амдерма на берегу Карского моря. Выражаясь метафорически, этот полк и закрыл своей широкой грудью весь север Советского Союза! Ветеран искренне гневался на то, что Ракитин взялся писать о славной истории отечественной авиации, не имея понятия о выдающихся заслугах героев нашего неба.
Ветерана можно успокоить: о выдающихся заслугах лётчиков-гвардейцев по разгону полчищ американских стратегических разведчиков неизвестно не только Ракитину. Об этом ничего не знали ни в Политбюро ЦК КПСС, ни в МИДе, ни даже в Министерстве обороны СССР. 21 апреля 1958 г. по настоянию Советского Союза было проведено заседание Совета безопасности ООН, посвященное проблеме массовых нарушений американскими воздушными судами северных границ СССР. Советское политическое руководство расписалось в своём полном бессилии и неспособности бороться с американцами «на равных». Иллюзий относительно того, что наши военные вот-вот начнут пресекать американские поползновения, уже не осталось – Хрущёв понял, что пора начинать «бить челом» дипломатам. Так что мой изобличитель несколько поспешил с высокими оценками заслуг летчиков-гвардейцев. Ни в 1956 г., ни в последующие годы наличие гвардейского истребительного полка в Амдерме ничуть не мешало супостату нарушать границы СССР по собственному желанию. Золотопогонные советские маршалы могли выстроить крылом к крылу полчища МиГов от Мурманска до мыса Дежнева, но даже это не позволило бы помешать американцам летать там, где они хотели.
Увы, такова нелицеприятная правда Истории…
Всем интересующимся военно-дипломатической историей Советского Союза будет небезынтересно узнать, что МИД СССР, насколько известно автору, вручал американской стороне по меньшей мере 3 (!) ноты протеста, связанные с «грубыми», «вопиющими», «циничными» или «групповыми» нарушениями воздушного пространства страны самолетами США. Вручение нот происходило 10 июля 1956 г., 8 марта 1958 г. и 21 апреля 1958 г. В этом перечне нет упомянутой ранее ноты протеста от 10 мая 1956 г., вызванной американской операцией «хоум ран», и специального заседания Совета безопасности ООН. Вполне возможно, что документов подобного рода много больше, только они покуда закопаны глубоко в недра МИДовской переписки и остаются скрыты от глаз общественности.
Впрочем, вернемся к противовоздушной обороне дол и небес родины социализма. Никакого щита советская ПВО в 1950—1960-х гг. из себя – увы! – не представляла. В особенности с северных направлений. Советский авиаконструктор Леонид Львович Кербер, много лет проработавший в КБ Туполева, весьма выразительно описал это в своих воспоминаниях: «Северные границы страны не были достаточно прикрыты от проникновения к нам чужих бомбардировщиков через Арктику. Причина заключалась в недостаточной дальности действия наземных радиолокационных станций ПВО. <…> Имелись альтернативные решения: вынести РЛС на лёд, ближе к полюсу, либо поднять антенны на высокие башни. Первый отвергал опыт Папанина – ледяные поля центральной Арктики дрейфовали в сторону Атлантики. Второе вызывало сомнение: возможно ли соорудить вдоль побережья десятки эйфелевых башен?»
Фотография, дающая представление об экипировке американского десантника. Это снимки из коллекции «зеленого берета», инструктора по парашютной подготовке Луиса Смита. Забрасываемые американцами разведчики использовали элементы штатного десантного комплекта: шлем с защитными очками, комбинезон, два парашюта, грузовые прорезиненные мешки (в зависимости от вместимости 2—5 штук), прыжковые ботинки. Почти всегда «транзитеры» применяли устройства принудительного раскрытия парашюта, что повышало безопасность при десантировании в тёмное время суток. Опционально, в зависимости от сложности десантирования, придавался дыхательный комплект. Первая задача агента после приземления заключалась в том, чтобы переодеться и спрятать десантное снаряжение, передать по радиостанции условный сигнал о благополучном приземлении, затем, если задание предусматривало совместные действия членов группы, следовал их поиск.
Поскольку построить десятки Эйфелевых башен за полярным кругом не мог даже такой сумасшедший прожектёр, как Никита Сергеевич Хрущёв, в июле 1958 г. было принято решение проектировать и строить первый советский самолет дальнего радиолокационного обнаружения, получивший впоследствии обозначение Ту-126. Интересное совпадение, не правда ли – в конце апреля 1958 г. советские дипломаты устроили скандал в Совете безопасности ООН, сетуя на полную безнаказанность американских вторжений, а через три месяца политическое руководство страны приняло решение строить самолет дальнего радиолокационного обнаружения.
Высоколобые знатоки марксистско-ленинской теории наконец-то осознали, что на практике без такого самолета никакого «щита ПВО» у СССР на севере не будет никогда. Работали над Ту-126 довольно долго, первый полёт прототипа состоялся через четыре года, а принятие на вооружение – в 1965 г. Все самолеты этого типа (в количестве 9 штук), базировались на Кольском полуострове. Нам история Ту-126 интересна постольку, поскольку ярко и выпукло демонстрирует истинное положение с радиотехническим обеспечением ПВО того времени.
Такова историческая правда, хотя, понимаю, она очень неприятна заслуженному «ветерану-разоблачителю» Ракитина.
Кстати, уже во время операции «хоум ран» разведывательные «стратоджеты» стали использовать осветительные авиабомбы крупного калибра (1 т) и убедились в их высокой эффективности. В носовой части RВ-47 устанавливалась мощная фототехника, позволявшая делать как фотоснимки высокого разрешения непосредственно над целью, так и панорамные с большого удаления. «Подвесив» осветительную бомбу в темное время суток в районе интересующего объекта и сделав с некоторым интервалом фотоснимки при разной высоте источника освещения, разведчики получали возможность весьма точно определить высоту практически любого объекта на местности по длине отбрасываемой тени (и изменению этой длины).
Описанный способ подходил для определения высоты опор ЛЭП (и соответственно, их мощности), труб, корпусов промышленных объектов и т. п. «Самодеятельные исследователи» трагедии группы Игоря Дятлова перепробовали на роль «огненных шаров» всю небывальщину, до какой только смогли додуматься – от инопланетных кораблей до баллистических ракет, прилетающих из ниоткуда и улетающих в никуда, – однако почему-то не задумались о таком очевидном источнике яркого свечения, как осветительная авиабомба большого калибра.
Этот боеприпас удовлетворяет поведению «огненных шаров» по всем параметрам. Горение светового состава давало форс пламени много ярче лунного света, светимость таких бомб исчислялась миллионными кандел (немецкая авиабомба образца 1942 г. калибром 950 кг давала, например, светимость в 2 млн. кандел, что соответствовало примерно 20 тыс. 100-ваттных лампочек!). Одной авиабомбы было достаточно для того, чтобы осветить объект размером с крупную железнодорожную станцию. Опускавшаяся на парашюте со скоростью ~5—8 м/с осветительная авиабомба крупного калибра начинала гореть на высотах около 5 км и горела почти до самой земли (около 1000 с., т. е. 16—17 мин.!). Упомянутая выше немецкая бомба образца 1942 г. имела корпус с нанесенным снаружи алюминиево-магниевым покрытием (вроде хорошо всем знакомой детской игрушки «бенгальский огонь»); в конце рабочего цикла корпус авиабомбы выгорал не только изнутри, но и снаружи, так что на землю падала металлическая труха, порой рассыпавшаяся в воздухе. По остаткам полностью выгоревшей бомбы было практически невозможно понять, что же именно светилось в небе. В принципе, самыми демаскирующими деталями такой бомбы являлись парашют и жаропрочные сопла, которые служили источником форса пламени в полете, но даже будучи найденными где-нибудь в тайге или степи, они никак не могли являться доказательством проведения в этой местности секретной операции. Другими словами, упавшая бомба ничем не изобличала того, кто её сбросил.
Американцы уделяли исключительное внимание обучению своих разведчиков навыкам десантирования. Для прохождения парашютной подготовки будущие «транзитёры» обычно перевозились из Европы в США, где занимались в Форт-Брэгг, главной базе воздушно-десантных сил. Применение устройств по автоматическому раскрытию парашютов существенно повышало безопасность десантирования. А использование осветительных авиабомб позволяло осуществлять выброску десантников в тёмное время суток, в основном в предрассветные часы. Скорость снижения парашютиста гораздо ниже скорости осветительной авиабомбы (~2 м/с), так что он всё время оставался выше светового конуса и не был виден с земли. При спуске десантируемые агенты могли выбрать оптимальное место посадки (в стороне от водоемов, скал, жилых строений и т. п.). Зачастую «транзитеры» высаживались в нескольких десятках метров друг от друга, не теряя даже голосового контакта. При десантировании все они были облачены в штатные комбинезоны, обувь и шлемы, применявшиеся в американских воздушно-десантных силах, поэтому агенты перво-наперво переодевались в обычную для советских людей одежду.
После этого в максимально возможном темпе они скрывали демаскирующие их признаки и покидали район высадки. К моменту восхода солнца агенты должны были уже двигаться по заданному маршруту. Имевшийся в их распоряжении целый световой день они обычно использовали для безостановочного движения, дабы оторваться от возможного преследования. Понятно, что десантирование в предрассветные часы давало разведчикам столь нужную им фору в несколько часов, благодаря которой эффективность возможного противодействия правоохранительных органов резко снижалась.
Остается добавить, что время от времени советской госбезопасности удавалось отыскать устроенные «транзитёрами» тайники с десантной амуницией, порой заминированные. Обнаруженные там парашюты и детали одежды иногда даже предъявлялись журналистам – в том случае, если принималось политическое решение предать случившееся гласности. Одна из таких пресс-конференций для советских и иностранных корреспондентов, сопровождавшаяся демонстрацией изъятой из тайников десантной амуниции, имела место, например, 6 февраля 1957 г. в Москве, в Центральном Доме журналиста. (Напомним, что годом ранее – 9 февраля 1956 г. – в Москве была устроена другая примечательная пресс-конференция, на которой были представлены детали 50 американских разведывательных аэростатов, сбитых к тому времени в воздушном пространстве СССР. Их гондолы были выставлены в шеренгу перед зданием, а огромные разорванные баллоны занимали часть автостоянки ЦДЖ; впрочем, об этом в настоящем исследовании уже упоминалось).
Темнота предрассветных часов служила отличной маскировкой десантирования транзитных агентов. Большинство людей в 4—5 часов утра крепко спят, и даже если кто-то из немногочисленных местных жителей видел в небе яркое пятно, он вряд ли мог понять природу таинственного свечения. Парашют авиабомбы во время ее горения оставался невидим, незначительная скорость снижения авиабомбы практически не изменялась, а потому наблюдателю с Земли долгое время должно было казаться, что объект летит горизонтально либо вообще висит в небе неподвижно. Никаких специфических, узнаваемых звуков в процессе планирования такой авиабомбы не генерировалось. Если человек не наблюдал ранее подобной картины, он просто не мог сообразить, с чем же имеет дело. Примечательный нюанс: солдаты и офицеры на фронте, как правило, сталкивались с осветительными снарядами, имевшими и меньшую светосилу, и меньшее время горения (несколько десятков секунд). Так что боевой опыт даже воевавших людей мало мог им помочь. Осветительные бомбы крупных калибров использовались для нанесения авиационных ударов по площадным целям, прежде всего городам. Однако шанс, что житель Москвы, Смоленска или Ленинграда, переживший бомбежки времен Великой Отечественной войны, окажется где-нибудь в районе Отортена (или в какой-либо другой глухомани), был ускользающе мал. Поэтому, каким бы парадоксальным ни казалось высказанное автором предположение, американцы, используя осветительные бомбы во время разведывательных рейдов «стратоджетов», практически ничем не рисковали. (Во избежание неправильного толкования автор считает нужным уточнить, что сказанное касается не использования осветительных бомб, ибо это исторический факт, а того, что подобная практика не нарушала скрытности полётов.)
В секретной информационно-аналитической записке, направленной Председателем КГБ при Совете министров СССР А. Серовым в ЦК КПСС в июне 1957 г., о нелегальной заброске агентуры иностранных разведок на территорию СССР сообщалось в следующих выражениях (цит. по книге О. М. Хлобустова «Госбезопасность России от Александра 1 до Путина»): «За последние три года органами безопасности при активной помощи советского народа были пойманы на советской территории десятки шпионов, проникших нелегальным путём (морем, воздухом, через сухопутные границы), у которых были изъяты радиостанции, оружие, фотоаппараты, средства тайнописи, яды, фиктивные документы и значительные суммы советских денег и иностранной валюты. По изъятым у этих шпионов документам и по их личным показаниям, а также по материалам, полученным нами из других источников, видно, что разведки капиталистических государств всеми силами стремятся добывать сведения о наших вооруженных силах, о новой технике и достижениях советской науки, пытаются проникнуть в важные промышленные центры страны и объекты оборонного значения и атомной промышленности». С одной стороны, написанное выглядит вроде бы расплывчато, нос другой – исчерпывающе. В общем, как говорили древние, умному – достаточно…
Для полноты картины приведем весьма красноречивую цитату, выражающую отношение противников СССР к их действиям в тот период. Принадлежит сказанное Аллену Даллесу, главе ЦРУ США, своего рода антиподу Серова и человеку не менее, а возможно и более информированному, чем Председатель КГБ. Эта цитата ставит выразительную точку в наших рассуждениях: «Тайная добыча секретной информации – прежде всего действенное средство по преодолению препятствий для подхода к объекту. Мы выбираем тот или иной объект. Дело противной стороны возвести преграды, чтобы мы не проникли туда. Обычно противник знает, какие объекты более всего интересуют нас. Их он охраняет особенно тщательно. <…> Поэтому разведке США приходится прилагать неимоверные усилия, чтобы выявить эти важнейшие военные сооружения, скрытые нередко за тысячи миль от проторенных дорог. Для тайного сбора информации используются люди – агенты, информаторы, связники. В этих целях привлекается и техника: ныне имеются такие технические средства, которые могут увидеть то, что неспособен заметить человек. <…> Суть шпионажа, его альфа и омега – создать возможности для подхода к объекту, получить к нему доступ. И, конечно, сделать это так, чтобы не привлечь внимания лиц, которые охраняют этот объект. Тайный агент находит путь к нему, устанавливает за ним наблюдение, затем возвращается и докладывает о том, что увидел» (Даллес А. «ЦРУ против КГБ. Искусство шпионажа.» М.: 2000. С. 98—99). Как говорится, ни прибавить, ни отнять. Хотя написаны эти азбучные истины были аж в 1962 г., они и в 2010 г. прозвучали совершеннейшим откровением для подавляющего большинства «самодеятельных исследователей», узнавших лишь от автора настоящего исследования о продолжительном присутствии американских нелегалов на Урале. В головах малообразованных людей не укладывалась мысль о том, что во второй половине 1950-х гг. по Уралу вовсю ходили американские «транзитники», а в небесах десятками летали самолеты-разведчики. Да притом как летали – через Северный полюс! Диво дивное… Воистину, нельзя не поражаться такой наивности и простодушию.
Полёты американской разведывательной авиации над территорией Советского Союза продолжались на протяжении всего 1957 года и продолжились в следующем 1958 году. Очередной инцидент, вызвавший серьёзный дипломатический скандал, произошёл 2 марта в 11:05 по местному времени. Тогда американский военный реактивный самолет, появившись со стороны Японского моря, нарушил государственную границу Советского Союза над малонаселенным районом Приморского края неподалёку от посёлка Великая Кема и проник глубоко в воздушное пространство Советского Союза, после чего безнаказанно ушёл в сторону Японского моря в районе южнее бухты Ольга. Расстояние между точками пересечения государственной границы на вход и выход превысило 230 км.
Через несколько дней – 6 марта – Чрезвычайный и полномочный посол СССР в США Михаил Александрович Меньшиков вручил Государственному секретарю Даллесу памятную записку, выдержанную в весьма раздраженном тоне (хотя и вполне корректную по форме). На следующий день госсекретарь в ходе личной беседы довёл содержание этой записки до сведения Президента Эйзенхауэра. В меморандуме по итогам последовавшего обсуждения, написанном Даллесом и хранящемся в архиве Государственного департамента, содержится примечательная фраза: «Президент выразил твердое мнение, что такие нарушения должны быть прекращены» («The President indicated a strong view that such infractions should be discontinued.»).
Американская сторона провела внутреннее расследование инцидента, вернее, сделала вид, что провела и 31 марта уведомила советский МИД, что никакой ясности в разрешении возникшей проблемы не добилась. Дескать, Соединенные Штаты не могут определить, находились ли какие-либо военные самолеты США в непосредственной близости от Советского Союза 2 марта. Эта отговорка выглядела совершенно возмутительно и неудивительно 21 апреля советская сторона уведомила Госдеп, что считает полученный 31 марта ответ «неудовлетворительным». Американские партнёры в ответ, если выражаться метафорически, лишь пожали плечами, дескать, проблемы индейцев шерифа не волнуют.
Через несколько дней – 24 апреля 1958 года – генерал Эндрю Гудпастер (Andrew Jackson Goodpaster), офицер связи по вопросам обороны при Президенте Эйзенхауэре, встретился с главой ЦРУ Алленом Даллесом. В меморандуме, составленном по результатам этой встречи, Гудпастер написал: «AD [имеется в виду Аллен Даллес – прим. Ракитина] спросил, можно ли послать [в Советский Союз] человека на низколетящем самолете. После проверки я сказал ему «хорошо». " (дословно на языке оригинала: «A.D. asked if OK to send a man in by low-flying a/c. After checking I told him OK.»)
Перед нами весьма примечательная перемена мнений – 7 марта президент требует прекратить разведывательные полёты над территорией Советского Союза, а через 6 недель – 24 апреля – его офицер связи даёт главе разведывательного ведомства карт-бланш на заброску агента с низколетящего самолёта.
Уже 5 мая Государственный департамент направил в советское посольство в Вашингтоне лаконичную ноту, в которой повторил высказанное 31 марта отрицание советских обвинений, а сам инцидент с глубоким прорывом самолёта-разведчика, имевший место 2 марта, назвал «предполагаемым» («the alleged incident»).
Эти опасные игры в воздушном пространстве мощной в военно-техническом отношении страны были чреваты самыми неожиданными инцидентами. Можно даже сказать, что такие инциденты были запрограммированы наглостью американцев. Один из них произошёл 27 июня 1958 года. В тот день военно-американский транспортный самолет C-118 «liftmaster», якобы следовавший из Висбадена (Западная Германия) через Никосию (Кипр) в Тегеран и Карачи почему-то оказался в Кавказских горах в районе Еревана. Маршрут его движения от Никосии к Тегерану пролегал примерно в 200 км южнее, однако пилоты якобы потеряли ориентацию и в итоге самолёт оказался над территорией Советского Союза.
Там борт покинули 5 парашютистов. На перехват были подняты 5 советских истребителей-перехватчиков, из числа которых 2 машины – капитана Светличникова и старшего лейтенанта Захарова – атаковали самолёт-нарушитель. Огнём бортовых пушек им удалось поджечь С-118. Экипаж последнего, проявив чудеса пилотирования, посадил самолёт в горной местности, где и был благополучно взят под стражу. В холе масштабной поисковой операции, проведенной при поддержке пограничных войск и частей вооруженных сил, сотрудниками госбезопасности были обнаружены и арестованы все 5 парашютистов, десантировавшихся с борта подбитого С-118. В числе взятых под стражу оказался высокопоставленный офицер военной разведки США полковник Дэйл Брэннон (Dale Brannon).
На следующий день – 28 июня – представитель Министерства иностранных дел СССР вручил американскому послу ноту, в которой нарушение советского воздушного пространства самолётом С-118 квалифицировалось как «преднамеренное». В отличие от мартовского инцидента, когда американская сторона позволяла себе реагировать на обращения советского МИДа демонстративно небрежно и с большими задержками, теперь янки продемонстрировали замечательную оперативность. Уже 30 июня они передали советской стороне меморандум, отвергавший все обвинения, и вступили в переговоры об освобождении лиц, находившихся на борту сбитого самолёта и арестованных советской контрразведкой.
Уже 7 июля 1958 года все 9 человек были переданы американской стороне. Для этого их сначала перевезли из следственного изолятора КГБ в Лефортово в изолятор в азербайджанском городе Астара, расположенный в нескольких километрах от иранской границы. Собственно передача арестантов была произведена на границе, далее американцы отправились в Тегеран, а уже оттуда спецрейсом в Вашингтон.
В американской прессе очень сдержанно комментировался инцидент с самолётом С-118, сбитом над советским Закавказьем. Это заголовки газет на испанском (вверху) и немецком (внизу) языках, посвященные разбору обстоятельств произошедшего. Как нетрудно догадаться, журналисты объясняли инцидент стечением случайных факторов и неадекватной реакцией советских властей.
Переписка американских правительственных учреждений, связанная с переговорами по освобождению 9-х арестантов, по состоянию на сентябрь 2024 года остаётся засекреченной – она хранится в архиве Государственного департамента США в деле под №761.5411. Ни один документ из этого дела за прошедшие годы огласке не предан. Было бы, конечно, очень интересно узнать, чем именно поступились американцы в своём рвении вытащить своих разведчиков из рук КГБ, судя по некоторым косвенным данным, за ценой они не стояли.
В этой истории очень много недоговоренностей. Американцы настаивали на том, что десантирование из самолёта имело место после его атаки советскими перехватчиками и возникновения пожара на борту. В действительности же картина могла быть совсем иной и десантирование могло быть растянуто во времени. Согласно «утечкам» в прессу, допущенным американской стороной, самолёт выполнял чисто технический рейс, хотя присутствие на борту высокопоставленного разведчика явно противоречит такому утверждению. Заслуживает упоминания и то обстоятельство, что советская сторона очень сдержанно комментировала случившееся, не стремилась поднять пропагандистскую волну и продемонстрировала готовность к сотрудничеству. Учитывая щекотливость момента, следует признать, что такое поведение может иметь единственное разумное объяснение – высшее советское руководство осталось очень довольно полученным результатом и в силу неких неявных соображений было заинтересовано не усиливать идеологический накал вокруг случившегося.
Не прошло и двух месяцев, как в небе над Закавказьем произошло новое ЧП – на этот раз с человеческими жертвами. 2 сентября 1958 года американский военно-транспортный самолёт С-130 «Hercules» вылетел с авиабазы «Инджирлик» (Турция) для совершения рейса по замкнутому маршруту Инджирлик – Трабзон – озеро Ван – Инджирлик. Полёт должен был проходить в турецком воздушном пространстве на удалении не менее 130 км от советско-турецкой границы.
Однако почему-то американский самолёт в 15:06 по московскому времени проник в воздушное пространство Советского Союза приблизительно в 20 км южнее Ленинакана. Нарушитель углубился более чем на 45 км, но уже в 15:10, обнаружив рядом с собой пару советских перехватчиков МиГ-17, лёг на обратный курс. Советские самолёты пытались принудить С-130 к посадке, но поскольку экипаж нарушителя игнорировал команды, применили бортовое оружие на поражение. Пушечным огнём старший лейтенант Кучеряев сбил С-130, который упал у армянского села Саснашен. приблизительно в 45 км от государственной границы.
2 сентября 1958 года: фоторегистрация атаки С-130 с борта перехватчика МиГ-17 старшего лейтенанта Кучеряева.
История имела продолжение. И ещё какое!
На протяжении 10 дней обе стороны хранили полное молчание, как будто бы в небе над советской Арменией ничего не произошло. Всё это время по обе стороны советско-турецкой границы с лихорадочной активностью проводились поисковые мероприятия, в которых приняли участие тысячи военнослужащих – на турецкой территории турецких, на советской. соответственно, советских. Эта пауза сама по себе заслуживает быть отмеченной – каждая из сторон спешила осмотреть свою территорию и только после этого принимать решение о дальнейших действиях.
Наконец 12 сентября в советский МИД был вызван американский посол Томпсон, до сведения которого была доведена информация об уничтожении в воздушном пространстве СССР американского военно-транспортного самолёта, обнаружении на земле его обломков и останков 6 членов экипажа и заявлен положенный в таких случаях протест. Посол оказался готов к этому демаршу и заявил две встречных просьбы. Во-первых, он выразил желание узнать о судьбах ещё 11 человек, находившихся на борту сбитого С-130, а во-вторых, попросил допустить американских представителей на место падения самолёта.
Это. конечно же, была высшая наглость со стороны американцев, то, что евреи называют «хуцпой», а потому не следует удивляться тому, что обе просьбы были советским руководством проигнорированы.
24 сентября американской стороне были переданы 6 цинковых ящиков с гробами пилотов уничтоженного С-130, которые были маркированы как «дипломатическая почта» и отправились авиарейсом из Москвы в Вашингтон. На этом советская сторона вопрос с инцидентом 2 сентября 1958 года закрыла и более к нему не возвращалась.
Но не закрыли американцы.