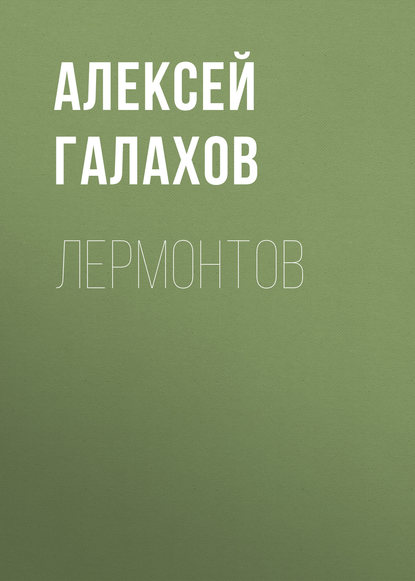По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Лермонтов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Не веря началам старой жизни, но и не вполне уверенный в началах новых, человек начал соединять те и другие искусственно: он совершал богослужение без живой веры, благоговел наружно к авторитетам без истинного к ним почтения, запасался правилами условной нравственности, будучи безнравственным; короче, внес в жизнь презренное лицемерие. Форма заменила для него сущность; обманом думал он спасти себя, прикрыть внутренний разлад внешними приличиями.
Внутреннее состояние нового человека не могло не обратить на себя внимания людей мыслящих. Они выражали его различными формулами, имеющими одно и то же значение. Сталь, рассматривая Вертера (в сочинении своем De l'Allemagne), говорить, что Гёте представил картину не одних только мучений любви, во и «болезней воображения в нашем веке» (les maladies de l'imagination dans notre si?cle). Мысли теснятся в уме, не становясь предметом воли. Возникаете странное противоречие между жизнию внешнею, более однообразною, чем жизнь древних, и бытием внутренним, бытием духа, гораздо более разнообразным и тревожным. С одной стороны видишь усиленное развитие чувств и познавательной способности, с другой – печальное течение жизни, на которое осужден человек окружающим нестроением. Леность сердца, падение води, пребывающие рядом с напряженною, непрерывною работой мысли – вот корень нравственного зла переходной эпохи. Гизо выразить его такими словами: «У современного человека желания безграничны, а воля слаба» (aujourd'hui l'homme dеsire immensеment, mais il veut faiblement). Так как болезнь обнаруживается на всех путях общественного и частного быта, то она сказалась и на пути деятельной жизни християнина отсутствием деятельности: поэтому проповедное слово имело право, с своей точки зрения и в своей сфере, обличать душевную холодность и умственную алчность, расслабление сердца и быстроту мысли, себялюбивую изнеженность и напряженную мечтательность, как мы видим то в лучших произведениях духовного ораторства[2 - См. отзыв И. В. Киреевского о сочинениях Иннокентия, в № 1 Москвитянина 1845 года.].
Слова Сталь сказаны в то время, когда болезнь была еще в начале своего нашествия, сказаны по поводу, явившагося в 1773 году, за пятнадцать лет до государственного переворота во Франции и открывшего собою ряд сочинений, которые имеют дело уже с болезнию сильно развитою, принявшею широкие размеры. Но первообраз того внутреннего состояния, которое раскрыто в Вертере, восходит гораздо прежде. Он поэтически представлен Шекспиром в Гамлете. Гамлет – прообразование слабовольных натур, которыми так богато девятнадцатое столетие, и которые так блистательно стояли на очереди его повествовательной литературы. В нем разыгрывается борьба между желанием, стремящимся ко многому и не определенному, и долгом, требующим единого и определенного. В одном и том же лице соединены идеальная безграничность, как свидетельство нашей свободы, и реальная ограниченность, как свидетельство необходимости. Желая, Гамлет обязан совершить одно, и потому именно, что желания его так велики, он становится неспособным к совершению долга, особенно если для совершения потребен героизм. Человек книжный, мечтательный, женственный, он сознает, что броня, на него возложенное, не по силан его природы, что эта природа ослаблена еще действием напряженной мысли, приведшей его к сомнению, к вопросам «быть или не быть», в которых напрасно истощается энергия. Не то же ли происходит и с людьми девятнадцатого столетия? Поэтому Гете называет желание «божеством нашего времени»[3 - Ueber das Tragische und die, von Robert Zimmermann.].
Поэтическое представление того внутреннего состояния, о котором мы говорили выше, долженствовало явиться впервые там, где произошел переворот, сокрушивший средневековые основы общества. Рене Шатобриана, написанный в самом начале текущего столетия, открывает собою ряд произведении, в которых действует один и тот же тип с несущественными изменениями. Это законный наследник XVIII и печальный первенец XIX века. Сам автор понимал очень хорошо влияние, произведенное его рассказом, почему в Замогильных Записках называет себя предшественником Байрона, указывая черты, общие у Рене с Манфредом, Ларой и другими созданиями английского поэта. Ему льстило замечание Беранже, что Чайльд-Гарольд представляет родственное сходство с Рене, соединяющим старость мысли с юностью души. В Рене раскрыты болезнь и страдания целой эпохи. Это – исповедь человека, который не действует, а чувствует, мечтает и мыслит. Скорбные речи его справедливо уподобляют тем огненным словам, которые невидимая рука чертила на стенах Валтасаровой пиршественной залы: они ясно выражают разложение прежнего общества и муки рождения общества нового.
Содержание Рене очень просто. Можно сказать даже, что в нем почти нет никакого содержания, если разуметь пол последним замысловатую интригу. Юноша, наскучив жизнию и светом, снедаемый тайною грустию, бежит в Америку и поселяется между дикими. Но перемена места не исцеляет душевных страданий, если душа остается неизменною. Бедный скиталец так же мало находит покоя в тишине девственных лесов, как мало находил его в шуме европейского общества. Он рассказывает свою историю Шактасу и миссионеру. При самом начале рассказа открывается, что за червь грызет сердце Рене; видишь душевное беспокойство, происходящее от того, что душа отчаялась найти в самой себе искомое удовлетворение.
Приступая к рассказу, не могу защититься от движения стыда. Спокойствие сердец ваших, почтенные старцы, и тишина окрестной природы заставляют меня краснеть при мысли о волнениях и тревоге души моей.
Как вы будете жалеть меня! Как презренно покажется вам мое вечное беспокойство! Вы, испытавшие все горести жизни, что подумаете вы о молодом человеке, лишенном добродетели и силы, который в самом себе находит свое мучение, и который может сетовать только на бедствия, им самым творимые?
Рене путешествовал, но путешествие удовлетворило его также мало, как и Чайльд-Гарольда:
Что узнал я после такого утомления? Ничего верного у древних, ничего прекрасного у новых. Прошедшее и настоящее – две неполные статуи: одна, вся искаженная, извлечена из развалин веков; другая не получила еще окончательной отделки будущего.
Один из слушателей просит его рассказать о Франции; Рене говорить:
Увы! отец мой, я не могу беседовать с тобой об этом великом веке; я видел только конец его в моем детстве, но его уже не существовало, когда я воротился в отчизну. Никогда, ни у одного народа, не совершалось более удивительного, более внезапного переворота. От высоты гения, от почтения к религии, от строгости нравов, низошли к гибкости ума, к безбожию, к разврату.
И потому я напрасно надеялся утишить в моем отечестве то беспокойство, тот пламень желания, который следует за мной повсюду. Знание света не научило меня ничему, и вместе с этим я утратил сладость незнания.
Следующее место разоблачает внутреннее настроение Рене:
Меня обвиняют за непостоянство вкуса, за невозможность наслаждаться долго одною и тою же мечтой, за то, что предаюсь в добычу воображению, которое торопится проникнуть в самый тайник удовольствий, как бы подавленное их продолжительностью. Говорят, что, имея возможность достигнуть цели, я всегда переступаю ее: увы, я ищу неизвестного, блага, к которому влечет меня инстинкт. Виноват ли я, что нахожу везде границы, что все конечное не имеет для меня никакой цены? Однакож, я люблю однообразие чувств моим, и еслиб имел глупость верить счастию, то искал бы его в привычке.
Из шумного города Рене удалился в уединение, но и сюда последовали за ним тревога, печаль, сомнение и скука:
Я был один, один на земле! Тайное изнеможение овладело моим телом. Отвращение от жизни возвратилось с новою силой. Вскоре сердце не давало пищи мысли, и я замечал мое существование только до глубокому чувству скуки.
Рене часто сравнивали с Вертером, находя в них родственные типы того болезненного чувства, которое получило название «грусти о мире». Но при несомненном между ними сходстве есть и видимое различие, основанное, между прочим, на различии двух народов, из среды которых они взяты. Бартер – мягкая и сердечная натура, которая может с любовию прилепляться к жизни; в Рене пылает дикий огонь, пожирающий, но не греющий; это – сердце без содержания, без веры и надежды, одержимое демоном разрушения, вследствие которого и жизнь и собственная душа его являются ему в виде пустыня. Случай сделал из него мечтателя, но при других обстоятельствах вышел бы из него один из сильных деятелей переворота, которым он, по энергичности идей, значительно уподобляется[4 - Gesch der franz. Liter, v. Schmidt.].
Хотя в Рене изображен вообще человек, стоящий на рубеже двух миров, сокрушенного и долженствующего возникнуть на развалинах, но в его образе есть много субъективного, принадлежащего жизни и душевным свойствам автора. Он относится к Шатобриану так же, как Чайльд-Гарольд к Байрону. Шатобриан обращался и к прошлому и к будущему: обращение впрочем совершенно искреннее, а не двуличное. Во время переходов своих от стремлений вперед к стремлениям возвратным, и наоборот, он хотел как бы воскресить минувшее: прошлое было для него родиной, и чтобы сравнением объяснить нашу мысль, можем уподобить его печальному изгнаннику из отечества, который возвращается в него хотя бы для того только, чтобы умереть на родном пепелище. Крайности сходятся. Чем началась, тем и кончилась литературная деятельность Шатобриана. В Замогильных Записках многие места совпадают с выходками Рене. Берем одно из них:
En considеrant l'?tre entier, en pesant le bien et le mal, on serait tentе de dеsirer tout accident qui porte ? l'oubli, comme un moyen d'еchapper ? soi m?me, un ivrogne joyeux est une crеature heureuse… Le bonheur est de s'ignorer et d'arriver ? la mort sans avoir senti la vie… Je n'assiste pas ? un bapt?me ou ? un mariage sans sourire am?rement ou sans еprouver un serrement de coeur. Apr?s le malheur de na?tre, je n'en connais pas de plus grand que celui de donner le jour ? un homme[5 - Ibid. – Geschichte des 49-ten Jahrhunderts, v. Gervinus. Erster Band, стр. 366-375.].
Ближайший к Гамлету тип начертан Сенанкуром, поклонником Ж.-Ж. Руссо, подобно ему мечтавшим о преобразовании общества. Его Оберман (1804 г.) – истый Гамлет XIX века. Болезнь изнеможения, меланхолия бессилия являются здесь в полной очевидности. Личность автора отражается в книге не биографически, а психологически, меланхолическим и страдательным состоянием, бесцельными усилиями, скукой. Жорж-Санд, в предисловии к новому изданию, тонко показала различие между главнейшими родами нравственных страданий, олицетворенными в Бартере, Рене и Обермане. В Вертере, говорит она, видим страсть, задержанную в своем развитии: человек борется с предметами. Рене представляет характер, одаренный высокими способностями, без воли привести их в действие. Оберман – образ человека, ясно сознающего недостаточность своих способностей, хотя и стремящагося к возвышенному и деятельному.
Противоположные черты Рене и Обермана объясняются взаимно. Рене – натура гениальная, лишенная силы воли; Оберман – нравственное возвышение, чуждое гениальности. Первый говорит: «я мог бы сделать, еслибы мог желать»; второй, напротив, говорит: «к чему желать? я не могу исполнить желаемаго». Оберман – это бессилие мечтательности, желание, остающееся неразвитым, в зародыше; это мужественная грудь с слабыми руками, душа аскета, в которой гнездится червь сомнения, признак её слабости, а не силы; это постоянно печальная жалоба на себя самого, на свою неизлечимую праздность, ничего-неделание. Если Вертер – пленник, долженствующий погибнуть в своей душной клетке; если Рене – раненный орел, которому снова суждено воспарить к небесам: то Оберман – бескрылая морская птица, которой тихая и жалобная песнь раздается на песчаных берегах, откуда отходят корабли и куда возвращаются их обломки[6 - Obermann,par de Senancour, nouv. ed. avec, une prеface par George Sand. 1852. Portraits contemporains par Sainte-Beuve, 1846, t. 1.].
И Рене и Оберман молоды. Один не имел еще случая испытать своих сил; другой, как мученик слабоволия, никогда и не решится употребить их в дело. Но это душевное бессилие обнаруживается только в столкновении с обществом; перед лицом же природы душа Обермана раскрывается свободно и широко. Книга оканчивается выражением тихого, но неизменного сочувствия ж естеству, и в этом сочувствии его единственная сила:
Si j'arrive ? la vieillesse, si un jour, plein de pensеes encore, mais renon?ant ? parler aux hommes j'ai aupr?s de moi un ami pour recevoir mes adieux ? la terre, qu'on place ma chaise sur l'herbe courte, et que de tranquilles marguerites soient l? devant moi, sous le soleil, sous le ciel immense, afin qu'en laissant la vie qui passe, je retrouve quelque chose de l'illusion infinie.
Судьба сочинения Сенанкура соответствовала судьбе самого Обермана. И книга и герой её долго оставались незнаемыми.
Не было ни блеска, ни славы при её появлении: только немногие, больные душою, родственные Оберману, читали ее с сочувствием. Причина такого невнимания объясняется тогдашними обстоятельствами. Оберман, идеал мечтательности, недеятельности, жизни внутренней, исполненной созерцания и сомнения; а период времени от начала столетия до падения Наполеона был исполнен громом оружий и шумом славы. Психологические размышления швейцарского пустынника не могли интересовать людей, настроенных воинственно. Книга Сенанкура открывается такими словами: «в письмах моих увидят изображение человека, который не действует, а чувствует», тогда как время Наполеона было временем непрерывной внешней деятельности, совершенно неблагоприятной идеологии и чувствам. Притом же сомнение, эта тяжкая язва Обермана, не приняло еще сильного развития в первых годах века. За то в эпоху реставрации Оберман был оценен по достоинству.
Молодые люди не только читали, но и изучали его. Путешествовавшие в Швейцарии посещали места, о которых говорит Оберман: с книгой в руке совершали они прогулки, читая лучшие её страницы при свете луны, при шуме потоков, при романтических звуках долин[7 - Ibid.].
За Оберманом, в хронологическом порядке, следует Адольф (1810), повесть Бенжамен-Констана, переведенная на русский язык князем Вяземским (1831 г.). При известии о переводе, Литературная Газета, издававшаяся Дельвигом (1830. т. 1, ЛЬ 1), справедливо заметила, что Адольф принадлежит к числу двух или трех романов, в которых, по словам Пушкина,
…….отразился век,
И современный человек
Изображен довольно живо
С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтаньям преданный безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом,
хотя несправедливо другое замечание, будто «Бенжамен-Констан первый вывел такой характер, в последствии обнародованный гением Байрона.»
Повесть Бенжамен-Констана есть анализ болезненной любви. Действующих лиц только двое, но отсутствие сложной интриги с избытком вознаграждается интересом внутреннего содержания. Характер героя представляет пагубное для него самого и для других соединение эгоизма и чувствительности. По собственному признанию, Адольф такой человек, которому все равно, где бы ни жить. Он предвидел зло прежде чем совершал его, и, совершив, сам отступал в отчаянии. Рассеянный и скучающий, он делил время между учением, которое часто прерывал, проектами, которых не выполнял, и удовольствиями, которые не занимали его. Обязанный по своему положению жить в большом свете, который он презирает, но которого избежать не может, Адольф чувствует ужасную пустоту в сердце, негодует на общепринятые мнения, на детские интересы общества, и скучает среди шумных празднеств, хотя не находит в себе самом ничего, чем бы наполнить обычную суматоху обычной жизни. Одно обстоятельство произвело в нем важную перемену: любовь к Елеоноре, Польке происхождением, вышедшей замуж за графа П. Но если графиня предалась Адольфу безусловно, на стороне его была только страсть без всякой привязанности. И эта страсть вскоре охладела и погасла, как бы независимо от сердца, в котором зажглась добровольно. Характер отношений, отсюда происшедших, объясняется самим Адольфом:
Долговременная привычка друг к другу, различные обстоятельства, пережитые вами вместе, к каждому слову, к каждому почти движению привязывали воспоминания, переносившие нас в прошлое и наполнявшие сердце невольною нежностию, подобно тому, как молния освещает мрак, не разгоняя его. Мы жили, так сказать, памятью сердца: достаточная для того, чтобы мысль о разлуке сделать для нас горестною, она была бессильна для того, чтобы заставят искать счастья в союзе. Я предавался волнениям, как отдыху от постоянного самопринуждения. Я желал оказать Елеоноре знаки нежности, начинал иногда говорить с ней языком любви; но и эта нежность, и этот язык любви походили на те бледные и бесцветные листья, которые томно растут на ветвях дерева, с корнем исторгнутого из земля.
Адольф мучится сам и мучить Елеонору, которая, не изменяясь в своих к нему чувствах, умирает на его руках. Оттолкнув существо, так нежно ему преданное, он тем не менее остался беспокойным и недовольным. Независимый от того, к чему прежде так сильно стремился, он испытывает всю тяжесть независимости. Из свободы своей, купленной ценою стольких слез и горестей, он не сделал никакого употребления. Его нравственное отчаяние гораздо печальнее преждевременной смерти нежного существа, умевшего любить чистосердечно и глубоко.
Адольф принадлежит к замечательнейшим произведениям эпохи, в которой ум, занятый преимущественно анализом, разлагает и убивает все, к чему ни прикоснется своею пытливостию. Это истинная трагедия, рельефно выставляющая плачевную судьбу героя. Можно сказать, что при всей ровности и наружном спокойствии рассказа, он написан кровью, что эта кровь точилась из сердечной глубины. При чтении подобных сочинений становится больно душе. Жалеешь не только действующее лицо, но и самого себя: так верно в судьбе одного, вымышленного или действительного, характера представлена общая судьба нового человека, вместе с судьбою и характером автора, испытавшего на самом себе и горечь скорбных опытов, и действие двух собственных свойств – слабоволия и тщеславия. Эпиграфом к, по замечанию Вине, могла бы служить надпись на вратах Дантова ада. Здесь нет надежды: есть только безысходное горе и душевное отчаяние[8 - Etudes sur la littеrature fran?aise au dix-neuvi?me si?cle, par А. Vinet, 2-me ed., t. I, стр. 264-266., par Benjamin Constant, nouv. ed. 1848.].
Из французских подражателей Гёте и Байрону нельзя умолчать о Нодье. Его Зальцбургский живописец (Le peintre de Saltzbourg
1803 г.), Карл Мюнстер – своего рода Вертер. Двадцати трех лет разочарованный во осень, Мюнстер начав презирать не только себя, но и весь мир. В природе видел он только печаль, в сердце человека находил только горечь. В жизни его нет никакой деятельной силы: она скорее доходит на сон, чем на бодрствование. Вина такого состояния приписывается значительною частию дурному общественному устройству, которому противополагаются красоты природы. Общество, пишет в своем журнале Мюнстер, наложило на человека железные узы: под гнетом их мы стали невольниками, лишенными способности выносить блеск многообильной природы. её сокровища не принадлежат нам более: мы уронили высокое свое достоинство, продав свою независимость. Глубоко униженною чувствует себя благородная душа, при мысли, что она связала свои силы гражданскими обязательствами, что ради жалких выгод принесла драгоценнейшую жертву[9 - Romans de Charles, изд. 1855.].
Важнее другое сочинение Нодье: (Jean Sbogar), напечатанное в 1818 г., но написанное шестью годами прежде. Оно названо «историческим» романом, потому что герой его – лицо действительное, а не вымышленное. Это был атаман разбойников, родом Далмат, осужденный и казненный в то время, как Иллирия находилась под управлением французов (1809-15).
Здесь выступает на сцену тип, сходный с предыдущими тем, что носит на себе все страдания переходной эпохи, но в то же время и существенно отличный от них тем, что по душевной энергии и силе воли презирает страдательную жизнь, хочет действовать и решительным образом высказывает свою деятельность, для которой неспособны ни Рене, ни Оберман, ни Адольф.
Идея представлять людей, у которых личное чувство справедливости глубоко возмущено общественною неправдой и которые, не вынося такого противоречия, отрешаются от гражданства и образуют, по своему идеалу, особенный круг – общество в обществе, такая идея не новость в литературе. Шиллер блистательно олицетворил ее в одном из первых своих произведений, в Разбойниках (1781 г.). Трагедия эта проникнута тем духом, которым запечатлен французский государственный переворот. Франц Моор – мелкий тиран с атеизмом и легкомысленным материялизмом Системы природы (Syst?me de la Nature, Гольдбаха); брат его Карл относятся к нему и целому миру, как о коего рода Дантон. По его доктрине, ужас и разрушение должны даровать господство добродетели и нестесненному развитию человека, меч и огонь орудия для достижения цели[10 - Zur W?rdigung Fried. Schillers, в прибавлении к сочинению Морица Карьера: Das Wesen und die Formen der Poesie (1854).]. И как Вертер есть печальный тип слабовольных личностей, более или менее родственных Гамлету, так Карл Моор – начальный тип личностей энергических, открыто враждующих с нестроениями общественными. Вертер и Разбойники содержат в себе как бы предчувственную историю переворотов, готовых хлынуть на Европу; Рене есть история общества, достигшего положенных ему пределов. Все другие произведения того же литературного разряда следуют за этими тремя лицами, открывающими печальную процессию людей переходной эпохи.
Сбогар занимает достойное место подле Абелино (Цшокке), Карла Моора (Шиллера) и Корсара (Байрона). При атлетических и красивых Формах, руки его были женские, белые и нежные, как у Печорина и Конрада. В его лице, постуии, взгляде и голосе выражалось властительное величие, особенно в то время, как он хмурил брови. Он объяснялся приятно на французском, немецком, италиянском и новогреческом языках и многих славянских наречиях. Молва о нем долго сохранялась в Венецианской области, бывшей главным театром его подвигов. Наполеон, в заточении на острове Св. Елены, случайно прочитал роман Нодье. Внимание его было поражено не самою повестью, а «записною книжкой» Лотарио (имя, под которым Сбогар являлся в венециянском обществе). В этой книжке набросаны политические и социальные заметки, получившие в последствии знаменитую известность. Тогда (1818) они имели значение романтических мечтаний, были предвидением, развившимся в сороковых годах в особые системы и образовавшим целую школу. Здесь подняты вопросы, поразительные смелостию утопических воззрений и нашедшие свое место в теориях общественных реформ.
Шайка Сбогара носит название братьев общего блага. Предводитель её пленяется красотою и кротостию Антонии, которая, вместе с овдовевшею сестрою своей Аиьбери, живет сначала в Триесте, потом в Венеции. В последнем городе они знакомятся с Лотарио, который возбуждает к себе любовь Антонии, но отвергает и самую мысль соединения с нею: такой союз омрачил бы чистоту невинной девушки. В разговорах с нею и в своих действиях, он выказывается именно человеком XIX столетия, с тяжелым сомнением в душе, с негодованием против злоупотреблений, с желанием перестроить общество по своему образцу.
Не в одной эпической форме выражалась главная болезнь века, скептицизм. Вместо того, чтобы передавать вымышленным лицам повесть своих собственных духовных страданий, авторы часто исповедовали их сами от себя. Многие лирические стихотворения говорят то же самое, что читатель узнает из рассказов о Рене, Обермане, Адольфе, Сбогаре. Исчислять их сполна нет ни надобности, ни возможности: мы скажем только о Ламартине и Гюго.
Поэтические размышления (Mеditations poеtiques, 1820-23) и Новые поэтические размышления (Nouvelles mеditations poеtiques, 1824) разоблачают муки сомнения – не того, который в XVIII веке самодовольно и высокомерно гордился собою, уверенный в своей силе, а того, который, предавшись горести и меланхолии, тревожась между страхом будущего и сожалением о прошлом, стремился к восстановлению веры и вместе с этим не знал как помочь своему неверию. Это – скептицизм печальный и резонирующий, болезненный упадок всех элементов нравственной жизни. Скорбный дух просит точки опоры и старается найти ее в том самом, что прежде им же подорвано – его неугомонною пытливостию и разрушительным анализом. Звуки гармонической и часто риторической лиры Ламартина, в которой Веневитинов справедливо видел отсутствие истинной поэзии, оплакивают болезненные страдания, терзающие ум нового человека, подобно тому, как коршун терзал грудь Прометея.
Религиозные и поэтические гармонии (Harmonies poеtiques et religieuses, 1830) запечатлены тем же характером рефлексия: они отражают внутреннюю борьбу противоположных начал. Поэт постоянно силится избежать сомнения, но сомнение, раз отраженное, возвращается снова и овладевает духом с большее еще силою. Он нерешительно склоняется то в ту, то в другую сторону: равно боится и утверждений и отрицаний категорических, и мысли его нередко уступают место мечтам, а мечтания переходят в мысли. Кроме того в некоторых пиесах Новых поэтических размышлений и гармоний пантеизм является последним словом Ламартина, крайним его решением. В 8 главе поэмы Падение ангела даже наложена пантеистическая философия[11 - Histoire de la littеrature fran?aise sous la restauration, par Alfred Nettement. 1853. T. 1. Etudes sur la la littеrature Fran?aise au. XIX-eme si?cle, par А. Vinet. 1857. t. II.].
Точно такого же рода сомнение воспевал и Гюго в сборниках своих стихотворений, большею частию элегических:
Осенние листья (Les feuilles d'automne, 1831), Сумеречные песни (Les chassie du crеpuscule, 1835), Внутренние голоса (Les voix intеrieures, 1837), Лучи и тени (Les rayons et les ombres, 1840).
До французского переворота идеи, желания и надежды, направляясь к общей цели: если не находили её в действительности, то по крайней мере не сомневались в возможности достигнуть её, осуществить идеальные стремления. Катастрофа показала, что даже в идеалах кроется демоническая сила, враждебная жизни.
Как в мире внешнем многое раскололось и пало, так и в душе совершилось разложение. Повсюду видны были обломки мнений и начал. Темная сторона идей софистически выставлялась на показ: искусившаяся в диалектике мысль готова была доказывать и бесправие права, и право бесправия. Можно сказать, что все сделалось истинным и ничто не было истинным: ум цеплялся за каждый предмет, не прилепляясь твердо ни к одному предмету. Не было для него ни настоящего света, ни настоящей тьмы: полумрак и полусвет, как образ умственного состояния, могли уподобиться только нравственному безразличию.
Внутреннее состояние нового человека не могло не обратить на себя внимания людей мыслящих. Они выражали его различными формулами, имеющими одно и то же значение. Сталь, рассматривая Вертера (в сочинении своем De l'Allemagne), говорить, что Гёте представил картину не одних только мучений любви, во и «болезней воображения в нашем веке» (les maladies de l'imagination dans notre si?cle). Мысли теснятся в уме, не становясь предметом воли. Возникаете странное противоречие между жизнию внешнею, более однообразною, чем жизнь древних, и бытием внутренним, бытием духа, гораздо более разнообразным и тревожным. С одной стороны видишь усиленное развитие чувств и познавательной способности, с другой – печальное течение жизни, на которое осужден человек окружающим нестроением. Леность сердца, падение води, пребывающие рядом с напряженною, непрерывною работой мысли – вот корень нравственного зла переходной эпохи. Гизо выразить его такими словами: «У современного человека желания безграничны, а воля слаба» (aujourd'hui l'homme dеsire immensеment, mais il veut faiblement). Так как болезнь обнаруживается на всех путях общественного и частного быта, то она сказалась и на пути деятельной жизни християнина отсутствием деятельности: поэтому проповедное слово имело право, с своей точки зрения и в своей сфере, обличать душевную холодность и умственную алчность, расслабление сердца и быстроту мысли, себялюбивую изнеженность и напряженную мечтательность, как мы видим то в лучших произведениях духовного ораторства[2 - См. отзыв И. В. Киреевского о сочинениях Иннокентия, в № 1 Москвитянина 1845 года.].
Слова Сталь сказаны в то время, когда болезнь была еще в начале своего нашествия, сказаны по поводу, явившагося в 1773 году, за пятнадцать лет до государственного переворота во Франции и открывшего собою ряд сочинений, которые имеют дело уже с болезнию сильно развитою, принявшею широкие размеры. Но первообраз того внутреннего состояния, которое раскрыто в Вертере, восходит гораздо прежде. Он поэтически представлен Шекспиром в Гамлете. Гамлет – прообразование слабовольных натур, которыми так богато девятнадцатое столетие, и которые так блистательно стояли на очереди его повествовательной литературы. В нем разыгрывается борьба между желанием, стремящимся ко многому и не определенному, и долгом, требующим единого и определенного. В одном и том же лице соединены идеальная безграничность, как свидетельство нашей свободы, и реальная ограниченность, как свидетельство необходимости. Желая, Гамлет обязан совершить одно, и потому именно, что желания его так велики, он становится неспособным к совершению долга, особенно если для совершения потребен героизм. Человек книжный, мечтательный, женственный, он сознает, что броня, на него возложенное, не по силан его природы, что эта природа ослаблена еще действием напряженной мысли, приведшей его к сомнению, к вопросам «быть или не быть», в которых напрасно истощается энергия. Не то же ли происходит и с людьми девятнадцатого столетия? Поэтому Гете называет желание «божеством нашего времени»[3 - Ueber das Tragische und die, von Robert Zimmermann.].
Поэтическое представление того внутреннего состояния, о котором мы говорили выше, долженствовало явиться впервые там, где произошел переворот, сокрушивший средневековые основы общества. Рене Шатобриана, написанный в самом начале текущего столетия, открывает собою ряд произведении, в которых действует один и тот же тип с несущественными изменениями. Это законный наследник XVIII и печальный первенец XIX века. Сам автор понимал очень хорошо влияние, произведенное его рассказом, почему в Замогильных Записках называет себя предшественником Байрона, указывая черты, общие у Рене с Манфредом, Ларой и другими созданиями английского поэта. Ему льстило замечание Беранже, что Чайльд-Гарольд представляет родственное сходство с Рене, соединяющим старость мысли с юностью души. В Рене раскрыты болезнь и страдания целой эпохи. Это – исповедь человека, который не действует, а чувствует, мечтает и мыслит. Скорбные речи его справедливо уподобляют тем огненным словам, которые невидимая рука чертила на стенах Валтасаровой пиршественной залы: они ясно выражают разложение прежнего общества и муки рождения общества нового.
Содержание Рене очень просто. Можно сказать даже, что в нем почти нет никакого содержания, если разуметь пол последним замысловатую интригу. Юноша, наскучив жизнию и светом, снедаемый тайною грустию, бежит в Америку и поселяется между дикими. Но перемена места не исцеляет душевных страданий, если душа остается неизменною. Бедный скиталец так же мало находит покоя в тишине девственных лесов, как мало находил его в шуме европейского общества. Он рассказывает свою историю Шактасу и миссионеру. При самом начале рассказа открывается, что за червь грызет сердце Рене; видишь душевное беспокойство, происходящее от того, что душа отчаялась найти в самой себе искомое удовлетворение.
Приступая к рассказу, не могу защититься от движения стыда. Спокойствие сердец ваших, почтенные старцы, и тишина окрестной природы заставляют меня краснеть при мысли о волнениях и тревоге души моей.
Как вы будете жалеть меня! Как презренно покажется вам мое вечное беспокойство! Вы, испытавшие все горести жизни, что подумаете вы о молодом человеке, лишенном добродетели и силы, который в самом себе находит свое мучение, и который может сетовать только на бедствия, им самым творимые?
Рене путешествовал, но путешествие удовлетворило его также мало, как и Чайльд-Гарольда:
Что узнал я после такого утомления? Ничего верного у древних, ничего прекрасного у новых. Прошедшее и настоящее – две неполные статуи: одна, вся искаженная, извлечена из развалин веков; другая не получила еще окончательной отделки будущего.
Один из слушателей просит его рассказать о Франции; Рене говорить:
Увы! отец мой, я не могу беседовать с тобой об этом великом веке; я видел только конец его в моем детстве, но его уже не существовало, когда я воротился в отчизну. Никогда, ни у одного народа, не совершалось более удивительного, более внезапного переворота. От высоты гения, от почтения к религии, от строгости нравов, низошли к гибкости ума, к безбожию, к разврату.
И потому я напрасно надеялся утишить в моем отечестве то беспокойство, тот пламень желания, который следует за мной повсюду. Знание света не научило меня ничему, и вместе с этим я утратил сладость незнания.
Следующее место разоблачает внутреннее настроение Рене:
Меня обвиняют за непостоянство вкуса, за невозможность наслаждаться долго одною и тою же мечтой, за то, что предаюсь в добычу воображению, которое торопится проникнуть в самый тайник удовольствий, как бы подавленное их продолжительностью. Говорят, что, имея возможность достигнуть цели, я всегда переступаю ее: увы, я ищу неизвестного, блага, к которому влечет меня инстинкт. Виноват ли я, что нахожу везде границы, что все конечное не имеет для меня никакой цены? Однакож, я люблю однообразие чувств моим, и еслиб имел глупость верить счастию, то искал бы его в привычке.
Из шумного города Рене удалился в уединение, но и сюда последовали за ним тревога, печаль, сомнение и скука:
Я был один, один на земле! Тайное изнеможение овладело моим телом. Отвращение от жизни возвратилось с новою силой. Вскоре сердце не давало пищи мысли, и я замечал мое существование только до глубокому чувству скуки.
Рене часто сравнивали с Вертером, находя в них родственные типы того болезненного чувства, которое получило название «грусти о мире». Но при несомненном между ними сходстве есть и видимое различие, основанное, между прочим, на различии двух народов, из среды которых они взяты. Бартер – мягкая и сердечная натура, которая может с любовию прилепляться к жизни; в Рене пылает дикий огонь, пожирающий, но не греющий; это – сердце без содержания, без веры и надежды, одержимое демоном разрушения, вследствие которого и жизнь и собственная душа его являются ему в виде пустыня. Случай сделал из него мечтателя, но при других обстоятельствах вышел бы из него один из сильных деятелей переворота, которым он, по энергичности идей, значительно уподобляется[4 - Gesch der franz. Liter, v. Schmidt.].
Хотя в Рене изображен вообще человек, стоящий на рубеже двух миров, сокрушенного и долженствующего возникнуть на развалинах, но в его образе есть много субъективного, принадлежащего жизни и душевным свойствам автора. Он относится к Шатобриану так же, как Чайльд-Гарольд к Байрону. Шатобриан обращался и к прошлому и к будущему: обращение впрочем совершенно искреннее, а не двуличное. Во время переходов своих от стремлений вперед к стремлениям возвратным, и наоборот, он хотел как бы воскресить минувшее: прошлое было для него родиной, и чтобы сравнением объяснить нашу мысль, можем уподобить его печальному изгнаннику из отечества, который возвращается в него хотя бы для того только, чтобы умереть на родном пепелище. Крайности сходятся. Чем началась, тем и кончилась литературная деятельность Шатобриана. В Замогильных Записках многие места совпадают с выходками Рене. Берем одно из них:
En considеrant l'?tre entier, en pesant le bien et le mal, on serait tentе de dеsirer tout accident qui porte ? l'oubli, comme un moyen d'еchapper ? soi m?me, un ivrogne joyeux est une crеature heureuse… Le bonheur est de s'ignorer et d'arriver ? la mort sans avoir senti la vie… Je n'assiste pas ? un bapt?me ou ? un mariage sans sourire am?rement ou sans еprouver un serrement de coeur. Apr?s le malheur de na?tre, je n'en connais pas de plus grand que celui de donner le jour ? un homme[5 - Ibid. – Geschichte des 49-ten Jahrhunderts, v. Gervinus. Erster Band, стр. 366-375.].
Ближайший к Гамлету тип начертан Сенанкуром, поклонником Ж.-Ж. Руссо, подобно ему мечтавшим о преобразовании общества. Его Оберман (1804 г.) – истый Гамлет XIX века. Болезнь изнеможения, меланхолия бессилия являются здесь в полной очевидности. Личность автора отражается в книге не биографически, а психологически, меланхолическим и страдательным состоянием, бесцельными усилиями, скукой. Жорж-Санд, в предисловии к новому изданию, тонко показала различие между главнейшими родами нравственных страданий, олицетворенными в Бартере, Рене и Обермане. В Вертере, говорит она, видим страсть, задержанную в своем развитии: человек борется с предметами. Рене представляет характер, одаренный высокими способностями, без воли привести их в действие. Оберман – образ человека, ясно сознающего недостаточность своих способностей, хотя и стремящагося к возвышенному и деятельному.
Противоположные черты Рене и Обермана объясняются взаимно. Рене – натура гениальная, лишенная силы воли; Оберман – нравственное возвышение, чуждое гениальности. Первый говорит: «я мог бы сделать, еслибы мог желать»; второй, напротив, говорит: «к чему желать? я не могу исполнить желаемаго». Оберман – это бессилие мечтательности, желание, остающееся неразвитым, в зародыше; это мужественная грудь с слабыми руками, душа аскета, в которой гнездится червь сомнения, признак её слабости, а не силы; это постоянно печальная жалоба на себя самого, на свою неизлечимую праздность, ничего-неделание. Если Вертер – пленник, долженствующий погибнуть в своей душной клетке; если Рене – раненный орел, которому снова суждено воспарить к небесам: то Оберман – бескрылая морская птица, которой тихая и жалобная песнь раздается на песчаных берегах, откуда отходят корабли и куда возвращаются их обломки[6 - Obermann,par de Senancour, nouv. ed. avec, une prеface par George Sand. 1852. Portraits contemporains par Sainte-Beuve, 1846, t. 1.].
И Рене и Оберман молоды. Один не имел еще случая испытать своих сил; другой, как мученик слабоволия, никогда и не решится употребить их в дело. Но это душевное бессилие обнаруживается только в столкновении с обществом; перед лицом же природы душа Обермана раскрывается свободно и широко. Книга оканчивается выражением тихого, но неизменного сочувствия ж естеству, и в этом сочувствии его единственная сила:
Si j'arrive ? la vieillesse, si un jour, plein de pensеes encore, mais renon?ant ? parler aux hommes j'ai aupr?s de moi un ami pour recevoir mes adieux ? la terre, qu'on place ma chaise sur l'herbe courte, et que de tranquilles marguerites soient l? devant moi, sous le soleil, sous le ciel immense, afin qu'en laissant la vie qui passe, je retrouve quelque chose de l'illusion infinie.
Судьба сочинения Сенанкура соответствовала судьбе самого Обермана. И книга и герой её долго оставались незнаемыми.
Не было ни блеска, ни славы при её появлении: только немногие, больные душою, родственные Оберману, читали ее с сочувствием. Причина такого невнимания объясняется тогдашними обстоятельствами. Оберман, идеал мечтательности, недеятельности, жизни внутренней, исполненной созерцания и сомнения; а период времени от начала столетия до падения Наполеона был исполнен громом оружий и шумом славы. Психологические размышления швейцарского пустынника не могли интересовать людей, настроенных воинственно. Книга Сенанкура открывается такими словами: «в письмах моих увидят изображение человека, который не действует, а чувствует», тогда как время Наполеона было временем непрерывной внешней деятельности, совершенно неблагоприятной идеологии и чувствам. Притом же сомнение, эта тяжкая язва Обермана, не приняло еще сильного развития в первых годах века. За то в эпоху реставрации Оберман был оценен по достоинству.
Молодые люди не только читали, но и изучали его. Путешествовавшие в Швейцарии посещали места, о которых говорит Оберман: с книгой в руке совершали они прогулки, читая лучшие её страницы при свете луны, при шуме потоков, при романтических звуках долин[7 - Ibid.].
За Оберманом, в хронологическом порядке, следует Адольф (1810), повесть Бенжамен-Констана, переведенная на русский язык князем Вяземским (1831 г.). При известии о переводе, Литературная Газета, издававшаяся Дельвигом (1830. т. 1, ЛЬ 1), справедливо заметила, что Адольф принадлежит к числу двух или трех романов, в которых, по словам Пушкина,
…….отразился век,
И современный человек
Изображен довольно живо
С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтаньям преданный безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом,
хотя несправедливо другое замечание, будто «Бенжамен-Констан первый вывел такой характер, в последствии обнародованный гением Байрона.»
Повесть Бенжамен-Констана есть анализ болезненной любви. Действующих лиц только двое, но отсутствие сложной интриги с избытком вознаграждается интересом внутреннего содержания. Характер героя представляет пагубное для него самого и для других соединение эгоизма и чувствительности. По собственному признанию, Адольф такой человек, которому все равно, где бы ни жить. Он предвидел зло прежде чем совершал его, и, совершив, сам отступал в отчаянии. Рассеянный и скучающий, он делил время между учением, которое часто прерывал, проектами, которых не выполнял, и удовольствиями, которые не занимали его. Обязанный по своему положению жить в большом свете, который он презирает, но которого избежать не может, Адольф чувствует ужасную пустоту в сердце, негодует на общепринятые мнения, на детские интересы общества, и скучает среди шумных празднеств, хотя не находит в себе самом ничего, чем бы наполнить обычную суматоху обычной жизни. Одно обстоятельство произвело в нем важную перемену: любовь к Елеоноре, Польке происхождением, вышедшей замуж за графа П. Но если графиня предалась Адольфу безусловно, на стороне его была только страсть без всякой привязанности. И эта страсть вскоре охладела и погасла, как бы независимо от сердца, в котором зажглась добровольно. Характер отношений, отсюда происшедших, объясняется самим Адольфом:
Долговременная привычка друг к другу, различные обстоятельства, пережитые вами вместе, к каждому слову, к каждому почти движению привязывали воспоминания, переносившие нас в прошлое и наполнявшие сердце невольною нежностию, подобно тому, как молния освещает мрак, не разгоняя его. Мы жили, так сказать, памятью сердца: достаточная для того, чтобы мысль о разлуке сделать для нас горестною, она была бессильна для того, чтобы заставят искать счастья в союзе. Я предавался волнениям, как отдыху от постоянного самопринуждения. Я желал оказать Елеоноре знаки нежности, начинал иногда говорить с ней языком любви; но и эта нежность, и этот язык любви походили на те бледные и бесцветные листья, которые томно растут на ветвях дерева, с корнем исторгнутого из земля.
Адольф мучится сам и мучить Елеонору, которая, не изменяясь в своих к нему чувствах, умирает на его руках. Оттолкнув существо, так нежно ему преданное, он тем не менее остался беспокойным и недовольным. Независимый от того, к чему прежде так сильно стремился, он испытывает всю тяжесть независимости. Из свободы своей, купленной ценою стольких слез и горестей, он не сделал никакого употребления. Его нравственное отчаяние гораздо печальнее преждевременной смерти нежного существа, умевшего любить чистосердечно и глубоко.
Адольф принадлежит к замечательнейшим произведениям эпохи, в которой ум, занятый преимущественно анализом, разлагает и убивает все, к чему ни прикоснется своею пытливостию. Это истинная трагедия, рельефно выставляющая плачевную судьбу героя. Можно сказать, что при всей ровности и наружном спокойствии рассказа, он написан кровью, что эта кровь точилась из сердечной глубины. При чтении подобных сочинений становится больно душе. Жалеешь не только действующее лицо, но и самого себя: так верно в судьбе одного, вымышленного или действительного, характера представлена общая судьба нового человека, вместе с судьбою и характером автора, испытавшего на самом себе и горечь скорбных опытов, и действие двух собственных свойств – слабоволия и тщеславия. Эпиграфом к, по замечанию Вине, могла бы служить надпись на вратах Дантова ада. Здесь нет надежды: есть только безысходное горе и душевное отчаяние[8 - Etudes sur la littеrature fran?aise au dix-neuvi?me si?cle, par А. Vinet, 2-me ed., t. I, стр. 264-266., par Benjamin Constant, nouv. ed. 1848.].
Из французских подражателей Гёте и Байрону нельзя умолчать о Нодье. Его Зальцбургский живописец (Le peintre de Saltzbourg
1803 г.), Карл Мюнстер – своего рода Вертер. Двадцати трех лет разочарованный во осень, Мюнстер начав презирать не только себя, но и весь мир. В природе видел он только печаль, в сердце человека находил только горечь. В жизни его нет никакой деятельной силы: она скорее доходит на сон, чем на бодрствование. Вина такого состояния приписывается значительною частию дурному общественному устройству, которому противополагаются красоты природы. Общество, пишет в своем журнале Мюнстер, наложило на человека железные узы: под гнетом их мы стали невольниками, лишенными способности выносить блеск многообильной природы. её сокровища не принадлежат нам более: мы уронили высокое свое достоинство, продав свою независимость. Глубоко униженною чувствует себя благородная душа, при мысли, что она связала свои силы гражданскими обязательствами, что ради жалких выгод принесла драгоценнейшую жертву[9 - Romans de Charles, изд. 1855.].
Важнее другое сочинение Нодье: (Jean Sbogar), напечатанное в 1818 г., но написанное шестью годами прежде. Оно названо «историческим» романом, потому что герой его – лицо действительное, а не вымышленное. Это был атаман разбойников, родом Далмат, осужденный и казненный в то время, как Иллирия находилась под управлением французов (1809-15).
Здесь выступает на сцену тип, сходный с предыдущими тем, что носит на себе все страдания переходной эпохи, но в то же время и существенно отличный от них тем, что по душевной энергии и силе воли презирает страдательную жизнь, хочет действовать и решительным образом высказывает свою деятельность, для которой неспособны ни Рене, ни Оберман, ни Адольф.
Идея представлять людей, у которых личное чувство справедливости глубоко возмущено общественною неправдой и которые, не вынося такого противоречия, отрешаются от гражданства и образуют, по своему идеалу, особенный круг – общество в обществе, такая идея не новость в литературе. Шиллер блистательно олицетворил ее в одном из первых своих произведений, в Разбойниках (1781 г.). Трагедия эта проникнута тем духом, которым запечатлен французский государственный переворот. Франц Моор – мелкий тиран с атеизмом и легкомысленным материялизмом Системы природы (Syst?me de la Nature, Гольдбаха); брат его Карл относятся к нему и целому миру, как о коего рода Дантон. По его доктрине, ужас и разрушение должны даровать господство добродетели и нестесненному развитию человека, меч и огонь орудия для достижения цели[10 - Zur W?rdigung Fried. Schillers, в прибавлении к сочинению Морица Карьера: Das Wesen und die Formen der Poesie (1854).]. И как Вертер есть печальный тип слабовольных личностей, более или менее родственных Гамлету, так Карл Моор – начальный тип личностей энергических, открыто враждующих с нестроениями общественными. Вертер и Разбойники содержат в себе как бы предчувственную историю переворотов, готовых хлынуть на Европу; Рене есть история общества, достигшего положенных ему пределов. Все другие произведения того же литературного разряда следуют за этими тремя лицами, открывающими печальную процессию людей переходной эпохи.
Сбогар занимает достойное место подле Абелино (Цшокке), Карла Моора (Шиллера) и Корсара (Байрона). При атлетических и красивых Формах, руки его были женские, белые и нежные, как у Печорина и Конрада. В его лице, постуии, взгляде и голосе выражалось властительное величие, особенно в то время, как он хмурил брови. Он объяснялся приятно на французском, немецком, италиянском и новогреческом языках и многих славянских наречиях. Молва о нем долго сохранялась в Венецианской области, бывшей главным театром его подвигов. Наполеон, в заточении на острове Св. Елены, случайно прочитал роман Нодье. Внимание его было поражено не самою повестью, а «записною книжкой» Лотарио (имя, под которым Сбогар являлся в венециянском обществе). В этой книжке набросаны политические и социальные заметки, получившие в последствии знаменитую известность. Тогда (1818) они имели значение романтических мечтаний, были предвидением, развившимся в сороковых годах в особые системы и образовавшим целую школу. Здесь подняты вопросы, поразительные смелостию утопических воззрений и нашедшие свое место в теориях общественных реформ.
Шайка Сбогара носит название братьев общего блага. Предводитель её пленяется красотою и кротостию Антонии, которая, вместе с овдовевшею сестрою своей Аиьбери, живет сначала в Триесте, потом в Венеции. В последнем городе они знакомятся с Лотарио, который возбуждает к себе любовь Антонии, но отвергает и самую мысль соединения с нею: такой союз омрачил бы чистоту невинной девушки. В разговорах с нею и в своих действиях, он выказывается именно человеком XIX столетия, с тяжелым сомнением в душе, с негодованием против злоупотреблений, с желанием перестроить общество по своему образцу.
Не в одной эпической форме выражалась главная болезнь века, скептицизм. Вместо того, чтобы передавать вымышленным лицам повесть своих собственных духовных страданий, авторы часто исповедовали их сами от себя. Многие лирические стихотворения говорят то же самое, что читатель узнает из рассказов о Рене, Обермане, Адольфе, Сбогаре. Исчислять их сполна нет ни надобности, ни возможности: мы скажем только о Ламартине и Гюго.
Поэтические размышления (Mеditations poеtiques, 1820-23) и Новые поэтические размышления (Nouvelles mеditations poеtiques, 1824) разоблачают муки сомнения – не того, который в XVIII веке самодовольно и высокомерно гордился собою, уверенный в своей силе, а того, который, предавшись горести и меланхолии, тревожась между страхом будущего и сожалением о прошлом, стремился к восстановлению веры и вместе с этим не знал как помочь своему неверию. Это – скептицизм печальный и резонирующий, болезненный упадок всех элементов нравственной жизни. Скорбный дух просит точки опоры и старается найти ее в том самом, что прежде им же подорвано – его неугомонною пытливостию и разрушительным анализом. Звуки гармонической и часто риторической лиры Ламартина, в которой Веневитинов справедливо видел отсутствие истинной поэзии, оплакивают болезненные страдания, терзающие ум нового человека, подобно тому, как коршун терзал грудь Прометея.
Религиозные и поэтические гармонии (Harmonies poеtiques et religieuses, 1830) запечатлены тем же характером рефлексия: они отражают внутреннюю борьбу противоположных начал. Поэт постоянно силится избежать сомнения, но сомнение, раз отраженное, возвращается снова и овладевает духом с большее еще силою. Он нерешительно склоняется то в ту, то в другую сторону: равно боится и утверждений и отрицаний категорических, и мысли его нередко уступают место мечтам, а мечтания переходят в мысли. Кроме того в некоторых пиесах Новых поэтических размышлений и гармоний пантеизм является последним словом Ламартина, крайним его решением. В 8 главе поэмы Падение ангела даже наложена пантеистическая философия[11 - Histoire de la littеrature fran?aise sous la restauration, par Alfred Nettement. 1853. T. 1. Etudes sur la la littеrature Fran?aise au. XIX-eme si?cle, par А. Vinet. 1857. t. II.].
Точно такого же рода сомнение воспевал и Гюго в сборниках своих стихотворений, большею частию элегических:
Осенние листья (Les feuilles d'automne, 1831), Сумеречные песни (Les chassie du crеpuscule, 1835), Внутренние голоса (Les voix intеrieures, 1837), Лучи и тени (Les rayons et les ombres, 1840).
До французского переворота идеи, желания и надежды, направляясь к общей цели: если не находили её в действительности, то по крайней мере не сомневались в возможности достигнуть её, осуществить идеальные стремления. Катастрофа показала, что даже в идеалах кроется демоническая сила, враждебная жизни.
Как в мире внешнем многое раскололось и пало, так и в душе совершилось разложение. Повсюду видны были обломки мнений и начал. Темная сторона идей софистически выставлялась на показ: искусившаяся в диалектике мысль готова была доказывать и бесправие права, и право бесправия. Можно сказать, что все сделалось истинным и ничто не было истинным: ум цеплялся за каждый предмет, не прилепляясь твердо ни к одному предмету. Не было для него ни настоящего света, ни настоящей тьмы: полумрак и полусвет, как образ умственного состояния, могли уподобиться только нравственному безразличию.