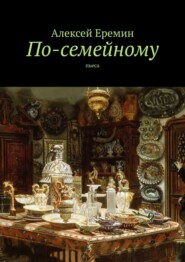По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Счастье в творчестве
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Счастье в творчестве
Алексей Еремин
Сборник рассказов. В Цикле «Герада» описано превращение забитого и тихого человека в мстительного маньяка. Рассказ «Искушение» посвящен человеку, принявшему разумное решение, которое оказалось ошибочным.
Счастье в творчестве
Алексей Еремин
© Алексей Еремин, 2015
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru
Выкидыш
Предисловие
Не хотел и не хочу писать этот текст. Замысел кажется односложным. Но за две недели не удалось утопить в себе идею. Она, как жёлтый буй, болтается на поверхности. Кроме того, манит надежда, что непотопляемость идеи означает заданность свыше, и возможна награда.
«В мире печатаются тысячи, даже миллионы людей. Печатаются наследственные писатели, печатают сочинения телеведущих, печатают поэтов, которые пишут в свободное от основной работы время, печатают писателей, о которых известно, что их тексты на века, печатают романы сценаристов, пианистов, художников, юристов, печатают подростков, печатают воров, наказанных и нет, в особых журналах печатают непризнанных гениев, окружённых почитателями, печатают…
Бесспорно, сейчас публика образованнее читателей прошлого. Когда-то в прошлом, Даниил Заточник молил князя о помощи, читатели Платонова не видели красоты слога, не принимали Джойса, и давно-давно прошло то время, когда Ван-Гог совершил все эти гадости из-за некультурной общественности. В настоящее время общество находится на том этапе развития, когда отлажена связь между творцом и издателем, сейчас любого автора, хоть сколь-нибудь талантливого, сразу заметят и оценят. Невозможно ведь отрицать прогресс человечества!
Сегодня был в общественном туалете на вокзале. Там по стене струилась длинная вода. «Так писать нельзя». Приятно знать, что есть люди, которые знают, как нужно писать. Настоящий талант всегда пробивал себе дорогу к признанию с трудом, иногда его понимали не современники, но потомки, кроме того, рукописи не горят, да, и ещё, – не один из самых великих памятников искусства не был уничтожен и существует вечно.
Мои рукописи, если по листу подкладывать в костёр горят очень хорошо. Эссе о поэзии и жизни Гарсиласо де ла Вега и рассказ сгорели без остатков.
В пятнадцать лет я начал писать. В двадцать один год впервые составил лестницу абзацев, что прочна и сейчас. В двадцать два отнёс рукопись в редакцию, не сомневаясь в успехе. За все прошедшие годы ни строчки не было опубликовано. Дважды к одному вершителю судьбы я не обращался, привычным ходоком не стал, и может потому остался один. Первая моя жена и вторая прекрасные женщины, но им больше нравлюсь я, чем мои сочинения, которые для них вполне пристойное развлечение, как собирание спичечных коробков и марок. Мои друзья умные и образованные люди. В моих сочинениях они не видят ничего выдающегося, хоть дружно не понимают, отчего мои тексты не печатаются. Раньше думал, они не видят текста за мной. Теперь так не думаю. Я слишком ценю дружбу, чтоб унижать разъяснением.
Однажды решил облегчить жизнь, увеличить досуг и бросил сочинять. Я перестал откликаться на сравнения, на предложения, на мимолётные фантазии и сложные, как жизнь, сны. Было легко не писать. Супруга была довольна, я больше жил с детьми, чаще навещал дочь от первого брака. Но постепенно стал чувствовать, как превращаюсь в подлеца, – я стал слишком разумен для условностей чужих чувств. Всё реже, но так же больно, как прежде били мёртвый щенок, лесная речка или слёзы жены, расстроенной соринкой пустяка. Но главное, я перестал быть интересен себе. Себя с собой я чувствовал никак.
Бессильный бороться с читателями, бессилен в борьбе с собой. Я больше не пишу ничего большого и цельного для людей. Теперь я записываю жизнь. На позапрошлой неделе заговорил старший сын; в тексте раскрылась улыбка жены и проступили слезинки в уголках её глаз.
На работе странная связь пожилого бухгалтера и молодой секретарши. Набросал чертёж рассказа отношений. Вид сбоку.
Мчался поезд, за окном парил мелкий снег, и казалось, перед стволами сосен стелется густой дым.
Придумал смешную и злую пьесу, подобрал театр, режиссёра, актёров, построил декорации, но не записал даже название.
Вчера был чудесный вечер смеха, телевизионная программа о современной литературе. Литераторы говорили с большим почтением друг к другу, начиная со слов «я очень уважаю NN и высоко ценю его творчество»… Лучшие остроты: образцы прозы и «воздушная аура её стихов». Отличная клоунада в день культуры по казённым восторгам, телодвижениям в исполнении президента, председателя правительства, нескольких министров, изобразивших любовь к национальной культуре.
Забавно представить критику «Выкидыша». «Автор, непризнанный и потому озлобленный на мир, не признающий своих великих современников, представляет пример, олицетворяющий в его лице философию грусти и безысходности, нездорового пессимизма, предопределённую его жизнью и предопределившую тупики в развитии его творческой манеры».
Смешно подумать, если исчезнут все мои записи. Рядовой служащий лучшие силы отдавал литературе, но ничего не осталось, вопреки словам всех богов и мудрецов жизни.
Смешно.
Человек всю жизнь простоял у дороги, а когда лёг и умер, – прохожие опять не заметили его!
И всё же, – пусть без надежды, пусть бесцельно, пусть со страданием, но – писать! В выходные начал большую повесть, а сквозь её текст, как солнце сквозь крону клена, светит заря большого романа.
Потому что я человек, и я так желаю».
Сборник «Герада»
Герада
Кругом него сверкал праздник мусора. Левое колено гнусавило собачьим калом. Густой кустарник прокалывал каждое движение. Нищий запах гнил в носу. Но Гера не жил – дорожка между гаражей вбирала его всего.
Мёртвую дорогу прошептал слабый свет фонаря. Но вот, издалека забрезжил мотор. Гера привстал, но сразу сел на крикнувший в тело кустарник. Гера ссохся и просмотрел пальцами холщовый рюкзак, вглядываясь в дорожку. На воротах дальнего гаража плеснуло пятно света. Свет медленно набирал голос. Пятна света затанцевали и запели на молчаливых воротах гаражей. Свет подтягивал на вожжах чёрную машину, – фары грубили прямо в глаза.
Гера разобрал пальцами узел. Когда он освободил холодные сдвоенные стволы и деревянную рукоятку обрезанного животного ружья, машина пробормотала роковые ворота. Гера больно спрыгнул худыми ногами на острую дорожку. Гравий твёрдо заворчал под мягкой подошвой. Он смазал ладонями рукоять и сытые стволы ружья. Он появился в слабом проёме между створкой ворот и кормой машины. В этот момент в гараже под потоком заговорила лампа. Большое тело басило в трёх шагах перед ним. Преданные камешки на бетонном полу предупредительно вспыхнули под маленькими ботиночками Геры. Чёрное тело икнуло. Страх заорал на Геру. Страх ослепил. Страх оглушил. Но руки сотни раз сыгранным движением взвизгнули стволами перед лицом.
Грохот озарил рождение прекрасного мира.
В аппетитных мечтах казалось, что на потолках гаражей всегда ржавые крюки. Однако на потолке не за что было подвесить тело. Тогда щёлкнула дверь автомобиля. С писком стекло отражение, и руки красными узлами набухли на закате автомобильной дверцы.
Гера суетился вокруг крупного тела, ожившего стонами. Из рюкзака укусили вскрикнувший бетон нож, ножницы, керосиновая горелка. Дали пощёчину зимние варежки. Нож чёрно затрещал одеждой, обрывками умершей на полу. В горелке родилось, выросло, задремало, проснулось, и голодно замычало пламя. Пока клюв гвоздодёра разгорался в празднике пламени, голый человек, тянувший скрип руками из двери, стоявший на полусогнутых окровавленных ногах, ругал Геру грязными и смертельными словами. Гера молчал. Гера надеялся, что его молчание дрожит в человеке. Гера молчал и смотрел на музыку огня. Он опасался, что человек иссякнет раньше замысла. Гера оживил варежки, горячо взял ствол гвоздодёра. Гера подошёл к человеку сзади. Он разлепил половинки его ягодиц, снизу-вверх заглядывая в тело. Но правая рука приподнималась слишком нудно. Тогда он сжал тёплый ствол гвоздодёра двумя руками, развеселил его в пламени, торопливо прошептал ботиночками, прицелился и ворвался оранжевым шипением внутрь. Дикий крик вспыхнул на раскалённом металле. Крик заиграл оттенками по стенам, заметался по гаражу яркой бабочкой и погас. Гера потрясённо счастливо улыбнулся. Пол вяло вздрогнул оружием. Завершился гимн горелки. Он сел на пол и стал любоваться телом. Он слушал мощную музыку этого тела, расписанного полосами крови. Он улыбался ноге, от колена в жидком алом чулке, и прислушивался негромкому, лиричному свету.
Предпразднично звякнула восторженная мысль, что недаром он взял ножичек. Гера прогремел весь гараж, но не нашёл воды. Тогда он слил красные узоры с игрушки бензином булькавшей канистры. Потом пописал, стараясь зашипеть во рту раны на его ноге. Затем постоял, потрясая кожаным чулочком. Он закидывал последние капли человеку на спину, и играл, пытаясь забросить хоть капельку на его затылок. Человек на дверце вновь, уже слабо, но зло засветился. Гера радостно улыбнулся. Он взял ножик и красно спустился от шеи к копчику, словно раскрылась молния, или улыбнулся арбуз, заблестевший алой мякотью. Человек застонал. Гера расстроился. Вместо архитектуры флейты он увидел красно-белую грязь. В пламени крика, бензин на быстрый взгляд омыл пейзаж. Ствол зазвучал и тут же вновь испачкался. Пришло увлекательнейшее поджечь человека и посмотреть, как он будет танцевать и съёживаться. Но Гера похоронил желание. – Рядом дремали гаражи светлых людей.
Он зашуршал в рюкзак инструментом. Ещё раз вонзил в задний проход гвоздодёр. Гвоздодёр поиграл, порезвился внутри монотонного тела, и выплеснулся. Гера со всей своей маленькой силы переломно ударил в позвоночник, зашуршал в рюкзак трудолюбивым инструментом, ущипнул из чёрных обрывков тела деньги, и выхрустел в прохладный ночной воздух. Прощально застонала створка.
Глава.
Рюкзак Геры молчал. Лишь иногда грубил в спину обух топора. Ступать ночами вдоль дома было слишком громко, потому он угловато серел на ступенях в подвал. Несколько ночей он всматривался в приближавшиеся рассветы автомобилей. Однако нужной машины в нужное время не было. Хоть только ночью Гера всходил и садился, но люди жили, и могли обидеть его. Люди могли приговорить его к тюрьме внимательным взглядом. Он дрожал. Но снова и снова упрямился в засаду. И в одну ночь удача поцеловала, полюбила и опустошила его.
Громкий человек сумбурно шумел у машины. Наконец, дверца отрезала шум. Человек забулькал жидкой очередью, что пузырилась из его тела и лопалась в ночной тишине. Засверкали маленькие шажки. Но Гера уже выбрался из засады. Уже ликовал на свободе топор. Он уже нырнул вдоль стены. Он уже холодел у лестницы. Уже гнила в ладонях деревянная рукоять. Ударил шаг девятый, и Гера взорвался из-под лестницы. Человек брызнул звонким голосом, и тот час обух топора хрустнул в тонкий лобик.
Гера заструил разбитое тело в укрытие. Из кармана обнял бутылку, прозрачно смыл внутрь вялого тела упрямые таблетки. Мягко оторвал обувь с ног. Бело обмотал рассечённую голову. Потно уложил своевольное тело в рюкзак, но не забыл заботливо расшевелить отверстие для дыхания, после чего придавил себя.
Он мокро и пьяно добрёл до полуживой дороги. Робкая машина проскулила до вокзала. На раннем вокзале властвовали сонные патрули милиционеров. Но его скудное тело, его сытый рюкзак, его лицо, открыто преданные фонарями, жили мимо них.
В нудной электричке Гера чувствовал, что тот в рюкзаке выдаст его, и сидел как в камере. Когда почти рассвело, в чистоте остановки, тишину испачкал слюнявый стон. Гера застонал следом и сжал голову, словно от боли. Пальцы набрали рот в рюкзаке и мокро закрыли его.
От полустанка Гера шатался в птичьей тени леса. Лес мокро шуршал, вскрикивал сучьями под бесчувственной подошвой. Тёмный человек за спиной медленно разгорался, потому Гера шёл празднично. Но в спину ему выстрелила мысль. – Свёрнутый зародышем не мог быть без пистолета. А пистолет ещё не молчал солидно в его ладони. Рюкзак плотно прихлопнул хвою. Шире распелся выход, и Гера улыбнулся уже живым, но ещё рассветным глазам. Полной ночью похолодел в кармане пистолет. Гера вновь тоще взвалил на себя рассветавшего человека.
Они вышли к опушке. Здесь кривым лезвием угрожали рельсы. Ещё ночное тело вытекло из мешка. Гера красно скрепил босые руки и ноги. Он гулко отрубил четыре руки у дерева, и в брызгах счастья заострил концы.
Когда придумывал, само вплыло гениальное подвесить урожайное тело надувной женщины. Но резиновая женщина томила его только из одной витрины во всём городе. Она сразу указала бы на него. Потому он придумал подвесить две дутые груди воздушных шаров, чтоб они ликовали на мохнатом теле ели под соблазнительный шёпот. Он рассыпал метров двести камней вперёд по повороту. Затем колюче вскарабкался на сосну, и она засмеялась бессонными глазами. Хохоча колёсами, промчался войной поезд, расшвыривая ветер. Гера рассыпчато выбрал четыре ямки, вбил четыре кола, и в ямки зажурчали камни.
Человечек тусклым голосом заговорил с ним золотыми предложениями, затем громовыми угрозами. Но Гера заныл его телом по склону к рельсам. Он боялся его рук, потому сначала освободил ноги. Но ноги велосипедом стали жарко загораться на его теле. Тогда Гера топором, больно переломил посредине кость голени. Человек запылал, а Гера осторожно, чтобы не оторвалась прооперированная часть, прикрутил ступню верёвкой к колу. Легче он заскрипел второй ступнёй, так что ноги широко закричали. Дольше он готовил руки, но и они замолчали и сдались в плен. Гера хотел, чтобы лёгкий человек видел приближение тяжёлой смерти, потому как подушкой, испачкал его затылок гнилушкой.
Человек светился криками на весь лес, и мешал Гере учиться пистолету, – Гера не мог допустить, чтобы карлик рассмеялся снова, и поэтому спрятался за деревом, согревая хладнокровного убийцу. Двадцать минут спустя, он слушал уже бесцветные крики, но потел, что кто-нибудь их услышит. С нетерпением он ликовал поезду, что мокро проедет по рельсам. Ножом развалит селёдку.
Всё случилось, как задумал Гера. Товарный состав пел на скорости в повороте. Машинистам вспыхнули в глаза два красных шара. На короткой прямой они увидели нечто, и тут же колесо продавило пополам тело. Поезд поморщился, заскулил тормозами. А Гера уже мелькал в лесу, и снова ему в спину хамил топор. У лесной реки он булькнул в глубину пистолетом. Красочный топор долго резал встречную воду, пока не поскучнел. Гера отмыл боевые награды с одежды, и устал глубоким лесом к автобусной остановке. Он пронзил мыслью, что электрички долго не будет, а на платформе полустанка скоро станет слишком громко и светло.
Глава.
Оставался последний и самый трудный. Но Геру не только пьянила радость свободного карнавала, его уже тошнило утомление. Слишком громко отвалилась половинка тела. Гера не понимал, откуда эта усталость, ведь он всё делал честно в ответ.
Алексей Еремин
Сборник рассказов. В Цикле «Герада» описано превращение забитого и тихого человека в мстительного маньяка. Рассказ «Искушение» посвящен человеку, принявшему разумное решение, которое оказалось ошибочным.
Счастье в творчестве
Алексей Еремин
© Алексей Еремин, 2015
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru
Выкидыш
Предисловие
Не хотел и не хочу писать этот текст. Замысел кажется односложным. Но за две недели не удалось утопить в себе идею. Она, как жёлтый буй, болтается на поверхности. Кроме того, манит надежда, что непотопляемость идеи означает заданность свыше, и возможна награда.
«В мире печатаются тысячи, даже миллионы людей. Печатаются наследственные писатели, печатают сочинения телеведущих, печатают поэтов, которые пишут в свободное от основной работы время, печатают писателей, о которых известно, что их тексты на века, печатают романы сценаристов, пианистов, художников, юристов, печатают подростков, печатают воров, наказанных и нет, в особых журналах печатают непризнанных гениев, окружённых почитателями, печатают…
Бесспорно, сейчас публика образованнее читателей прошлого. Когда-то в прошлом, Даниил Заточник молил князя о помощи, читатели Платонова не видели красоты слога, не принимали Джойса, и давно-давно прошло то время, когда Ван-Гог совершил все эти гадости из-за некультурной общественности. В настоящее время общество находится на том этапе развития, когда отлажена связь между творцом и издателем, сейчас любого автора, хоть сколь-нибудь талантливого, сразу заметят и оценят. Невозможно ведь отрицать прогресс человечества!
Сегодня был в общественном туалете на вокзале. Там по стене струилась длинная вода. «Так писать нельзя». Приятно знать, что есть люди, которые знают, как нужно писать. Настоящий талант всегда пробивал себе дорогу к признанию с трудом, иногда его понимали не современники, но потомки, кроме того, рукописи не горят, да, и ещё, – не один из самых великих памятников искусства не был уничтожен и существует вечно.
Мои рукописи, если по листу подкладывать в костёр горят очень хорошо. Эссе о поэзии и жизни Гарсиласо де ла Вега и рассказ сгорели без остатков.
В пятнадцать лет я начал писать. В двадцать один год впервые составил лестницу абзацев, что прочна и сейчас. В двадцать два отнёс рукопись в редакцию, не сомневаясь в успехе. За все прошедшие годы ни строчки не было опубликовано. Дважды к одному вершителю судьбы я не обращался, привычным ходоком не стал, и может потому остался один. Первая моя жена и вторая прекрасные женщины, но им больше нравлюсь я, чем мои сочинения, которые для них вполне пристойное развлечение, как собирание спичечных коробков и марок. Мои друзья умные и образованные люди. В моих сочинениях они не видят ничего выдающегося, хоть дружно не понимают, отчего мои тексты не печатаются. Раньше думал, они не видят текста за мной. Теперь так не думаю. Я слишком ценю дружбу, чтоб унижать разъяснением.
Однажды решил облегчить жизнь, увеличить досуг и бросил сочинять. Я перестал откликаться на сравнения, на предложения, на мимолётные фантазии и сложные, как жизнь, сны. Было легко не писать. Супруга была довольна, я больше жил с детьми, чаще навещал дочь от первого брака. Но постепенно стал чувствовать, как превращаюсь в подлеца, – я стал слишком разумен для условностей чужих чувств. Всё реже, но так же больно, как прежде били мёртвый щенок, лесная речка или слёзы жены, расстроенной соринкой пустяка. Но главное, я перестал быть интересен себе. Себя с собой я чувствовал никак.
Бессильный бороться с читателями, бессилен в борьбе с собой. Я больше не пишу ничего большого и цельного для людей. Теперь я записываю жизнь. На позапрошлой неделе заговорил старший сын; в тексте раскрылась улыбка жены и проступили слезинки в уголках её глаз.
На работе странная связь пожилого бухгалтера и молодой секретарши. Набросал чертёж рассказа отношений. Вид сбоку.
Мчался поезд, за окном парил мелкий снег, и казалось, перед стволами сосен стелется густой дым.
Придумал смешную и злую пьесу, подобрал театр, режиссёра, актёров, построил декорации, но не записал даже название.
Вчера был чудесный вечер смеха, телевизионная программа о современной литературе. Литераторы говорили с большим почтением друг к другу, начиная со слов «я очень уважаю NN и высоко ценю его творчество»… Лучшие остроты: образцы прозы и «воздушная аура её стихов». Отличная клоунада в день культуры по казённым восторгам, телодвижениям в исполнении президента, председателя правительства, нескольких министров, изобразивших любовь к национальной культуре.
Забавно представить критику «Выкидыша». «Автор, непризнанный и потому озлобленный на мир, не признающий своих великих современников, представляет пример, олицетворяющий в его лице философию грусти и безысходности, нездорового пессимизма, предопределённую его жизнью и предопределившую тупики в развитии его творческой манеры».
Смешно подумать, если исчезнут все мои записи. Рядовой служащий лучшие силы отдавал литературе, но ничего не осталось, вопреки словам всех богов и мудрецов жизни.
Смешно.
Человек всю жизнь простоял у дороги, а когда лёг и умер, – прохожие опять не заметили его!
И всё же, – пусть без надежды, пусть бесцельно, пусть со страданием, но – писать! В выходные начал большую повесть, а сквозь её текст, как солнце сквозь крону клена, светит заря большого романа.
Потому что я человек, и я так желаю».
Сборник «Герада»
Герада
Кругом него сверкал праздник мусора. Левое колено гнусавило собачьим калом. Густой кустарник прокалывал каждое движение. Нищий запах гнил в носу. Но Гера не жил – дорожка между гаражей вбирала его всего.
Мёртвую дорогу прошептал слабый свет фонаря. Но вот, издалека забрезжил мотор. Гера привстал, но сразу сел на крикнувший в тело кустарник. Гера ссохся и просмотрел пальцами холщовый рюкзак, вглядываясь в дорожку. На воротах дальнего гаража плеснуло пятно света. Свет медленно набирал голос. Пятна света затанцевали и запели на молчаливых воротах гаражей. Свет подтягивал на вожжах чёрную машину, – фары грубили прямо в глаза.
Гера разобрал пальцами узел. Когда он освободил холодные сдвоенные стволы и деревянную рукоятку обрезанного животного ружья, машина пробормотала роковые ворота. Гера больно спрыгнул худыми ногами на острую дорожку. Гравий твёрдо заворчал под мягкой подошвой. Он смазал ладонями рукоять и сытые стволы ружья. Он появился в слабом проёме между створкой ворот и кормой машины. В этот момент в гараже под потоком заговорила лампа. Большое тело басило в трёх шагах перед ним. Преданные камешки на бетонном полу предупредительно вспыхнули под маленькими ботиночками Геры. Чёрное тело икнуло. Страх заорал на Геру. Страх ослепил. Страх оглушил. Но руки сотни раз сыгранным движением взвизгнули стволами перед лицом.
Грохот озарил рождение прекрасного мира.
В аппетитных мечтах казалось, что на потолках гаражей всегда ржавые крюки. Однако на потолке не за что было подвесить тело. Тогда щёлкнула дверь автомобиля. С писком стекло отражение, и руки красными узлами набухли на закате автомобильной дверцы.
Гера суетился вокруг крупного тела, ожившего стонами. Из рюкзака укусили вскрикнувший бетон нож, ножницы, керосиновая горелка. Дали пощёчину зимние варежки. Нож чёрно затрещал одеждой, обрывками умершей на полу. В горелке родилось, выросло, задремало, проснулось, и голодно замычало пламя. Пока клюв гвоздодёра разгорался в празднике пламени, голый человек, тянувший скрип руками из двери, стоявший на полусогнутых окровавленных ногах, ругал Геру грязными и смертельными словами. Гера молчал. Гера надеялся, что его молчание дрожит в человеке. Гера молчал и смотрел на музыку огня. Он опасался, что человек иссякнет раньше замысла. Гера оживил варежки, горячо взял ствол гвоздодёра. Гера подошёл к человеку сзади. Он разлепил половинки его ягодиц, снизу-вверх заглядывая в тело. Но правая рука приподнималась слишком нудно. Тогда он сжал тёплый ствол гвоздодёра двумя руками, развеселил его в пламени, торопливо прошептал ботиночками, прицелился и ворвался оранжевым шипением внутрь. Дикий крик вспыхнул на раскалённом металле. Крик заиграл оттенками по стенам, заметался по гаражу яркой бабочкой и погас. Гера потрясённо счастливо улыбнулся. Пол вяло вздрогнул оружием. Завершился гимн горелки. Он сел на пол и стал любоваться телом. Он слушал мощную музыку этого тела, расписанного полосами крови. Он улыбался ноге, от колена в жидком алом чулке, и прислушивался негромкому, лиричному свету.
Предпразднично звякнула восторженная мысль, что недаром он взял ножичек. Гера прогремел весь гараж, но не нашёл воды. Тогда он слил красные узоры с игрушки бензином булькавшей канистры. Потом пописал, стараясь зашипеть во рту раны на его ноге. Затем постоял, потрясая кожаным чулочком. Он закидывал последние капли человеку на спину, и играл, пытаясь забросить хоть капельку на его затылок. Человек на дверце вновь, уже слабо, но зло засветился. Гера радостно улыбнулся. Он взял ножик и красно спустился от шеи к копчику, словно раскрылась молния, или улыбнулся арбуз, заблестевший алой мякотью. Человек застонал. Гера расстроился. Вместо архитектуры флейты он увидел красно-белую грязь. В пламени крика, бензин на быстрый взгляд омыл пейзаж. Ствол зазвучал и тут же вновь испачкался. Пришло увлекательнейшее поджечь человека и посмотреть, как он будет танцевать и съёживаться. Но Гера похоронил желание. – Рядом дремали гаражи светлых людей.
Он зашуршал в рюкзак инструментом. Ещё раз вонзил в задний проход гвоздодёр. Гвоздодёр поиграл, порезвился внутри монотонного тела, и выплеснулся. Гера со всей своей маленькой силы переломно ударил в позвоночник, зашуршал в рюкзак трудолюбивым инструментом, ущипнул из чёрных обрывков тела деньги, и выхрустел в прохладный ночной воздух. Прощально застонала створка.
Глава.
Рюкзак Геры молчал. Лишь иногда грубил в спину обух топора. Ступать ночами вдоль дома было слишком громко, потому он угловато серел на ступенях в подвал. Несколько ночей он всматривался в приближавшиеся рассветы автомобилей. Однако нужной машины в нужное время не было. Хоть только ночью Гера всходил и садился, но люди жили, и могли обидеть его. Люди могли приговорить его к тюрьме внимательным взглядом. Он дрожал. Но снова и снова упрямился в засаду. И в одну ночь удача поцеловала, полюбила и опустошила его.
Громкий человек сумбурно шумел у машины. Наконец, дверца отрезала шум. Человек забулькал жидкой очередью, что пузырилась из его тела и лопалась в ночной тишине. Засверкали маленькие шажки. Но Гера уже выбрался из засады. Уже ликовал на свободе топор. Он уже нырнул вдоль стены. Он уже холодел у лестницы. Уже гнила в ладонях деревянная рукоять. Ударил шаг девятый, и Гера взорвался из-под лестницы. Человек брызнул звонким голосом, и тот час обух топора хрустнул в тонкий лобик.
Гера заструил разбитое тело в укрытие. Из кармана обнял бутылку, прозрачно смыл внутрь вялого тела упрямые таблетки. Мягко оторвал обувь с ног. Бело обмотал рассечённую голову. Потно уложил своевольное тело в рюкзак, но не забыл заботливо расшевелить отверстие для дыхания, после чего придавил себя.
Он мокро и пьяно добрёл до полуживой дороги. Робкая машина проскулила до вокзала. На раннем вокзале властвовали сонные патрули милиционеров. Но его скудное тело, его сытый рюкзак, его лицо, открыто преданные фонарями, жили мимо них.
В нудной электричке Гера чувствовал, что тот в рюкзаке выдаст его, и сидел как в камере. Когда почти рассвело, в чистоте остановки, тишину испачкал слюнявый стон. Гера застонал следом и сжал голову, словно от боли. Пальцы набрали рот в рюкзаке и мокро закрыли его.
От полустанка Гера шатался в птичьей тени леса. Лес мокро шуршал, вскрикивал сучьями под бесчувственной подошвой. Тёмный человек за спиной медленно разгорался, потому Гера шёл празднично. Но в спину ему выстрелила мысль. – Свёрнутый зародышем не мог быть без пистолета. А пистолет ещё не молчал солидно в его ладони. Рюкзак плотно прихлопнул хвою. Шире распелся выход, и Гера улыбнулся уже живым, но ещё рассветным глазам. Полной ночью похолодел в кармане пистолет. Гера вновь тоще взвалил на себя рассветавшего человека.
Они вышли к опушке. Здесь кривым лезвием угрожали рельсы. Ещё ночное тело вытекло из мешка. Гера красно скрепил босые руки и ноги. Он гулко отрубил четыре руки у дерева, и в брызгах счастья заострил концы.
Когда придумывал, само вплыло гениальное подвесить урожайное тело надувной женщины. Но резиновая женщина томила его только из одной витрины во всём городе. Она сразу указала бы на него. Потому он придумал подвесить две дутые груди воздушных шаров, чтоб они ликовали на мохнатом теле ели под соблазнительный шёпот. Он рассыпал метров двести камней вперёд по повороту. Затем колюче вскарабкался на сосну, и она засмеялась бессонными глазами. Хохоча колёсами, промчался войной поезд, расшвыривая ветер. Гера рассыпчато выбрал четыре ямки, вбил четыре кола, и в ямки зажурчали камни.
Человечек тусклым голосом заговорил с ним золотыми предложениями, затем громовыми угрозами. Но Гера заныл его телом по склону к рельсам. Он боялся его рук, потому сначала освободил ноги. Но ноги велосипедом стали жарко загораться на его теле. Тогда Гера топором, больно переломил посредине кость голени. Человек запылал, а Гера осторожно, чтобы не оторвалась прооперированная часть, прикрутил ступню верёвкой к колу. Легче он заскрипел второй ступнёй, так что ноги широко закричали. Дольше он готовил руки, но и они замолчали и сдались в плен. Гера хотел, чтобы лёгкий человек видел приближение тяжёлой смерти, потому как подушкой, испачкал его затылок гнилушкой.
Человек светился криками на весь лес, и мешал Гере учиться пистолету, – Гера не мог допустить, чтобы карлик рассмеялся снова, и поэтому спрятался за деревом, согревая хладнокровного убийцу. Двадцать минут спустя, он слушал уже бесцветные крики, но потел, что кто-нибудь их услышит. С нетерпением он ликовал поезду, что мокро проедет по рельсам. Ножом развалит селёдку.
Всё случилось, как задумал Гера. Товарный состав пел на скорости в повороте. Машинистам вспыхнули в глаза два красных шара. На короткой прямой они увидели нечто, и тут же колесо продавило пополам тело. Поезд поморщился, заскулил тормозами. А Гера уже мелькал в лесу, и снова ему в спину хамил топор. У лесной реки он булькнул в глубину пистолетом. Красочный топор долго резал встречную воду, пока не поскучнел. Гера отмыл боевые награды с одежды, и устал глубоким лесом к автобусной остановке. Он пронзил мыслью, что электрички долго не будет, а на платформе полустанка скоро станет слишком громко и светло.
Глава.
Оставался последний и самый трудный. Но Геру не только пьянила радость свободного карнавала, его уже тошнило утомление. Слишком громко отвалилась половинка тела. Гера не понимал, откуда эта усталость, ведь он всё делал честно в ответ.