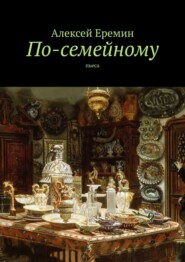По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Счастье в творчестве
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он приехал из деревни, тускло окончил училище, остался в городе. Гера однообразно дышал в комнате общей квартиры и продавал водку на рынке. Деньгами он помогал родителям в деревне и сестре, что жила с ними, без мужа баловала сына. Племянник ел его жизнь, но презирал дурачком. В ответ Гера не обижался, грустно понимая молодость и свою бесцветность. Он жил беззлобным, полным мелких забот существом, пока они не пришли к нему.
Увидев их, он закричал от ужаса и умер. Они спросили ящик водки. Гера знал их могущество, но не мог без разрешения хозяина отдать чужое. Слова искрились на гордых губах. Слова пачкали, били его почти прожитое тело. Но Гера не мог без разрешения отдать чужое бесплатно. Он упрямо умирал перед ними.
Вскоре подбежал хозяин. Хозяин уничтожил Геру и отдал водку. Трое гордых людей, как гвардейские офицеры блестящими сапогами, раздавили окурок Геры. Скрипя на снегу, он звонко поднёс им до машины ящик с бутылками. Перегнувшись, уложил ящик в багажник. Лёгкий карлик сзади облизал его взглядом с ног до затылка. Карлик шершаво шепнул товарищам, и втроём они ударили его смехом.
После работы, зимним вечером он тускло молчал домой, слушать сквозь тощие стены крикливую и скрипящую жизнь молодых с одной стороны, и тяжёлое громыхание жизни большой, но гнилой семьи, с другой.
Его ударили в спину, и он упал. Захрустели кругом страшные ноги. Над ним заклубились густые голоса, им стали шлифовать снежную дорожку. Тело Геры горячо и мокро заорало от ужаса.
Когда глаза задавили покойные колёса машины, над ним сталью засверкали голоса, от его мокрой одежды. Он ребристо ударился о пол автомобиля. Его чёрно придавили ботики. Мотор преданно заворчал. В дороге машина снизу, подло ударяла в тело. Через молчание у Геры во рту ожил шмель, затем он прожевал кашу, наконец, вылупился чистый звук, но его рот изнасиловала масляная тряпка.
Выстелила в спину дверь. Его ввели в гараж, по которому пробегали всполохи смеха. Они оцарапали с него брюки и трусы, нагнули, и очернили голову одеждой. По очереди они остро разорвали Геру. Сдавленный, слабый крик Геры, как бабочка бился в равнодушные стены гаража. Его робкий крик нагоняли и пожирали сытые хрипы. Они ставили его на колени, и белым маслом наполняли рот. Его колени остро стыли на липком полу, а они стучали в его лицо тёплой мочой, скрещивая мокрые солнечные лучи. Они вновь взорвали его тело изнутри, и оно заплакало тёплыми слезами, ручейками стекавшими по ногам в жижу.
Больными ботинками они выкатили его в снег. Снег испугался его тела жёлтыми, коричневыми, красными пятнами.
Они бесстрашно его отпустили, но Гера задумал отомстить. Они разрушили сложное соотношение различных звуков его сознания, заглушавших друг друга и вместе звучавших как тихая скучная нота. Теперь он жужжал рассерженным ульем, теперь он был расстроенным оркестром. Теперь он снова и снова улыбался, как в красных мучениях умирают их тела, застывают в муках высохшими деревьями. Теперь он не видел экран телевизора, не видел деньги покупателей, но глотал врагов в ямы, жёг железом, они слепили его криками, а он воспевал их огнём, пузирил лица кипятком, гасил иголками капельки зрачков, топил в макушке молотком блестящий гвоздь, отрубал руки и ноги, кормил мясом друг друга и поил с ложки кипячёной кровью.
Из деревни он привёз ружьё и топор. Он прошёл их жизнь. Он расчертил на листах планы смертей. Он мысленно насладился их мучениями, – и постепенно насытился. Свежие события закрасили обиду, она побледнела и остыла.
Но незрелой весной хозяин отправил Геру в поселковый магазин сопровождать водку, чтоб шофёр её не прожил. Он пробыл в дремучем посёлке два дня, и там увидел это.
На рассвете местные мужики скользили по озеру с вилами, рогатинами и топорами. Они тяжело молчали к белым детям нерп. Дети лежали на льду беспомощными младенцами, завёрнутыми в пелёнки из белого меха. Они лежали белыми кульками с чёрными глазами в снегу, и беспомощно толкались детскими ластами. Дети нерп смотрели большими чёрными глазами, как подходят мужики, сжимая остроги и вилы. Вилы вонзились в тело младенца. Красное пятно вспыхнуло и разлилось пожаром по телу. И ребёнок закричал от острой боли. И он закричал так, что всё, что казалось Гере голубым рассветным небом, бескрайним снежным озером, потрескалось и осыпалось стеклом.
А потом Геру укусили за сердце те двое. Толстый и средний стояли у бортов грузовой машины. В чёрный зев кузова мужики бросали тельца мёртвых детей. За каждого мертвого младенца, с открытыми чёрными глазами, толстый хрустел мужикам свежими деньгами. Геру погребла острая куча детских тел в пещере. Теперь он снова трепетал без кожи. Теперь они уже не могли жить, чтоб не мучить его. Теперь они не только обидели его, бледного, прозрачного человека, сквозь которого всегда смотрели люди, который за жизнь не сделал никому зла. Теперь для них мужики убивали младенцев.
Гера стал увлечённо, как своих детей, выращивать в себе страшные убийства. Он долго ходил на сносях, наслаждаясь сладостью каждого мгновения материнства. Бесшумный человек стал ещё монотоннее, ещё прозрачнее. Но теперь в нём звучала мелодия прекрасной мечты, торжественная музыка освобождения ото сна, гимн обретения себя!
Гера в своей комнате, впервые мешавшей ему соседской жизнью, пластал воздух топором, целился спящим ружьём, беременным смертью, ненавидел острым ножом стены, и шелестел обещаниями. Он учился ружью в лесу, кусая пулями стволы. Он просвечивал места засад. Он осторожно пережёвывал их жизнь. Он ловил время. Так увлечённо он создал два восхитивших его убийства.
Но последний был слишком тяжёл для него. Он усыплял машину у дома, а не в гараже. Его Гера не унёс бы в рюкзаке. Он редко был один. Почти всё время без людей проводил с женой и дочкой. И после двух убийств он сторожил смерть.
Мечта о наслаждении пытала Геру, но он не знал, как воплотить её. Он уже был готов напасть на него у дома, и облизывать, облизывать, пока не отберут у него сладкое тело, а потом мучиться всю жизнь в заключении, когда блестящая идея осветила путь.
Гера стал отражать его. Он пискнул ему из рыночной толпы. Он вспыхнул в уголке глаза, бормоча за угол. Он зловеще перечеркнул путь машины на переходе. Он взорвался в его глазах, выйдя из подъезда дома, беременного его семьёй.
И однажды, в середине дня, последнее тело мощно зазвучало в раме двери, сожрав свет в контейнере. На мгновение торжества и страха Гера исчез. А человек уже мерил шагами его жизнь. Он заговорил сумеречным голосом, и Гере пришлось прислушиваться к изжёванным словам. Он заговорил о смерти своих товарищей. Острые слова угрожали Гере, а мягкие не верили в него. Он предупредил, что Гера умрёт, если ещё раз посмеет засорить его глаза. А Гера покойно отступал в ночную глубину контейнера. Заискрились от руки в тишине бутылки, и жидкие всхлипы призывно замигали гостю. Гость шагнул ближе, и снизу коленом зачавкал топор. У убийцы из глубины вырвался стон. А Гера уже брызгал его плечом, чувствуя, как необъятное счастье распирает грудь. В ярком театральном свете криков он отрубил руку, и побежал закрывать стальные двери входа.
Умерший контейнер оживил свет, и Гера, стараясь не упустить удачу, бросился к добыче. Он взял ножик, ущипнул щёку и отпилил её. Кровь теплым языком преданной собаки облизала пальцы, ладони, кисти рук. И Гера, наслаждаясь счастьем, погрузил концы пальцев сбоку в рот, щупая зародыш языка. Гере не терпелось порубить топором ему кости ног, но он сдержался, следуя светлому лучу плана. Он выцепил из одежды пистолет, сытый кошелёк, приподнял голову, чтоб драгоценный человек не захлебнулся кровью. Ножик собрал с человека всю одежду. Трусы съели страшные крики, и Гера занялся приготовлениями пиршества. Он терпел время, когда рынок закроется, и привязывал к ступням верёвки. Зазвонили две колокольни из ящиков водки до тёмного неба этого мира. Он долго мучился, пока тело не запело вниз головой, не улыбнулось ногами между колоннами. Гера радостно рассказывал последнему, что он делал с его друзьями. Он развёл ягодицы и кончиком языка нежно коснулся пустой, сочной и влажной глазницы. Он дрожал, что кровь из рта напоит тряпку на которой стояла голова раньше срока. Потому он не стал веселить гвоздодёр, не зажёгся музыкой горелки. Он яростно укусил ягодицу, проткнув резцами зубов кожу. Кожа, как апельсин, сверкнула в него кровью, и он собрал её всю языком. Ножичком он посветил внутри члена, шире и шире просвечивая дырочку, пока кончик ножа не уткнулся в кость. Потом он стал сверху пропихивать ножик внутрь заднего прохода. Ножик шёл нудно, но затем, когда сверху осталась только рукоятка, Гера встал на стульчик, и кулачком проглотил его внутрь. Громкое тело объелось и затаилось. Оно перестало сверкать всеми красками. Гера расстроился. Он стал торопиться, решив оживить его. Он плюнул вслед за ножом. Затем стал елозить внутри кривым концом гвоздодёра, пока человек не осветил его усилия треском нового света. Гера стал толкать двумя руками гвоздодёр дальше внутрь. Музыкальные башни играли громче, громче, и стали угрожающе раскачиваться. Человек померк. Гера вспомнил, что друг-хозяин будет ругать, даже уволит, если колокольни разобьются. Он оставил гвоздодёр наполовину торжествовать из тела, а сам стукнул со стула.
Он полил душистой водки на руки, смывая красоту победы. Поставил чайник, попил чаю, радостно улыбаясь и слушая, как под плавную мелодию света, поёт тело головой вниз между двух колонн, и как музыкально, покосился вбок гвоздодёр, словно палочка дирижёра, но твёрдо выводит свою победную песнь. Он зачарованно слушал великую симфонию, и умилялся, как она величественно подсвечена снизу алым светом жидкой тряпки.
Был нежный вечер. С неба слетал тополиный пух. Тёплый воздух любил прохладные щёки. В животе плавало мягкое тепло водки. Гера улыбался и смотрел на звёзды. Точки звёзд распевались от пьяных слёз счастья. На него сияющими жёлтыми зрачками глазели любопытные дома, а он наслаждался тем, как в нём медленно затихают величественные звуки. В пакете корчилась и сочилась обожравшаяся тряпка, подурневший топор, разрубленная на половинки по линии носа голова (хотелось посмотреть мозг), две ступни и рука. Остальное он вынесет завтра утром и под вечер, чтоб вкусить сладость и на следующий день. И тёплый живот, и нежный вечер, и беготня в груди, всё ласкало ему, что и в его жизни может быть счастье, и что он не последний человек, а может быть даже великан, если погубил их. Гера музыкально шёл и гадал, воплотятся ли ещё когда-нибудь вкусные мечты, сможет ли кто-нибудь вновь разбудить его к вдохновенной жизни.
Любовь
I
Дневной свет однообразно прозвенел проспиртованным стеклом. К темноте поясница жалобно скулила. Руки дрожали новой работы. Гера уже рассветал будущим собственного вечера, – тёплой тишиной комнаты, озаряемой криками соседей. Но хозяин весь день пищал креслом и выстукивал ботинками счастье свободы. – Его жена и дочери в поезде сползали к жидкому небу, тёплому и блестящему. Потому после работы, он дружески захватил плечи Геры, увёл его в свои планы. Гера не посмел оскорбить своего благодетеля, отчасти друга. Гера зябко затоптал свой вечер у порога контейнера, выдохнул печаль, и поблекнув, покорился за спиной.
Они сели в круглом зале. После острого ветра было нежно. Дымились едой столы, курились пепельницы. Красочная музыка расцвечивала зал карнавальными узорами. Хозяин Геры быстро раскрывался, раскрасневшись ещё засветло. Он то украшал, то пачкал свою жизнь, разваливая пьяным языком слова. Гера осторожно осматривался. Никогда прежде он не тлел в столь ярких местах.
Из-за решётки пальцев Гера приглушённо взглянул на соседний громкий стол. Так он остановил взгляд и речь своего товарища. Пьяная жалость вскрикнула в нём, когда он увидел и вспомнил нищую жизнь Геры. Он придумал купить женщин, и угостить Геру. Он напал на Геру острым предложением. Ответ Геры засох в горле. Он выпил страх с водой. Затем чиркнул горлом, нырнул лицом в бокал с водкой, и отказался.
Но властный товариществом хозяин размягчил его. Хозяин покрыл стол деньгами, и они проскрипели дощатый пол до улицы.
Вонючим голосом он проложил маршрут. Машина простучала ямы до женской улицы. Лужа набросилась на лобовое стекло и остановила машину. Сытый туман поглотил громкое тело хозяина. Через несколько быстрых взглядов в сплошное окно, рядом с Герой распахнулся мир улицы…
Гера наполнился дрожью машины. Его ноги жгли невидимые женщины. Пальцы испугались в замок у горла. Гера жадно впитывал пустую дорогу. Молчание корёжили пьяные слова хозяина. – Язык его слабо ворочался, словно умирающее животное.
Гостиница успокоила Геру нежным светом. И вдруг, справа, слева, за спиной стали чёрно стрелять крышки гробов. В Геру ударили шаги, защёлкали каблуки, разворотили невидимые разговоры. Удары громче и громче дрожали в нём.
Но вдруг она засверкала каблуками по голой лестнице. Гера засох у дверей, как её стройные ноги всё громче твердели в нём. Её ноги всё жарче согревали его.
Она заискрила ключами у администратора. Их потянул за спину спаренный смех, пьяный и купленный. Но полутёмный коридор был уже прозрачен.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: