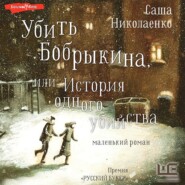По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Муравьиный бог: реквием
Год написания книги
2022
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он дзинькал колокольчиком под краном, смывая пепел, керосинный жир. Она поближе подошла, чтоб слышал, что расскажет, скрестила руки на живот:
– На шесть дворов тогда по нашей линии пожгло…
– А люди, баб, пожглись?
– Тем берегом, слыхала, хоронили, у нас нихто, осподь хранил, пожарные наехали, тушили.
– Чего тогда господь-то, ба?
– Язык поханый, Петя, твой. Поханый. Не в выгреб, вверх овном идёть. Хляди – вся мордь в копте?, как из котла, подмой. А керосин мне не бери, мне не бери! Пожжёшь деревню, черт и не на то благословит…
– Да ладно, баба!
Она любила, когда за стенкой, слушая, покойник не выдержит и вступит в разговор, укоротить его как следует словцом, чтоб место знал и наперёд не лез.
– Вступил. Ляжи учи, защита, себя от комара не защитишь! Пожгёт деревню, сам живьём сгоришь в хробу своём.
Кулак ударил в стену, задребезжало жалобно стекло, осыпалась на лавочку труха, подпрыгнул таз. Она спокойно досказала:
– Повоюй. Отвоевашь, перекрести?мся. Осподь простить, и Пётр Христа прядал.
– Баб, как предал?
– Ты мыло-то отмой, гляди – ввозюкал, так мне овном назадь не ложь.
– Ба, как предал?
– Отрёкся. Три раза повторил: не знаю бога во Христе, как ты не знаешь бабушки своей.
– Чего я, баб, тебя не знаю…
– Чаво… А то не видит бабушка сляпая, как чёрта корчишь в спину ей, всё руку рвёшь, как улицей идём, стыдишься. А за одной бедой борщи хлебам. – Она вздохнула: – Недаром, вишь, по святцам Пётр выходил… Помыл?
– Помыл.
– Помыл – да не отмыл. Да чё ж ты делашь-то, бездонный? Куда мне об штаны мокры? втирать?
И с ловкостью могучей, как будто дух всеправедной войны её огромное рябое тело на жалких крыльях сарафана возносил, с гвоздя свирепо сдёрнув полотенце, замахнулась, и он, под свист кухонной тряпки поджимая острые коленки, крутился и кричал:
– Да баб! Да баб! Да ба-а!!!
Обедать сели.
К еде она спросить любила:
– Ну?
И нужно было поскорее отвечать, что вкусно, чтоб от своей тарелки взгляд не довела в его и не заметила, что он не пробовал ещё, а ждёт, пока остынет. Заметив, говорила:
– Живо ешь.
– Горячий, ба.
– Холодным в хробь кладут.
И дула в суп сама, по ложке отгоняя рябью жар. Петруша тоже дул на ложку, сгоняя щавелевых мух к краям, и, вздрогнув, с мухами глотал под надавившим лоб свинцовым взглядом.
– Хлеб бери.
– Я не хочу.
– Ешь, говорю, в врата не пустять, посмотрят в ложку, скажуть – ел не дочиста. Ешь гущу, доедай, в ей всё, без гущи щи воды иди хлябать.
– Что всё-то…
– Всё. Без съешь не сыщешь. Польза.
– А я, ба, не могу, тошнит.
– Тошнить чем в котелок крошил, не бабушкин щавель.
– Чего крошил?
– Сам знашь чаво, с тобою баба полем не ходила.
– Мне, ба, второе положи…
– Второе после первого ступат, с обеих ног прых-скок – не воробей.
– А мама разрешала…
– Мама… Вот мама разрешала, так и не надо было мамы со свету сживать, а бабушка не разрешат, её теперь сживай, сживёшь – и ешь без гущи. Ешь. И молча.
– Баб, а чего меня в честь этого назвали?
– И Ваню я по святцам назвала, в Усекновенный разошлась. Иоанн-то не десятым был числом, а у меня под вечер как схватило, перепугалась – не могу, не буду, говорю, родить, а дохтор наш, молоденькой такой, смешливой: не будешь? – говорит, – когда ж тогда, в Иванов день? А мне бы хоть в Иоаннов, хоть в Степанов, а только хоть што сделай, отпусти. А он смётся, говорит, тебе-то, говорит, на Иоаннов, а осподу с солдатиком чичась. А вышло-то как раз на Иоаннов, в шестом часу, под утро только Ваню родяла и Ваней назвала.
– А я?
– А ты по святцам Пётр-хрястапрядатель выходил.
Обед к концу. Жара такая… На ржавой хохломе подноса чугунная паук-подставка для сковороды, солоночка резная, в закаменевших кляксах помидор, стакана два: один его, с осадком жирным утреннего чая, второй её – с заваром лопуха в старинном кованом кольце. Он под клеёнкой мнёт в гармошку ложку – согнёт и распрямит, согнёт и распрямит. Диван-аккордеон в углу, горбами от распря?женных пружин, обтянутый до треска швов гнилой рогожкой, за слоем слой – велюр, жаккард глядят, как те наносы вековые, в каких учёные читают времена. Комод с запасом лампочек, розеток, проводов. Буфет с раскисшей пастилой, надкушенный и так заиндевевший пряник – обитель рыжих муравьёв; сырой сухарь пропитан запахом помады, не держат дверцы круп на чёрный день запас. Она пройдёт – захлопнет дверцу, он захлопнет, и опять.
Дневное солнце дребезжит на спинке папиного стула, где он сидел в обед, когда он был, бросает тусклый свет сквозь грязное окно. В покойницкой из плешек гробовины сочится пыльный свет лучами до стены, щитка колёсико в газетный уголок шуршит, из холодильника стучит, и стрелки тянут время. Жизнь идёт, и старый дом скрипит, как будто из последних сил невидимая упряжь-память кибитку с мертвецами и живыми тянет на погост.
Она зевнёт – и он зевнёт. Она вздохнёт – и он вздохнёт. Покойник стих, и только муха над столом жужжит, присядет на клеёнку, руки чёрные почешет. Он на неё махнёт, она махнёт, а муха снова на столе. Убить и хочется, и лень.
Убил.
– На шесть дворов тогда по нашей линии пожгло…
– А люди, баб, пожглись?
– Тем берегом, слыхала, хоронили, у нас нихто, осподь хранил, пожарные наехали, тушили.
– Чего тогда господь-то, ба?
– Язык поханый, Петя, твой. Поханый. Не в выгреб, вверх овном идёть. Хляди – вся мордь в копте?, как из котла, подмой. А керосин мне не бери, мне не бери! Пожжёшь деревню, черт и не на то благословит…
– Да ладно, баба!
Она любила, когда за стенкой, слушая, покойник не выдержит и вступит в разговор, укоротить его как следует словцом, чтоб место знал и наперёд не лез.
– Вступил. Ляжи учи, защита, себя от комара не защитишь! Пожгёт деревню, сам живьём сгоришь в хробу своём.
Кулак ударил в стену, задребезжало жалобно стекло, осыпалась на лавочку труха, подпрыгнул таз. Она спокойно досказала:
– Повоюй. Отвоевашь, перекрести?мся. Осподь простить, и Пётр Христа прядал.
– Баб, как предал?
– Ты мыло-то отмой, гляди – ввозюкал, так мне овном назадь не ложь.
– Ба, как предал?
– Отрёкся. Три раза повторил: не знаю бога во Христе, как ты не знаешь бабушки своей.
– Чего я, баб, тебя не знаю…
– Чаво… А то не видит бабушка сляпая, как чёрта корчишь в спину ей, всё руку рвёшь, как улицей идём, стыдишься. А за одной бедой борщи хлебам. – Она вздохнула: – Недаром, вишь, по святцам Пётр выходил… Помыл?
– Помыл.
– Помыл – да не отмыл. Да чё ж ты делашь-то, бездонный? Куда мне об штаны мокры? втирать?
И с ловкостью могучей, как будто дух всеправедной войны её огромное рябое тело на жалких крыльях сарафана возносил, с гвоздя свирепо сдёрнув полотенце, замахнулась, и он, под свист кухонной тряпки поджимая острые коленки, крутился и кричал:
– Да баб! Да баб! Да ба-а!!!
Обедать сели.
К еде она спросить любила:
– Ну?
И нужно было поскорее отвечать, что вкусно, чтоб от своей тарелки взгляд не довела в его и не заметила, что он не пробовал ещё, а ждёт, пока остынет. Заметив, говорила:
– Живо ешь.
– Горячий, ба.
– Холодным в хробь кладут.
И дула в суп сама, по ложке отгоняя рябью жар. Петруша тоже дул на ложку, сгоняя щавелевых мух к краям, и, вздрогнув, с мухами глотал под надавившим лоб свинцовым взглядом.
– Хлеб бери.
– Я не хочу.
– Ешь, говорю, в врата не пустять, посмотрят в ложку, скажуть – ел не дочиста. Ешь гущу, доедай, в ей всё, без гущи щи воды иди хлябать.
– Что всё-то…
– Всё. Без съешь не сыщешь. Польза.
– А я, ба, не могу, тошнит.
– Тошнить чем в котелок крошил, не бабушкин щавель.
– Чего крошил?
– Сам знашь чаво, с тобою баба полем не ходила.
– Мне, ба, второе положи…
– Второе после первого ступат, с обеих ног прых-скок – не воробей.
– А мама разрешала…
– Мама… Вот мама разрешала, так и не надо было мамы со свету сживать, а бабушка не разрешат, её теперь сживай, сживёшь – и ешь без гущи. Ешь. И молча.
– Баб, а чего меня в честь этого назвали?
– И Ваню я по святцам назвала, в Усекновенный разошлась. Иоанн-то не десятым был числом, а у меня под вечер как схватило, перепугалась – не могу, не буду, говорю, родить, а дохтор наш, молоденькой такой, смешливой: не будешь? – говорит, – когда ж тогда, в Иванов день? А мне бы хоть в Иоаннов, хоть в Степанов, а только хоть што сделай, отпусти. А он смётся, говорит, тебе-то, говорит, на Иоаннов, а осподу с солдатиком чичась. А вышло-то как раз на Иоаннов, в шестом часу, под утро только Ваню родяла и Ваней назвала.
– А я?
– А ты по святцам Пётр-хрястапрядатель выходил.
Обед к концу. Жара такая… На ржавой хохломе подноса чугунная паук-подставка для сковороды, солоночка резная, в закаменевших кляксах помидор, стакана два: один его, с осадком жирным утреннего чая, второй её – с заваром лопуха в старинном кованом кольце. Он под клеёнкой мнёт в гармошку ложку – согнёт и распрямит, согнёт и распрямит. Диван-аккордеон в углу, горбами от распря?женных пружин, обтянутый до треска швов гнилой рогожкой, за слоем слой – велюр, жаккард глядят, как те наносы вековые, в каких учёные читают времена. Комод с запасом лампочек, розеток, проводов. Буфет с раскисшей пастилой, надкушенный и так заиндевевший пряник – обитель рыжих муравьёв; сырой сухарь пропитан запахом помады, не держат дверцы круп на чёрный день запас. Она пройдёт – захлопнет дверцу, он захлопнет, и опять.
Дневное солнце дребезжит на спинке папиного стула, где он сидел в обед, когда он был, бросает тусклый свет сквозь грязное окно. В покойницкой из плешек гробовины сочится пыльный свет лучами до стены, щитка колёсико в газетный уголок шуршит, из холодильника стучит, и стрелки тянут время. Жизнь идёт, и старый дом скрипит, как будто из последних сил невидимая упряжь-память кибитку с мертвецами и живыми тянет на погост.
Она зевнёт – и он зевнёт. Она вздохнёт – и он вздохнёт. Покойник стих, и только муха над столом жужжит, присядет на клеёнку, руки чёрные почешет. Он на неё махнёт, она махнёт, а муха снова на столе. Убить и хочется, и лень.
Убил.