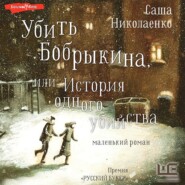По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Муравьиный бог: реквием
Год написания книги
2022
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И свет из дня с июня к августу быстрее, и облако долезет небом солнца и загородит. Посмотришь – вроде махонькая тучка, а сверху, от участков, уже такая темнотень ползёт: гроза! И вдруг подует, лес на лес заговорит, сгибая тополя, кося невидимой косой прибрежную траву, невидимый хозяин, сеятель и жнец идёт курганом, снимая с синих иван-чая свечек цвет, и крапинами первыми дождя на книжку – кап! Река как оживёт – кап-кап… кап-кап-кап-кап! – кругами, тысячью кругов, и тёплый дождь приподнимает пар с растопленной воды, встаёт стеной, и на подъёме так из вёдер накрывает, что скажет баба у крыльца:
– Куда? Исподня стрась, сымай мне ноги десь! Бяз нох иди…
А к осени вообще курганом холодно всегда. На Долгопрудном только берегу везёт, у них до вечера всё солнце, даже в шесть, а в вечер жарят шашлыки, и вкусно пахнет так, хоть воздух ешь – сидишь, сидишь, глотаешь.
– Баранку хочешь?
– Не… а не, давай.
Грызёшь и ждёшь, молясь на поплавок, что под воду его затянет рыбья глупость, и молишься на рыб: ну, клюнь? ну, клюнь, а? клюнь? – и носом сам клюёшь на поплавок, а рядом Сашкин прибивает. У ней, как с папиного спиннинга, красивый, из «Спорттоваров», с ручкой в флуоресцентных полосах, а у него из пробки от шампанского на спичке.
Сцветает лес, далёкий косогор, над ним колодец неба звёздами засыпан; огромный пёс сторожевой, отпущенный с цепи, бредёт невидимой тропой; невидимых существ перелетают тени, скрипят и шепчут, только подойди – и в темь провалишься такую, что сам себя не вспомнишь как зовут. Сквозь Долгопрудный перекат на черноте немножко огоньки, как будто потеряли домики друг друга, и расползаются в глазах круги воды, она качает лунную дорожку, по ней ночная водомерка мерит свет и темноту, скользит, скользит… и Шарик прорывается сквозь сон весёлым лаем.
– Клюёт! – И подсекаешь с свистом воду на обгрызенный червяк.
И вместе с Шариком охранным, служебным псом, с каким из темноты никто не бросится напасть, идёшь наверх, размахивая палкой темноту, цепляя удочкой траву, дрожа от ужаса ночного, курганом вверх, и кажется, дойдёшь до самых звёзд – так высоко и долго по тропинке. Но не дорос ещё курган до неба, и от поляны снова вниз к участкам, в темноту.
– Идёшь?
– Да не, я тут ещё.
– Ты… на. Ну… если Шарика найдёшь… – И протянула петелькой затёртой поводок.
– Ты только ей не говори, что видела меня.
– Не-е, ты же невидимка.
И, как в любимой книге папы Герберта Уэллса Гриффин, зрячий в городе слепых, полувернулся, полувидим, уколешь голой пяткой в острую траву или пропорешь о стекло – и только так оставишь след.
11
Но как небо выше земли,
так пути Мои выше путей ваших,
и мысль Моя выше мыслей ваших.
Ис. 55:9
От садика вишнёвого, направо их калитки, тропинка вышивала узенький протоп между кустарников колючих, бурелома, отжившего домашний век добра и яблоневых ям к Добжанских стороне. Здесь было тихо, тенно, жутко, как будто, отойдя подсолнечной земли, шагнул в невидимый портал, и только маленькие птички-стражки в зарослях бесплодных прижились, навили шапок, прятались от всех, а может, ждали выклевать глаза.
– Те-ди! – тревожно с ветки сорвалось и скрылось в высоте.
Он обмотал ошейник на рукав, петлёй к себе: ударить плёткой, если… Надел сандалии. Огляделся: тихо, никого. Потрескивает в ветках золотая пыль.
Гнилой забор под натиском курганных траволесий валился в огороды и сады, как будто правда мертвецы к живым шагали в гости напролом. С той стороны участков их напор держали поленни?цы, кривенькие баньки, колючей проволоки стяжка вилась над сгнившим зубами городца. Большие белые цветы жасмина опадали, засыпанные звёздочками незабудок кочки, мелкие гвоздички, васильки, ромашки и ленки мешали робкий цвет с сухой землёй.
Здесь было кладбище вещей. В затишье солнечном тихонько ветер шевелил вершины лип, и облачка, как ватки, скользили небом и сквозили по траве. Полуденное солнце слабо пригревало тысячи соцветий безымянных, сплетенье веток мало пропускало ливневой воды. Шкаф духовой скрипел распахнутой заслонкой, буржуйка, печь на чёрных согнутых ногах, набила брюхо грязью; кривоногие столы и стулья, табуретки врастали в землю или из неё росли. Прозрачные перебегали блики по стволам, и на растопленных полянках бабочки цвели.
Старинная кровать с заржавленной решёткой под матрас и сам матрас с пружинами в соломе, кастрюли, крышки, банки, чугунки, тазы без дна для украшения затерянного мира, обломки прошлого в нехоженой траве, игрушки, детские коляски, керосинки, похожие на ржавых марсианских пауков.
На куст надет резиновый сапог и множество ботинок и галош, каких-то тряпок, так у Чуковского картинка в книжке, чудо-дерево растёт, но только мёртвое, скелет, ботинок не наденешь, всё по одному – как будто кто-то с детством пошутил, и сказка от счастливого конца имела продолженье на оборотной жизни стороне. На оборотном языке теней в полуденной жаре.
Изъеденные мхом ковры и тощие, без времени усохшие рябинки. Калины, клёны, тополя, всё как из сена. Поломанные высохшие косточки земли, пеньки, поганки, не сгнили, а истлели валуи…
– Ти-ди! – Он, вздрогнув, обернулся.
Чудовище, готовое за дерзость нарушения границ схватить, проткнуть глаза, не выпустить на свет свидетеля угрюмого совета войска, живыми преданных вещей. Здесь мягкая земля снимает шаг, тень пахнет плесенью и мхом, а сено – солодом дурманным, безмолвие запретного владенья перед прыжком на чужака, планета беспричинной злобы вековой, желая охранить свои пространства, тайны, от детских глаз, от человечьей глупости смешной, в сравненьи с вечной тишиной. Чудовище всего – движения воды, и рыб в воде, и солнца, жужжанья, писка, темноты, свеченья звёзд и городских огней, что вечерами заревом вставало над садами, невидимого ветерка, клонившего траву, летевшего за ним позвать обедать, и ветра, что ломал в грозу стволы.
Гонимый чёртиками страха, влекомый чёртиками «знать», идёшь вперёд, крадёшься, каждую секунду заорать готовый «мама!» и услышать, как равнодушно тишина глотает крик, и под ногой по хрусту ветки сердце вспомнит, что это – умирать. Как это – умереть.
Лягушка прыгнула из-под ноги, заставив прыгнуть в животе клубок щекотной жути; перелетев из тени в тень комочком земляным, рассыпалась в траве на шорох, выпорхнула птичкой: «Те-ди!» – зовя на помощь кого-нибудь сильнее и добрей того, что видела внизу, берёзы шепотком качая ветки, затаилась, замолилась, чтобы чудовище, бредущее курганом, мимо пронесло.
Чудовище… На муравьёв, стрекоз, жуков и бабочек охотник, на спрятанное в глубине нехоженой травы гнездо, на рыб в воде и ящерок, мелькавших по расщелинам камней, кузнечиков, шмелей и пчёл, пригревшихся на солнцепёке берегом канала сонных уток, неповоротливых от ужаса, шаги чудовища услышав, забывших разом, как летать.
– Те-ди… те-ди, те-ди!
Чудовище на оборотном как? И пальцы загибают слово по слогам: «е», «щи»… Чудовище перевелось в «ещиводуч». Ещиводуч!
– Ещиводуч те-ди! – кричала птичка. – Те-ди! те-ди! те-ди! Ещиводуч.
А «я» на оборотном «я», подумал. Я – ещиводуч.
Он зашагал низинкой в глубину портала, всё меньше от границ его, всё больше от его границ. Здесь уменьшаться, увеличиваясь, можно влево, вправо, не меняясь, и исчезать в какой захочешь стороне.
– Те-ди! Те-ди! – всё громче, всё тревожней птичка. – Ещиводуч те-ди! – чудовище идёт.
Спустился по тропинке до Добжановой калитки, поворошив золу от их костра, достал кусок расплавленного толя, поднял, ломая в пальцах комелёк, тропинкой поднимаясь выше к роще над каналом, между кленовых удочек, рябинок и ельчат, не зная, чем занять себя, и думая найти хоть сыроежку, брёл, поглядывая вниз.
В тени от старой липы заметил бугорок земли, присыпанный щепной трухой и листьями, иголкой. К нему и от него бежали сотни муравьиных ручейков. Мурашки торопились до заката успеть свои дела – и были так увлечены, что совершенно не заметили его и длинной тени, вдруг накрывшей город их.
– Те-ди! те-ди! те-ди! – кричала в небе птичка. – Чудовище! Чудовище идёт!
– Привет…
Они не слышали его, бежали да бежали. Не видели… не видели его. Он был невидим, но не так, что видим и невидим, а совсем. Он больше солнца был, раз загораживал им солнце, и там внизу, и те внизу его увидеть не могли. Так, лапками струча, букашка, проползая по ладони, в ней не подозревает кулака.
– Привет, – погромче повторил, запрудой подставляя ногу одному из ручейков. Сперва в недоумении муравьи вставали на дыбы перед препятствием сандалии, но, быстро потеряв к ней интерес, восьмёркой по цепочке огибали след. Он с любопытством наблюдал за ними и, наблюдая, ощутил себя над них.
Они, их крепость из суглинка, щепок и хвоинок, их дети в ней, запасы, их крылатые цари, их комнатки и норки, подземные туннели, коридоры, переходы, весь их мир в смертельной близости подошвы стоптанной сандалии, на кнопках, ремешках, чуть-чуть запачканных золой. Он каждую секунду, приподняв и опустив ступню, мог придавить с десяток разом их и, выхватив любого, сплющив между пальцев, удавить… Ещиводуч…
– Те-ди! Те-ди! Те-ди! – металась птичка.
Он посмотрел наверх: невидимая птичка, птички нет.
– Те-ди… те-ди! – Соединяя воздух в звук, пунктиром – есть и нет – перелетала где-то близко-близко, качала ветки вверх и вниз, разбрызгивая листья, те замирали, выше, ниже, в тёмно-зелёной зубчатой резьбе, слагаемой из бесконечных множеств вспышек световых.
«Эй! улыбнись, смотри сюда, отсюда птичка вылетит сейчас», – пообещал фотограф. Петруша крепче ухватил за руку маму, папу, не улыбаясь, пристально и недоверчиво смотрел в глазок треноги, в глазок, похожий на паучий глаз, живой, внимательный, переливавшийся, как драгоценный камень. Свет полыхнул и ослепил, и вылетела птичка, какой Петруша не заметил в вспышке, и так на фотографии застыл меж улыбавшихся родителей своих нелепый лопоухий мальчик лет шести с заглаженной расчёской папы чёлкой, в манишке белой, с чёрной бабочкой, душившей шею, лобастый, с бледными щеками, с испуганными серыми глазами и ожиданьем чуда в них.
– Куда? Исподня стрась, сымай мне ноги десь! Бяз нох иди…
А к осени вообще курганом холодно всегда. На Долгопрудном только берегу везёт, у них до вечера всё солнце, даже в шесть, а в вечер жарят шашлыки, и вкусно пахнет так, хоть воздух ешь – сидишь, сидишь, глотаешь.
– Баранку хочешь?
– Не… а не, давай.
Грызёшь и ждёшь, молясь на поплавок, что под воду его затянет рыбья глупость, и молишься на рыб: ну, клюнь? ну, клюнь, а? клюнь? – и носом сам клюёшь на поплавок, а рядом Сашкин прибивает. У ней, как с папиного спиннинга, красивый, из «Спорттоваров», с ручкой в флуоресцентных полосах, а у него из пробки от шампанского на спичке.
Сцветает лес, далёкий косогор, над ним колодец неба звёздами засыпан; огромный пёс сторожевой, отпущенный с цепи, бредёт невидимой тропой; невидимых существ перелетают тени, скрипят и шепчут, только подойди – и в темь провалишься такую, что сам себя не вспомнишь как зовут. Сквозь Долгопрудный перекат на черноте немножко огоньки, как будто потеряли домики друг друга, и расползаются в глазах круги воды, она качает лунную дорожку, по ней ночная водомерка мерит свет и темноту, скользит, скользит… и Шарик прорывается сквозь сон весёлым лаем.
– Клюёт! – И подсекаешь с свистом воду на обгрызенный червяк.
И вместе с Шариком охранным, служебным псом, с каким из темноты никто не бросится напасть, идёшь наверх, размахивая палкой темноту, цепляя удочкой траву, дрожа от ужаса ночного, курганом вверх, и кажется, дойдёшь до самых звёзд – так высоко и долго по тропинке. Но не дорос ещё курган до неба, и от поляны снова вниз к участкам, в темноту.
– Идёшь?
– Да не, я тут ещё.
– Ты… на. Ну… если Шарика найдёшь… – И протянула петелькой затёртой поводок.
– Ты только ей не говори, что видела меня.
– Не-е, ты же невидимка.
И, как в любимой книге папы Герберта Уэллса Гриффин, зрячий в городе слепых, полувернулся, полувидим, уколешь голой пяткой в острую траву или пропорешь о стекло – и только так оставишь след.
11
Но как небо выше земли,
так пути Мои выше путей ваших,
и мысль Моя выше мыслей ваших.
Ис. 55:9
От садика вишнёвого, направо их калитки, тропинка вышивала узенький протоп между кустарников колючих, бурелома, отжившего домашний век добра и яблоневых ям к Добжанских стороне. Здесь было тихо, тенно, жутко, как будто, отойдя подсолнечной земли, шагнул в невидимый портал, и только маленькие птички-стражки в зарослях бесплодных прижились, навили шапок, прятались от всех, а может, ждали выклевать глаза.
– Те-ди! – тревожно с ветки сорвалось и скрылось в высоте.
Он обмотал ошейник на рукав, петлёй к себе: ударить плёткой, если… Надел сандалии. Огляделся: тихо, никого. Потрескивает в ветках золотая пыль.
Гнилой забор под натиском курганных траволесий валился в огороды и сады, как будто правда мертвецы к живым шагали в гости напролом. С той стороны участков их напор держали поленни?цы, кривенькие баньки, колючей проволоки стяжка вилась над сгнившим зубами городца. Большие белые цветы жасмина опадали, засыпанные звёздочками незабудок кочки, мелкие гвоздички, васильки, ромашки и ленки мешали робкий цвет с сухой землёй.
Здесь было кладбище вещей. В затишье солнечном тихонько ветер шевелил вершины лип, и облачка, как ватки, скользили небом и сквозили по траве. Полуденное солнце слабо пригревало тысячи соцветий безымянных, сплетенье веток мало пропускало ливневой воды. Шкаф духовой скрипел распахнутой заслонкой, буржуйка, печь на чёрных согнутых ногах, набила брюхо грязью; кривоногие столы и стулья, табуретки врастали в землю или из неё росли. Прозрачные перебегали блики по стволам, и на растопленных полянках бабочки цвели.
Старинная кровать с заржавленной решёткой под матрас и сам матрас с пружинами в соломе, кастрюли, крышки, банки, чугунки, тазы без дна для украшения затерянного мира, обломки прошлого в нехоженой траве, игрушки, детские коляски, керосинки, похожие на ржавых марсианских пауков.
На куст надет резиновый сапог и множество ботинок и галош, каких-то тряпок, так у Чуковского картинка в книжке, чудо-дерево растёт, но только мёртвое, скелет, ботинок не наденешь, всё по одному – как будто кто-то с детством пошутил, и сказка от счастливого конца имела продолженье на оборотной жизни стороне. На оборотном языке теней в полуденной жаре.
Изъеденные мхом ковры и тощие, без времени усохшие рябинки. Калины, клёны, тополя, всё как из сена. Поломанные высохшие косточки земли, пеньки, поганки, не сгнили, а истлели валуи…
– Ти-ди! – Он, вздрогнув, обернулся.
Чудовище, готовое за дерзость нарушения границ схватить, проткнуть глаза, не выпустить на свет свидетеля угрюмого совета войска, живыми преданных вещей. Здесь мягкая земля снимает шаг, тень пахнет плесенью и мхом, а сено – солодом дурманным, безмолвие запретного владенья перед прыжком на чужака, планета беспричинной злобы вековой, желая охранить свои пространства, тайны, от детских глаз, от человечьей глупости смешной, в сравненьи с вечной тишиной. Чудовище всего – движения воды, и рыб в воде, и солнца, жужжанья, писка, темноты, свеченья звёзд и городских огней, что вечерами заревом вставало над садами, невидимого ветерка, клонившего траву, летевшего за ним позвать обедать, и ветра, что ломал в грозу стволы.
Гонимый чёртиками страха, влекомый чёртиками «знать», идёшь вперёд, крадёшься, каждую секунду заорать готовый «мама!» и услышать, как равнодушно тишина глотает крик, и под ногой по хрусту ветки сердце вспомнит, что это – умирать. Как это – умереть.
Лягушка прыгнула из-под ноги, заставив прыгнуть в животе клубок щекотной жути; перелетев из тени в тень комочком земляным, рассыпалась в траве на шорох, выпорхнула птичкой: «Те-ди!» – зовя на помощь кого-нибудь сильнее и добрей того, что видела внизу, берёзы шепотком качая ветки, затаилась, замолилась, чтобы чудовище, бредущее курганом, мимо пронесло.
Чудовище… На муравьёв, стрекоз, жуков и бабочек охотник, на спрятанное в глубине нехоженой травы гнездо, на рыб в воде и ящерок, мелькавших по расщелинам камней, кузнечиков, шмелей и пчёл, пригревшихся на солнцепёке берегом канала сонных уток, неповоротливых от ужаса, шаги чудовища услышав, забывших разом, как летать.
– Те-ди… те-ди, те-ди!
Чудовище на оборотном как? И пальцы загибают слово по слогам: «е», «щи»… Чудовище перевелось в «ещиводуч». Ещиводуч!
– Ещиводуч те-ди! – кричала птичка. – Те-ди! те-ди! те-ди! Ещиводуч.
А «я» на оборотном «я», подумал. Я – ещиводуч.
Он зашагал низинкой в глубину портала, всё меньше от границ его, всё больше от его границ. Здесь уменьшаться, увеличиваясь, можно влево, вправо, не меняясь, и исчезать в какой захочешь стороне.
– Те-ди! Те-ди! – всё громче, всё тревожней птичка. – Ещиводуч те-ди! – чудовище идёт.
Спустился по тропинке до Добжановой калитки, поворошив золу от их костра, достал кусок расплавленного толя, поднял, ломая в пальцах комелёк, тропинкой поднимаясь выше к роще над каналом, между кленовых удочек, рябинок и ельчат, не зная, чем занять себя, и думая найти хоть сыроежку, брёл, поглядывая вниз.
В тени от старой липы заметил бугорок земли, присыпанный щепной трухой и листьями, иголкой. К нему и от него бежали сотни муравьиных ручейков. Мурашки торопились до заката успеть свои дела – и были так увлечены, что совершенно не заметили его и длинной тени, вдруг накрывшей город их.
– Те-ди! те-ди! те-ди! – кричала в небе птичка. – Чудовище! Чудовище идёт!
– Привет…
Они не слышали его, бежали да бежали. Не видели… не видели его. Он был невидим, но не так, что видим и невидим, а совсем. Он больше солнца был, раз загораживал им солнце, и там внизу, и те внизу его увидеть не могли. Так, лапками струча, букашка, проползая по ладони, в ней не подозревает кулака.
– Привет, – погромче повторил, запрудой подставляя ногу одному из ручейков. Сперва в недоумении муравьи вставали на дыбы перед препятствием сандалии, но, быстро потеряв к ней интерес, восьмёркой по цепочке огибали след. Он с любопытством наблюдал за ними и, наблюдая, ощутил себя над них.
Они, их крепость из суглинка, щепок и хвоинок, их дети в ней, запасы, их крылатые цари, их комнатки и норки, подземные туннели, коридоры, переходы, весь их мир в смертельной близости подошвы стоптанной сандалии, на кнопках, ремешках, чуть-чуть запачканных золой. Он каждую секунду, приподняв и опустив ступню, мог придавить с десяток разом их и, выхватив любого, сплющив между пальцев, удавить… Ещиводуч…
– Те-ди! Те-ди! Те-ди! – металась птичка.
Он посмотрел наверх: невидимая птичка, птички нет.
– Те-ди… те-ди! – Соединяя воздух в звук, пунктиром – есть и нет – перелетала где-то близко-близко, качала ветки вверх и вниз, разбрызгивая листья, те замирали, выше, ниже, в тёмно-зелёной зубчатой резьбе, слагаемой из бесконечных множеств вспышек световых.
«Эй! улыбнись, смотри сюда, отсюда птичка вылетит сейчас», – пообещал фотограф. Петруша крепче ухватил за руку маму, папу, не улыбаясь, пристально и недоверчиво смотрел в глазок треноги, в глазок, похожий на паучий глаз, живой, внимательный, переливавшийся, как драгоценный камень. Свет полыхнул и ослепил, и вылетела птичка, какой Петруша не заметил в вспышке, и так на фотографии застыл меж улыбавшихся родителей своих нелепый лопоухий мальчик лет шести с заглаженной расчёской папы чёлкой, в манишке белой, с чёрной бабочкой, душившей шею, лобастый, с бледными щеками, с испуганными серыми глазами и ожиданьем чуда в них.