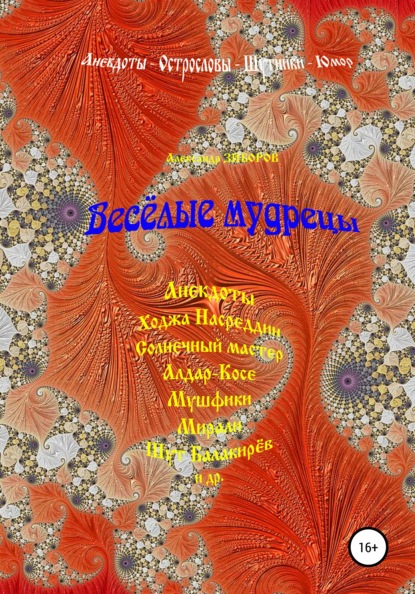По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Весёлые мудрецы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Несомненно, всё пережитое писателем при аресте, следствии и суде позже помогли описать столь впечатляющий суд над бывшим судьёй Агабеком, который обменял своё большое горное озеро, дом и сад на осла Ходжи Насреддина, посчитав его очарованным принцем. Вот они:
«…Ходжа Насреддин с великим трудом протискался к судилищу – и сразу же над ним взвилась плеть, от которой, однако, он сумел увернуться. Немного отступя, он занял место позади какого-то дюжего рослого бородача; отсюда ему было и видно и слышно, а бородач заслонял его собою от взоров сиятельного вельможи…
– Если ты, как это явствует из твоих ранее сказанных слов, действительно владел столь доходным озером, – то по каким причинам ты покинул его и вознамерился уйти в Египет? Где твоё озеро?
– Я обменял его.
– Обменял? На что и кому?
– Я обменял его на египетского наследного принца… То есть на ишака, являющегося в действительности принцем… Я хочу сказать – на принца, имевшего обличье ишака…
– Что?! – подпрыгнул вельможа – Повтори!.. Нет, не смей повторять! Как ты осмелился перед нашим лицом сопоставить в своих лживых речах царственную особу и некое недостойное четвероногое?
– Вот, вот! – подхватил, обрадовавшись, Агабек. – Длинноухое, покрытое шерстью…
Наконец-то его поняли! Позабыв о колотушке, он глянул вверх. Тяжеловесный удар, упавший на голову ему, сразу лишил его языка и привел к молчанию. Взор его помутился, отражая помутнение разума, и туман беспамятства скрыл от него лик вельможи.
– Новое преступление! – гремел вельможа. – Он изрыгнул хулу на царственную особу и осмелился на это в присутствии начальственных лиц! Писцы, запишите, – но, разумеется, в иносказательных пристойных выражениях.
– Здесь нет никакой хулы! – стонал из ямы несчастный. – Я направился в Египет, дабы принять должность визиря и хранителя дворцовой казны – в награду за возвращение принцу человеческого облика. Превращенный злыми чарами в длинноухого, принц был встречен мною…
– Молчи, презренный лживый клеветник, – молчи, говорю тебе! – грянул вельможа, восстав в пылу негодования с подушек. – Поистине, уже давно мы не оскверняли нашего взора созерцанием столь злостного и закоренелого преступника! К перечню всех неслыханных злодейств он добавил ещё одно – самозванное присвоение высочайшего сана визиря, сана, которого даже мы сами только недавно достигли! Пишите, писцы, все пишите: первое – кража, второе – бесчинство и буйство, учиненные сегодня на базаре, третье – хула на царственную особу, четвертое – самозванство.
Писцы дружно заскрипели перьями – ив этом скрипе Агабек почуял свой неминуемый неотвратимый конец.
Тщетно взывал он к милосердию вельможи, молил о справедливости, просил выслушать до конца. Вельможа оставался неумолим и не внимал его жалким ничтожным воплям, устремив непреклонный остекленевший взгляд в пространство поверх толпы, как бы созерцая в небесных высотах ему только одному видимое светило правосудия.
Агабек – в ужасе, в бессилии, в изнеможении – затих.
Бывший судья – вот когда он понял на своей шкуре, как иногда в глазах судей чистейшая правда оборачивается злонамеренной ложью, и ничего нельзя с этим поделать, ничем нельзя доказать своей невиновности; сколько раз ему самому приходилось так же судить и заточать в тюрьмы невинных людей только за то, что их правда внешне выглядела как ложь. А теперь вот – его самого настигло и поразило возмездие!
Приговор был суров: пожизненная подземная тюрьма.
Агабек застонал и вырвал клок волос из бороды…»
Описано поразительно точно и достоверно, словно автор глядел в душу своего персонажа. Конечно, этого быть не могло, просто он сам побыл в шкуре такого «виновника».
Отправили Леонида Соловьёва в Дубровлаг, находившийся в Мордовии, вблизи станции Потьма (почтовое отделение Явас, почтовый ящик ЛК 241/13). По некоторым сведениям его собирались этапировать дальше, на Колыму, но он пообещал тюремному начальнику лагеря генералу Сергеенко написать продолжение повести о Ходже Насреддине. Получил на то разрешение и занялся новой книгой в свободное от обычных дел время. Сначала он был ночным сторожем в цехе сушки древесины, потом ночным банщиком. Эти должности по лагерным понятиям – элитные. Они менее обременительны и предоставляют большую степень свободы. В то время, когда лагерь спал, писатель занимался литературным творчеством…
Во время работы над своей новой книгой он переносился в иное время, иные места…
В воображении уносился на тысячи километров от обрыдлой камеры в далёкие южные края, бродил там под жарким солнцем вместе со своим героем по азиатским дорогам, с обжигающей ступни пылью, слышал скрип колёс арбы, возмущённый рев ослов, обонял ароматы пряных восточных блюд, слышал зазывные крики продавцов в цветастых халатах, вспоминал спасительную сень виноградника, чинаров, тополей, слух ласкали воды говорливого потока в арыке…
Родителям и сестре Зинаиде он написал в мае 1948 года, что ему ничего не надо, кроме бумаги: «Я должен быть дервишем – ничего лишнего… Вот куда, оказывается, надо мне спасаться, чтобы хорошо работать – в лагерь!.. Никаких соблазнов, и жизнь, располагающая к мудрости. Сам иногда улыбаюсь этому».
Несомненно, он не лукавил, говорил то, что думал. Именно в таких «благодатных» условиях Леонид Соловьёв создал вторую повесть с тем же героем – «Очарованный принц». Она улеглась на 735 рукописных страниц.
Несмотря на внешнее сходство, продолжение оказалось заметно иным, что не могло не быть в силу очень многих обстоятельств – разницы в жизненном опыте, в совершенно других условиях творчества, в умонастроении. И ежели первая невероятно весёлая книга словно пронизана жизнерадостным солнечным светом, полна искромётных шуток, балагурства при немалом внутреннем содержании, то во второй при всей её смехоёмкости и отточенном остроумии, уже значительно больше мудрости, философии, множество скрытых аллегорий, ассоциаций. Заметна жёсткость в изображении власть имущих, стражников, придворных. Правда, сие внешне практически не просматривается, замечается лишь по косвенным признакам – в подтексте, а самое-самое – в подтексте подтекста, что угадывалось догадливыми читателями. Это было понятно, ведь те же стражники находились вокруг него, а от высоких властей напрямую зависела судьба писателя.
И он не просто высмеивал, давал выход своим негативным эмоциям, но и поднялся до больших обобщений. Создав очень типичные образы того, что позже стало называться «культом личности», и сие относится не только к «отцу всех народов», но и ко многим другим правителям.
Вот как льстецы восхваляли в повести эмира бухарского:
«…весь хор придворных поэтов пришёл в движение и начал славословие на разные голоса:
– О мудрый эмир, о мудрейший из мудрых, о умудренный мудростью мудрых, о над мудрыми мудрый эмир!…
Так они восклицали долго, вытягивая шеи по направлению к трону; каждый старался, чтобы эмир отличил его голос из всех других голосов…»
Ниже ещё одна цитата подобных бессовестных превозношений:
«Придворные поэты, осмелев, выступили вперёд и поочередно начали восхвалять эмира, сравнивая в стихах лицо его с полной луной, стан его – со стройным кипарисом, а царствование его – с полнолунием. Царь поэтов нашёл наконец случай произнести, как бы в порыве вдохновения, свои стихи, которые со вчерашнего утра висели на кончике его языка.
Эмир бросил ему горсть мелких монет. И царь поэтов, ползая по ковру, собирал их, не забыв приложиться губами к эмирской туфле.
Милостиво засмеявшись, эмир сказал:
– Нам тоже пришли сейчас в голову стихи:
Когда мы вышли вечером в сад,
То луна, устыдившись ничтожества своего, спряталась в тучи,
И птицы все замолкли, и ветер затих,
А мы стояли – великий, славный, непобедимый, подобный солнцу и могучий…
Поэты все попадали на колени, крича: "О великий! Он затмил самого Рудеги" – а некоторые лежали ничком на ковре, как бы в беспамятстве…»
Спустя какое-то время после того, как я прочёл это, однажды нашёл журнал со стихом Мао Цзе-дуна. Простите, это было давно, не запомнил его: но в нём имелось практически всё, что в пародийном стишке, который Леонид Соловьёв вложил в уста эмира. В нём Мао Цзе-Дун тоже стоял, обозревая почтительно замершую перед ним природу. Не хватало только кричащих ему: «О великий! Он затмил самого Рудеги!..»
Мне показалось, что писатель пародировал именно «великого кормчего».
Завершив свой впечатляющий труд, писатель с внутренним трепетом передал своего «Зачарованного принца» начальнику лагеря на просмотр. Тот продержал его у себя больше трёх лет: то ли наслаждался шедевром, то ли в чём-то сомневался, то ли ещё по какой-то иной причине.
По некоторым данным в середине 1953 году Леонид Соловьёв был переправлен в другой лагерь, в Омск. Причину и подробностей найти не удалось.
Снова на свободе
После смерти Иосифа Сталина уголовные дела стали пересматриваться. Родственники Леонида Соловьёва вышли на председателя Союза писателей Александра Фадеева, который помог с ходатайствами. В конце концов, он был амнистирован и вышел на свободу в июне 1954 года, проведя в заключении восемь очень долгих лет.
Вернулся он уже совсем другим человек, потеряв не только изрядную часть своей жизни вместе с оптимизмом и иллюзиями, но и здоровье.
Писатель Юрий Олеша в своём дневнике так описал его:
«Встретил вернувшегося из ссылки Леонида Соловьёва («Возмутитель спокойствия»). Высокий, старый, потерял зубы. Узнал меня сразу, безоговорочно. Прилично одет. Это, говорит, купил ему человек, который ему обязан. Повёл в универмаг и купил. О жизни там говорит, что ему не было плохо – не потому, что он был поставлен в какие-нибудь особые условия, а потому, что внутри, как он говорит, он не был в ссылке».
Также Леонид Соловьёв тогда сказал Юрию Олеши: «Я принял это как возмездие за преступление, которое я совершил против одной женщины».