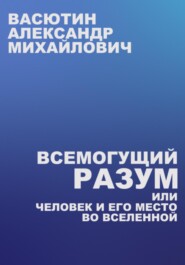По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Психохирургия – 3 и лечение с ее помощью самых тяжелых и опасных болезней души и тела
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я же им говорю: «Я прекрасно Вас слышал и понял – какие у Вас проблемы! (и кратко пересказываю то, что от него услышал). Но это ВАШИ проблемы. А что вы хотите ОТ МЕНЯ?» И такое «бодание» иной раз идет достаточно долго.
А смысл всего этого – пациент должен четко и внятно сказать что-нибудь по типу: «Доктор, помогите мне!» При помощи этой фразы происходит «метаморфоза» – он переходит из категории жалующегося в категорию пациента. И становится психологически подчиняем врачу. Этой фразой он передает ответственность за лечение врачу. И после этого какие бы техники психотерапевт ни делал, они не будут вызывать сопротивление, они пациентом не будут восприниматься как насильственное манипулирование.
Вы знаете, что в армии человек перед строем своих товарищей произносить клятву защищать Родину. Понятно, что кроме ритуальной и воспитательной функции клятва предполагает кару за ее нарушение. И человек не сможет сказать, что он не произносил эти слова – ведь это видели и слышали его товарищи.
То же самое с нашими пациентами. Когда они просят о помощи, то это вынуждает их в дальнейшем слушать и подчиняться психотерапевту. И не позволяет им играть в игру по Берну (я буду делать вид, что хочу вылечиться, а ты будешь делать вид, что ты мне помогаешь).
И если сам человек просит помощи (и знает – в какой форме и какая ему помощь будет оказана), то что бы после этого психотерапевт ни делал – он не будет воспринимать это как манипуляцию над ним!
Также важно и то, что если человек попросил помощи, то он будет воспринимать информацию, идущую от психотерапевта намного более эффективно, чем в случае, если эта просьба не прозвучала. Если пациент не передаст ответственность этой фразой, то неосознаваемая установка его при лечении может быть такой: «Я не просил его о помощи. Поэтому я не обязан его слушаться!» Вся эта подготовка приводит к тому, что я трачу совсем немного времени для приведения пациента в «терапевтическое состояние».
Уважаемые коллеги! Большая часть ваших неудач в лечении пациентов связана именно с тем, что вы не делали эту процедуру!
Понятно, что какие бы мы сверхэффективные технологии не использовали, самое главное для процесса лечения – душевный контакт пациента с психотерапевтом. И у меня первым шагом для установления этого контакта является то, что в какой-то момент (чаще всего на консультации) мне становится интересно заняться этим случаем. Я понимаю, что могу помочь этому человеку. И у меня появляется желание ему помочь! В этом случае те техники, которые я использую, являются только вспомогательными, некими инструментами, оформляющими мое желание помочь в приемлемой для данного человека форме.
Также очень важно, что когда человек приходит на консультацию, и начинает излагать свои проблемы, у меня начинает складываться о нем впечатление. И я решаю – нравится мне данный человек или нет? Если нет, то я начинаю искать повод для того, чтобы отказать ему в лечении. Но если в нем в течении консультации проявится что-то, что вызовет мое сочувствие, то я опять склоняюсь к помощи. И во время консультации постоянно идут колебания в ту или другую сторону.
Я четко знаю, что если мне пациент интересен, то эффективность лечения резко вырастает. Если же он мне приятен, то результат становится еще лучше. Если я ему сочувствую, то выздоровление практически гарантировано, какова бы ни была проблема.
И, понятно, что если пациент вам неприятен, то лучше сразу отказать ему в лечении. Если вы не хотите помочь пациенту или же он вызывает у вас отрицательные эмоции, пациент будет знать об этом на бессознательном уровне. И, понятно, что терапевтический эффект будет в этих случаях приближаться к нулю.
Затем я решаю еще одну дилемму: «Могу ли я ему помочь? И какие техники могут быть при этом наиболее полезными?» Я в своей голове перебираю стратегии лечения и примеряю их к пациенту. И в зависимости от того, что он говорит, я примеряю разные подходы. Если в это время меня озарит: «О, вот эта техника будет для него наилучшей!», то можно сказать, что план лечения готов. И насколько он воплотится в жизнь, зависит от того, насколько готов человек к выздоровлению. А это выясняется на первых двух сеансах.
Также вы должны четко понять, что первичная консультация – это не расследование и не попытка ответить на множество вопросов, которые часто задаются ради консультанта, а не ради клиента. На консультации я не выясняю все подробности о клиенте и его жизни. Я твердо уверен, что необходимое обнаружится так и тогда, когда это будет уместно.
При работе с пациентами важно для начала выяснить их ресурсы. Затем отразить положительный смысл и идеи в их утверждениях, которые с первого взгляда кажутся негативными. Надо в более широком аспекте использовать поощрения, пересказ, отражение чувств, для того, чтобы подчеркнуть положительные направления.
Затем задать вопросы, затрагивающие смысл ситуации: «Что это значит для вас, какой в этом смысл?» Можно для этого использовать конфронтацию: «С одной стороны негативное в этой ситуации состоит в том, что…, но с другой стороны, позитивное…» Клиент в этом случае обычно идет от инконгруентности к более позитивному взгляду на ситуацию.
Затем надо выяснить, где мышление слабо адаптировано. Отметить повторяющиеся паттерны поведения (автоматические суждения). Когда надо уточнить чувства, то спросить: «Как вы это переживаете? Как это отзывается в вашем сердце? Как вы это чувствуете?»
Уже на консультации надо поощрять пациентов заменять в своей речи «но» на «и». Когда две части предложения соединены союзом «но», то первая часть отвергается или определяется через вторую. Предложение «Я хочу это сделать, но я боюсь» может быть закончено так: «следовательно, я не хочу». Когда же человек говорит: «Я хочу это сделать и я боюсь», то это выражение имеет другое значение, так как в первом предложении союз «но» препятствует говорящему принять ответственность на себя.
М. Эриксон использовал специальные истории для активизации психических процессов (например, знаменитая история «Мой друг Джо). Если он не считал полезным говорить человеку прямо, чтобы он забыл что-либо, то обычно начинал рассказывать истории о забывчивых людях, не способных запомнить имя человека. Подобные истории активизируют процесс забывания. История о смелости может вызвать у слушателя ощущение собственной смелости.
Если человек рассказывает свою историю, то можно прервать его фразой: «Кстати, это напоминает мне одну историю» и рассказать историю, которая несет метафорическое сообщение для этого пациента. Я чаще всего в этих случаях рассказываю о своих предыдущих пациентах, которым смог помочь, и у которых произошли те изменения, которые я хочу инициировать у данного пациента.
Взаимодействие психотерапевта и пациента подчиняется огромному количеству факторов, осознаваемых или же неосознаваемых и врачом и пациентом. При работе с пациентом образуется система: больной, психотерапевт и болезнь. Если пациент объединяется с болезнью, то сделать ничего нельзя. Если же пациент объединяется с психотерапевтом, то возможен успех. И начало этому процессу дает качественная консультация.
Глава 30. Гипноз как способ достижения психотерапевтических целей
Мне представляется, что главная проблема, которая существует при лечении пациентов – как ввести их в «режим наибольшего благоприятствования», когда информация, идущая от психотерапевта, начинает усваиваться ими легко и просто. Как сделать так, чтобы пациент впитывал то, что ему дает психотерапевт, как губка?
Конечно, можно работать с ними с помощью логических техник (например, логотерапия по Франкл, сократовский диалог и так далее). Но мы (благодаря усилиям дедушки Фрейда) прекрасно знаем, что корни проблем и болезней, с которыми к нам обращается человек, находятся в его бессознательном. И с помощью логических техник сделать серьезные изменения в поведении и самочувствии человека очень сложно.
Если надо донести информацию к бессознательному, то, насколько я это знаю, это почти всегда возможно только в состоянии транса. Значит перед психотерапевтом стоит задача: как сделать транс легкодостижимым, устойчивым и информационно-емким. Копий тут переломано масса. А воз, как обычно, и ныне там!
Естественно, все эти вопросы в полный рост стояли и передо мной. Я перепробовал разные методы работы с трансом и, в конце концов, вернулся к старому, доброму гипнозу. Правда, старый гипноз был не особо добрым, он был круто замешан на насилии над пациентом и манипуляции с ним. Перед моими глазами до сих пор, «как живой», стоит сеанс эмоционально-стрессовой психотерапии, которую проводил главный психотерапевт СССР Рожнов. Бр-р-р!
Внушение на снятие какого-либо симптома может сработать только в том случае, если на бессознательном уровне оно не вызывает никаких возражений. Поэтому в большинстве случаев внушения просто бесполезны, а иногда несут прямую опасность, например, в случае блокирования жизненно важного для организма действия.
Директивный гипноз, императивное внушение в конечном счете приносят больше вреда пациенту, чем пользы. Действие всех техник, которые императивно подавляют его, напоминает прием анальгетика при внезапных болях в животе. Все мы знаем, что это смертельно опасно! Императивные техники основаны на подавлении думающей, творческой части внутри человека, на взаимодействии безусловного авторитета типа «Бог» и верующего в него человека.
А вот новая психотерапия позволяет вырвать корни болезни и таким образом помочь человеку гармонично вписаться в окружающий его мир. Это происходит из-за того, что она работает на патогенетическом уровне, воздействуя на причину, вызвавшую болезнь.
Например, если при классическом гипнозе внушение является чуждым элементом, вносимым в человека вопреки его воле, как бы своеобразными наручниками на влечение (например, таковым является кодирование при алкоголизме), от которых он будет стараться освободиться при первом удобном случае, то эриксоновский подход использует все ресурсы, которые имеются у человека, как его золотой запас, способный помочь ему. И вы увидите, что мой подход хотя по форме и является классическим, но в комплексе несет очень много от эриксоновского.
Уважаемые коллеги! Для того, чтобы вам стало понятно – почему я в своей работе пользуюсь гипнозом, я приведу результаты исследований Грофом холотропных состояний.
Он открыл, что эмоционально-значимые воспоминания отложены в бессознательном не в виде мозаики из отдельных отпечатков, но как сложные функциональные комплексы. И что восстановление в памяти подобного рода травматических переживаний обнаруживает далеко идущие терапевтические последствия.
Во время холотропных состояний, в отличие от словесной терапии, эмоционально-значимые события не просто вспоминаются или воссоздаются из сновидений – переживаются сами исходные эмоции, физические ощущения и даже особенности чувственного восприятия возраста происходящей регрессии. Это значит, что в это время человек действительно имеет телесный образ, наивное восприятие мира, чувства и ощущения, соответствующие возрасту регрессии, в которой человек находился в холотропном состоянии. Подлинность такой регрессии подтверждается тем обстоятельством, что складки и морщины на его лице временно исчезают, а выражение лица, позы, жесты и поведение в целом, становится совершенно детским.
Холотропные состояния имеют свойство «внутреннего радара», который автоматически выносит на поверхность сознания из бессознательного то содержание, которое имеет самую сильную эмоциональную нагрузку.
Видимо это связано с тем, что в холотропном состоянии резко ослабевает давление Суперэго. И подавленные комплексы в виде СКО (систем конденсированного опыта) выходят на поверхность. Это напоминает пузыри на воде – чем больше воздуха в этом пузыре, тем быстрее он проявляется на поверхности и лопается.
Состояние пациентов во время холотропного состояния оказывается очень похожим на состояние людей, находящихся в высокогорье, где кислорода меньше и уровень углекислого газа понижен из-за учащенного дыхания. Кора головного мозга, с эволюционной точки зрения являющаяся самой молодой частью мозга, в целом наиболее чувствительна к разнообразным влияниям (алкоголь, понижение кислорода и так далее), чем более старые. Это приводит к торможению функций коры головного мозга и усиливает действие других отделов мозга.
В этом плане интересно то, что многие индивиды и даже целые народы, проживающие в высокогорной части, известны своей высокой духовностью.
Таким образом, Гроф доказал, что искусственное введение в холотропное состояние путем гипервентиляции, позволяет вывести на поверхность и в значительной степени разрядить заблокированные до этого комплексы. Так вот! Я считаю, что же самое позволяет добиться использование гипноза как средства достижения нами психотерапевтических целей.
С моей точки зрения гипнотическое состояние – универсальное гиперпластическое состояние психики, в котором можно делать какие угодно техники. И они получаются намного лучше, чем просто в расслабленном состоянии (тем более в состоянии полного бодрствования). Но гипноз не лечит! Лечит слово психотерапевта.
Вы прекрасно знаете, что между сознанием и бессознательным есть некий барьер, который защищает внутреннее пространство от «ветренности» сознания. И психотерапевт может работать чисто с сознанием. И это, конечно же, в той или иной мере дает результаты потому, что в какие-то моменты человек все равно входит в легкий транс. И осознавания и психотерапевтические интервенции проникают к исполнительным структурам бессознательного.
В сознании взрослого человека есть механизмы, которые способны произвести изменения в бессознательном. Но доступ туда обычно закрыт. А все корни болезней, все «занозы» находятся в бессознательном – за барьером.
В трансовом состоянии этот психосоматический барьер снимается и психика становится единой. И слова психотерапевта легко и просто доходят до бессознательного пациента. В этом «котле» перевариваются и кости раннего воспитания, и сухожилия установок, и жесткое мясо привычек. Это происходит даже само по себе – без помощи психотерапевта, так как в трансе восстанавливается саморегуляция психики. Этим механизмом пользуются йоги. Все, чего достигают йоги в духовном развитии, связано с той или иной формой медитативной работы. Правда, это у них очень длительный процесс.
Если же психотерапевт использует современные и эффективные способы работы с бессознательным и делает это в состоянии наведенного транса, то результаты зачастую бывают очень быстрыми. Это связано с тем, что в этом состоянии образуется некое «лобное» место, в котором ОДНОВРЕМЕННО присутствуют 1 Я, его бессознательное и психотерапевт. И в процесс изменения психики в нужную сторону может вмешаться психотерапевт с помощью той или иной техники. Может это делать и сам пациент с помощью самовнушений, которые в этом состоянии становятся ЧРЕЗВЫЧАЙНО эффективными. А бессознательное может намного легче, чем в обычном состоянии, выдать «наверх» инсайт.
Мы прекрасно знаем, что в обычном состоянии очень трудно получить информацию от бессознательного в виде того или иного инсайта или же озарения. Это с моей точки зрения связано с тем, что это очень опасный процесс! История психиатрии знает, что при внезапных потрясениях, когда функционирование психики нарушено и психологические защиты ослабевают, подавленные комплексы могут прорваться в сознание с эффектом слона в посудной лавке. И человек внезапно сходит с ума!
Теперь я хочу сказать очень важную вещь: в гипнотическом состоянии это невозможно! Мною много раз замечено: какой бы серьезный материал не выходил на это «лобное место», какие бы сильные эмоции пациент при этом не испытывал, сколько бы слез при этом ни образовалось (у одной моей пациентки однажды в ушах образовались лужи), все проходит полностью в безопасном режиме!
Одно из главных возражений против гипноза было то, что это насильственная методика. Но мне представляется, что сама по себе методика не имеет никакого значения для того, чтобы назвать ее насильственной или же нет. Главное – как это делается и как подается пациенту? Ведь расщепление атома можно использовать для выработки электричества. А можно и для того, чтобы мгновенно превратить в пар целый город!
Вообще, с моей точки зрения, любое психотерапевтическое воздействие должно запускать внутри человека механизм собственной саморегуляции. Мы своими воздействиями можем только снять некоторые внутренние преграды. И если психотерапевт не думает о необходимости своими действиями запустить еще и этот процесс, то результаты могут быть только временными или же ничтожными.
С моей точки зрения официальное наведение гипноза – наиболее простая, эффективная и поддающаяся тиражированию молодыми психотерапевтами методика. Другое дело – контекст, в котором работает психотерапевт и фон, который воспринимают пациенты. Здесь есть масса нюансов, несоблюдение которых и создало не совсем однозначную репутацию гипнозу.
Уважаемые коллеги! У меня нет не гипнабельных пациентов. И это связано не с тем, что я такой крутой гипнотизер! А с тем, что я на основе огромного опыта (с 1982 года!) пришел к выводу, что гипноза как силы (удав-кролик) НЕТ!
С моей точки зрения есть только индуцированный психотерапевтом у пациентов САМОГИПНОЗ. И войдет пациент в него или же нет, какая степень погружения в трансовое состояние будет достигнута, зависит от искусства психотерапевта, от того – удастся ли ему или нет создать необходимую атмосферу, в которой пациент ПОЗВОЛИТ себе войти в это состояние.
Те психотерапевты, которые занимаются лечением своих пациентов при помощи гипноза, прекрасно знают о том огромном предубеждении перед ним, которое имеется у многих из обращающихся за помощью людей. И, наверное, поэтому очень многие психотерапевты бросили заниматься официальным наведением транса, а занялись эриксоновским гипнозом. Хотя по технике исполнения ввести человека в состояние транса при помощи методики традиционного гипноза намного проще, чем при помощи эриксоновского.