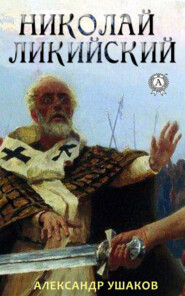По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ататюрк: особое предназначение
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В итоге мировой империалистической войны 1914–1918 гг. Турция потеряла до 66 % площади и до 33 % населения.
За участие в империалистической войне на стороне Антанты Греция на основании ст. 7 Мудросского перемирия (где отмечается право Антанты оккупировать стратегические пункты Турции), была «награждена» державами-«покровительницами» районом Измира.
Впрочем, у Греции, которая вынашивала идею восстановления Византийской империи, были далеко идущие планы.
Об этом заговорили с момента возникновения греческого государства в 1830 году.
Греческими политиками было сделано несколько выступлений по проблеме «исторической неизбежности расширения Греческого Королевства».
– Есть два великих центра эллинизма, – говорил в 1844 году видный греческий политик Иоаннис Коллетис. – Афины являются столицей Королевства. Константинополь является городом мечты и надежды всех греков».
По плану греческого премьер-министра Элефтериоса Венизелоса предполагалось создание «Великой Греции», которая будет включать в себя Ионию, Фракию, Кипр, запад Малой Азии, Понт на Чёрном море и земли Македонии и Болгарии.
Ничего хорошего Кемаль не ждал и от начавшейся в январе Парижской мирной конференции, на которой Запад собирался окончательно разобраться с наследством Османской империи.
Не было у Кемаля никаких надежд и на уехавшего в столицу якобы защищать интересы Турции у великого везиря Дамада Ферит-пашу.
Да и что мог сделать этот состоявший на жалованье у англичан чиновник, если в стальных сейфах министерств иностранных дел многих стран давно уже хранились планы расчленения Турции.
А чего стоило желание Запада создать на ее территории армянское и греческое государства.
Да что там говорить, если самого султана собирались изгнать из Стамбула и образовать там особую зону с константинопольским правительством.
И все же Союзники не учли самого главного.
Побежденная, но отнюдь не покоренная страна состояла не только из послушного султана и его окружения, и царившие на занятых Союзниками землях произвол и насилие вызывали законное возмущение турецкого народа.
Угол отражения оказался равным углу падения, и образованные еще в годы войны партизанские отряды уже начали ожесточенную борьбу против захватчиков.
Особенно напряженная обстановка сложилась в Измире, где намеревались высадиться грческие войска.
С декабря 1918 года начальник Генерального штаба французского флота отмечал, что «многовековая ненависть греков к туркам не знает в настоящее время никаких границ» и «греческая пресса ищет любой повод, чтобы создать инцидент, который повлек бы за собой оккупацию».
В ответ на брошюры, изданные греками, турки опубликовали большое количество мемуаров, телеграмм и научных трудов, оспаривают панэллинскую статистику, противопоставляя ей свою.
«Османская империя, – писали они, – была вынуждена вступить в войну против либеральных наций под давлением интриг иностранной дипломатии, имеющей виды на Ближний Восток, а также стала жертвой как ошибок, так и преступлений правящей верхушки».
С другой стороны, сторонники юнионистов готовятся к вооруженному сопротивлению.
В середине марта состоялся конгресс, объединивший примерно три сотни военных, местных чиновников и политиков-юнионистов, чтобы подтвердить, что «если, к несчастью, Измир оккупируют греки, то турки, послушные воле Аллаха, не покорятся и вспыхнет кровопролитие».
Более того, участники конгресса создали «Общество отказа от аннексии».
На следующий день после конгресса французский консул Измира сообщает о том, что турки покидают город, создают партизанские отряды и раздают оружие, подготавливаясь к высадке греческой армии.
Интервенция и намечавшийся раздел Турции привели в движение турецкую буржуазию, которая создавала по всей стране общества защиты национальных прав.
Помещики, торговцы, купцы, служащие, служители культа, крестьяне и даже откровенные бандиты, – все брались за спрятанное военными от Союзников оружие.
И по мере того как Союзники с присущей им наглостью продолжали захватывать все новые территории, ширилась и борьба за свободу.
Создаваемые по всей стране общества являли собой довольно грозную силу, но вся их беда заключалась в полнейшей оторванности друг от друга.
И свести все эти отряды и общества в единое целое на первых этапах борьбы за Независимость не представлялось возможным.
Да и не было пока среди их руководителей той фигуры, которая смогла бы взять на себя эту непосильную для обычного человека задачу.
Давно изсестно, что нет худа без добра, и вражда Кемаля с Энвером в известной степени служила ему охранной грамотой.
Правда, оставалась его «дружба» с Джемалем и другими видными с юнионистами.
Но Кемаль не скрывал этого.
Когда во время одного из светских приемов пастор Фреу, пресвитерианский священник, сотрудничающий с английской комендатурой, предложил Кемалю «осудить преступления юнионистов», он резко ответил:
– Возможно, юнионисты совершили множество ошибок, но их патриотизм не подлежит сомнению!
Если кто-то еще сомневался в том, что генерал представлял собой реальную опасность, то статья, опубликованная 20 марта в третьем номере «Большого обозрения» и подписанная «М. Z.», должна была развеять последние иллюзии.
Статья под названием «Мустафа Кемаль-паша» посвящена незаурядным личностям.
Процитировав Фоша и Гинденбурга, анонимный автор утверждает, что каждая страна отождествляется с национальным героем и что слава победителей признается всей нацией.
Закончив социологический экскурс, автор переходит к своему герою, Кемалю, и напоминает о его роли и роли начальника Генерального штаба генерала Джевата в кампании при Дарданеллах, «одной из наиболее славных страниц османской истории».
Эта часть статьи избежала цензуры.
Кемаль был представлен автором как «молодой, героический и стойкий» командир, а затем следует поистине мессианский финал: «Молодежь не должна забывать имя Мустафы Кемаля, одного из наших спасителей».
В оккупированном союзниками Стамбуле, будущее которого оставалось неясным, подобная статья не могла остаться незамеченной.
Ее заметили и арестовали ответственного за публикацию этой статьи Зию Гёкальпа, главного редакторе «Большого обозрения».
Это был тот самый Гёкальп, которым так в свое время восхищался Кемаль.
Ярый поклонник французской школы социологии, последователь Эмиля Дюркгейма, первый профессор социологии в университете Стамбула (1915), Гёкальп – один из ведущих мыслителей-националистов движения «Единение и прогресс».
Турецкий центр, модернистские реформы, проводимые этим движением, иллюзия пантуранизма многим обязаны этому человеку, пережившему в юности все муки интеллектуального османского реформиста и националиста.
Неизменный член Центрального комитета «Единение и прогресс» с 1908 года, Гёкальп стал подлинным крестным отцом этого реформистского движения.
Обзоры, за которые он был прямо или косвенно ответствен – «Новое обозрение», где публиковалось интервью Кемаля о Дарданеллах, «Обозрение факультета литературы», «Обозрение политической экономики», – а также деятельность таких его коллег и учеников, как литератор и педагог Халиде Эдип или журналист и будущий биограф Ататюрка Фалих Рыфкы, обеспечивали ему значительное влияние.
Вся беда была только в том, что дальше всего этого словословия, дело не шло, воз оставался на прежнем месте.
Никто из сильных мира сего по-прежнему не интересовался Кемалем.
Как потом признавался сам Кемаль, это было самое тяжелое время в его жизни.
За участие в империалистической войне на стороне Антанты Греция на основании ст. 7 Мудросского перемирия (где отмечается право Антанты оккупировать стратегические пункты Турции), была «награждена» державами-«покровительницами» районом Измира.
Впрочем, у Греции, которая вынашивала идею восстановления Византийской империи, были далеко идущие планы.
Об этом заговорили с момента возникновения греческого государства в 1830 году.
Греческими политиками было сделано несколько выступлений по проблеме «исторической неизбежности расширения Греческого Королевства».
– Есть два великих центра эллинизма, – говорил в 1844 году видный греческий политик Иоаннис Коллетис. – Афины являются столицей Королевства. Константинополь является городом мечты и надежды всех греков».
По плану греческого премьер-министра Элефтериоса Венизелоса предполагалось создание «Великой Греции», которая будет включать в себя Ионию, Фракию, Кипр, запад Малой Азии, Понт на Чёрном море и земли Македонии и Болгарии.
Ничего хорошего Кемаль не ждал и от начавшейся в январе Парижской мирной конференции, на которой Запад собирался окончательно разобраться с наследством Османской империи.
Не было у Кемаля никаких надежд и на уехавшего в столицу якобы защищать интересы Турции у великого везиря Дамада Ферит-пашу.
Да и что мог сделать этот состоявший на жалованье у англичан чиновник, если в стальных сейфах министерств иностранных дел многих стран давно уже хранились планы расчленения Турции.
А чего стоило желание Запада создать на ее территории армянское и греческое государства.
Да что там говорить, если самого султана собирались изгнать из Стамбула и образовать там особую зону с константинопольским правительством.
И все же Союзники не учли самого главного.
Побежденная, но отнюдь не покоренная страна состояла не только из послушного султана и его окружения, и царившие на занятых Союзниками землях произвол и насилие вызывали законное возмущение турецкого народа.
Угол отражения оказался равным углу падения, и образованные еще в годы войны партизанские отряды уже начали ожесточенную борьбу против захватчиков.
Особенно напряженная обстановка сложилась в Измире, где намеревались высадиться грческие войска.
С декабря 1918 года начальник Генерального штаба французского флота отмечал, что «многовековая ненависть греков к туркам не знает в настоящее время никаких границ» и «греческая пресса ищет любой повод, чтобы создать инцидент, который повлек бы за собой оккупацию».
В ответ на брошюры, изданные греками, турки опубликовали большое количество мемуаров, телеграмм и научных трудов, оспаривают панэллинскую статистику, противопоставляя ей свою.
«Османская империя, – писали они, – была вынуждена вступить в войну против либеральных наций под давлением интриг иностранной дипломатии, имеющей виды на Ближний Восток, а также стала жертвой как ошибок, так и преступлений правящей верхушки».
С другой стороны, сторонники юнионистов готовятся к вооруженному сопротивлению.
В середине марта состоялся конгресс, объединивший примерно три сотни военных, местных чиновников и политиков-юнионистов, чтобы подтвердить, что «если, к несчастью, Измир оккупируют греки, то турки, послушные воле Аллаха, не покорятся и вспыхнет кровопролитие».
Более того, участники конгресса создали «Общество отказа от аннексии».
На следующий день после конгресса французский консул Измира сообщает о том, что турки покидают город, создают партизанские отряды и раздают оружие, подготавливаясь к высадке греческой армии.
Интервенция и намечавшийся раздел Турции привели в движение турецкую буржуазию, которая создавала по всей стране общества защиты национальных прав.
Помещики, торговцы, купцы, служащие, служители культа, крестьяне и даже откровенные бандиты, – все брались за спрятанное военными от Союзников оружие.
И по мере того как Союзники с присущей им наглостью продолжали захватывать все новые территории, ширилась и борьба за свободу.
Создаваемые по всей стране общества являли собой довольно грозную силу, но вся их беда заключалась в полнейшей оторванности друг от друга.
И свести все эти отряды и общества в единое целое на первых этапах борьбы за Независимость не представлялось возможным.
Да и не было пока среди их руководителей той фигуры, которая смогла бы взять на себя эту непосильную для обычного человека задачу.
Давно изсестно, что нет худа без добра, и вражда Кемаля с Энвером в известной степени служила ему охранной грамотой.
Правда, оставалась его «дружба» с Джемалем и другими видными с юнионистами.
Но Кемаль не скрывал этого.
Когда во время одного из светских приемов пастор Фреу, пресвитерианский священник, сотрудничающий с английской комендатурой, предложил Кемалю «осудить преступления юнионистов», он резко ответил:
– Возможно, юнионисты совершили множество ошибок, но их патриотизм не подлежит сомнению!
Если кто-то еще сомневался в том, что генерал представлял собой реальную опасность, то статья, опубликованная 20 марта в третьем номере «Большого обозрения» и подписанная «М. Z.», должна была развеять последние иллюзии.
Статья под названием «Мустафа Кемаль-паша» посвящена незаурядным личностям.
Процитировав Фоша и Гинденбурга, анонимный автор утверждает, что каждая страна отождествляется с национальным героем и что слава победителей признается всей нацией.
Закончив социологический экскурс, автор переходит к своему герою, Кемалю, и напоминает о его роли и роли начальника Генерального штаба генерала Джевата в кампании при Дарданеллах, «одной из наиболее славных страниц османской истории».
Эта часть статьи избежала цензуры.
Кемаль был представлен автором как «молодой, героический и стойкий» командир, а затем следует поистине мессианский финал: «Молодежь не должна забывать имя Мустафы Кемаля, одного из наших спасителей».
В оккупированном союзниками Стамбуле, будущее которого оставалось неясным, подобная статья не могла остаться незамеченной.
Ее заметили и арестовали ответственного за публикацию этой статьи Зию Гёкальпа, главного редакторе «Большого обозрения».
Это был тот самый Гёкальп, которым так в свое время восхищался Кемаль.
Ярый поклонник французской школы социологии, последователь Эмиля Дюркгейма, первый профессор социологии в университете Стамбула (1915), Гёкальп – один из ведущих мыслителей-националистов движения «Единение и прогресс».
Турецкий центр, модернистские реформы, проводимые этим движением, иллюзия пантуранизма многим обязаны этому человеку, пережившему в юности все муки интеллектуального османского реформиста и националиста.
Неизменный член Центрального комитета «Единение и прогресс» с 1908 года, Гёкальп стал подлинным крестным отцом этого реформистского движения.
Обзоры, за которые он был прямо или косвенно ответствен – «Новое обозрение», где публиковалось интервью Кемаля о Дарданеллах, «Обозрение факультета литературы», «Обозрение политической экономики», – а также деятельность таких его коллег и учеников, как литератор и педагог Халиде Эдип или журналист и будущий биограф Ататюрка Фалих Рыфкы, обеспечивали ему значительное влияние.
Вся беда была только в том, что дальше всего этого словословия, дело не шло, воз оставался на прежнем месте.
Никто из сильных мира сего по-прежнему не интересовался Кемалем.
Как потом признавался сам Кемаль, это было самое тяжелое время в его жизни.