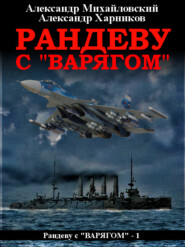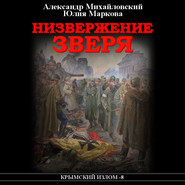По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Герой империи. Битва за время
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Герой империи. Битва за время
Юлия Викторовна Маркова
Александр Михайловский
Июль сорок первого года. Команда "Полярного Лиса", вступив во взаимодействие с окруженными и частично разгромленными частями Красной армии в Белостокском выступе и Минском укрепрайоне, стремится выиграть время, чтобы подтягивающиеся к Днепру соединения Второго Стратегического эшелона успели создать устойчивый фронт обороны по этой великой реке и тем самым перевели войну в позиционную фазу, которая для немецких генералов станет синонимом поражения.
Часть 5
1 июля 1941 года, утро. Брестская область, Кобрин. Штаб группы армий «Центр».
Командующий генерал-фельдмаршал Федор фон Бок
Уже четверо суток, начиная с утра двадцать седьмого июня, одним из крупнейших военачальников Третьего Рейха владело ощущение жгучей обиды, формулируемое короткой фразой: «Мы так не договаривались». Война, которой предстояло стать достойным победоносным завершением многолетней карьеры, была непоправимо испорчена грубым вмешательством со стороны так называемых «белых демонов». Могущественные пришельцы явились из неведомых космических далей и встали на защиту большевиков с таким пылом, будто специально только для этого спешили сюда с другого конца Галактики. Федор фон Бок уже знал, что за эти несколько последних дней в лексикон немецких солдат успели прочно войти такие слова как «белый демон», «огненная гадюка», «призрак»[1 - «Призрак» – егерь наземной разведки из роты капитана Вуйкозара Пекоца с включенным комплектом полевой маскировки, превращающем человеческую фигуру в расплывчатое колеблющееся марево.] и «бешеная сирена»…
Здесь, на московском направлении, где вермахт наносил главный удар по боевым частям большевиков, вмешательство пришельцев самым жестоким образом сломало планы германского командования, превратив тщательно спланированную операцию в какой-то неимоверный хаос. Зато у большевиков, явно попавших в твердые руки опытных стратегов, порядка с каждым днем становилось все больше и больше. Поэтому поначалу рефлекторное, почти бессмысленное, сопротивление попавших в окружении частей русских становилось более злым и целенаправленным. У командующего группой армий «Центр» было ощущение, что вместо растерянных унтерменшей Павлова и Тимошенко, которых не бьет только ленивый, у него теперь совсем иной противник – опытный, злой и не прощающий ошибок. И самое страшное – неведомый оппонент генерала-фельдмаршала фон Бока действовал таким образом, будто ему вовсе был неведом туман войны[2 - Туман войны – военный термин, введённый в 1832 году в трактате «О войне» прусским военачальником и теоретиком Карлом фон Клаузевицем, обозначающий отсутствие достоверной информации о текущей обстановке на поле боя в силу тех или иных объективных причин. В широком смысле слова термин может применяться иносказательно о недостоверности данных или неизвестности состояния сил и занимаемых позиций на театре военных действий или театре войны.], и он точно знал не только расположение всех частей противоборствующих сил в районе, представлявшем для него интерес, но и намерения их командиров.
Прошло уже двое суток с тех пор, как одна из большевистских группировок, прорываясь из окружения, в районе населенного пункта Ивацевичи оседлала танковую магистраль, и теперь 46-й и 47-й моторизованные корпуса Гудериана, развернутые в обратном направлении фронтом на запад, на последних литрах топлива пытаются преодолеть оборону большевиков, усиленную частями пришельцев. При этом немецкие части несут просто ужасающие потери в технике и людях, а к большевистской группировке постоянно подходят подкрепления, постепенно истекающие из вскрытых «белыми демонами» Белостокского и Волковысского котлов. Подвергнувшаяся ударам с трех сторон 131-я пехотная дивизия понесла тяжелые потери и оставила свои позиции под Ружанами, отступив на запад, после чего по дороге Волковыск-Ивацевичи на юг потек непрерывный мутный поток отступающих большевистских частей. Там они попадут под власть опытного волевого генерала, уже проявившего себя в сражении за Слоним и его куратора-пришельца, и из легкой добычи превратятся в тяжелую головную боль для германских войск.
Генерал-фельдмаршал прекрасно понимал, что даже если ценой невероятных усилий у Гудериана получится разблокировать танковую магистраль, то после завершения боев за Ивацевичи пробивная способность участвующих в этой операции подвижных соединений из-за высоких потерь упадет до нуля. В итоге 46-й и 47-й мотокорпуса потребуется на длительное время выводить из боев для пополнения техникой и личным составом, а это грозит срывом сроков выполнения текущих и последующих задач по плану «Барбаросса». При этом надо учесть, что уничтоженную противником 17-ю панцердивизию придется формировать заново. Немного лучше положение обстоит в 24-м мотокорпусе у фон Швеппенбурга, который медленно, под непрерывными бомбоштурмовыми ударами «белых демонов» и большевистской авиации продвигается к Минску со стороны Слуцка. Но и там потери достаточно велики, и, кроме того, 24-й мотокорпус также отрезан от материального снабжения и должен рассчитывать только на возимые запасы (как и остальные соединения 2-й панцергруппы).
Второй воздушный флот, нынче фактически уничтоженный «белыми демонами», больше не может оказывать поддержку подвижным соединениям, так что теперь даже тихоходные и плохо защищенные устаревшие русские бомбардировщики превратились в серьезную угрозу для наступающих войск. При этом русские пилоты наносят удары с высоты в полтора-два километра, и добиться прямого попадания в панцеры у них получается крайне редко, поскольку это может произойти только случайно. Но зато для такой бомбежки оказались очень уязвимы грузовики, перевозящие различные припасы и панцергренадер, а также полугусеничные тягачи, буксирующие пушки. Каждый вышедший из строя грузовик или тягач уменьшает пробивные возможности подвижных соединений. А уж если войсковую колонну своими лучами смерти причесывают снизившиеся для атаки «белые демоны», то пощады нет даже «тройкам» и «четверкам». Никогда раньше вермахт не попадал еще под такой плотный террор с воздуха, прежде именно люфтваффе господствовало в воздухе, поднося победы наземным войскам на блюдечке с голубой каемочкой.
Даже легкое касание такого луча обещало панцерманам тяжелые неприятности. То пушку вместе с маской к башне приварит, то башню к корпусу, а то гусеницу к каткам прихватит, так что не отдерешь. И это не считая «банальных» пробитий брони, воспламенения возимого в канистрах запаса топлива и прочих случаев, когда беспокоиться экипажу уже особо не о чем, потому что покойникам как-то все равно, от чего они умерли. В таких условиях до столицы Советской Белоруссии фон Швеппенбург, конечно, как-нибудь доползет, и даже вступит в с большевиками в бой на южном фасе Минского УРа, но это все, на что он будет способен. Даже если пришельцы прекратят помогать большевикам и оставят вермахт в покое, ни о каких глубоких прорывах до пополнения людьми и техникой не может быть и речи.
От этой мысли Федор фон Бок скривился как от зубной боли. И если солдаты в Германии еще найдутся, то о пополнении техникой можно и не мечтать. Понадеявшись на легкую победу над Советами, фюрер германской нации перед самым началом похода на восток резко сократил производства панцеров. Мол, и тех, что уже наделали, вполне хватит для того, чтобы полностью разгромить большевиков, а чтобы сражаться с Британией и Америкой, нужны уже не панцеры, а линкоры. А тут вот как получилось – вовлеченные в сражение на центральном участке фронта панцердивизии тают, как кусок сахара в стакане крутого кипятка, при этом среди поврежденных панцеров процент ремонтопригодных удручающе низок. Хорошо если ремонтники, как следует поработав автогеном, смогут собрать один исправный панцер из трех подбитых. Теперь все, что Германия может экстренно отправить на фронт – это три учебных панцердивизии из Франции, укомплектованные французской же техникой. Техника – ужасный хлам, да и танкисты не лучше – новобранцы недавнего призыва, только что приступившие к учебному процессу по освоению техники.
Единственная надежда на пехоту, которая была хороша в прошлой войне, и не должна подвести сейчас. Пехотные дивизии 4-й армии, первоначально предназначенные для замыкания с юга малых клещей[3 - Тактический прием «Двойные клещи» заключается в создании двух колец окружения. Пехотные части, вошедшие в проделанный танками прорыв, замыкают малые клещи на расстоянии 100–150 километров от бывшей линии фронта, окружая обороняющиеся войска, а танки и моторизованная пехота идут дальше и замыкают вторые «большие клещи» на удалении около 400 километров от линии фронта, охватывая тылы и резервы.] под Волковысском, теперь получили значительно более важное задание навалиться на большевистскую группировку под Ивацевичами с запада и северо-запада и совместно с подвижными соединениями Гудериана обеспечить разблокирование танковой магистрали. В противном случае на правом фланге группы армий «Центр» наступит оперативный коллапс, после чего ни о каком следовании плану «Барбаросса», а тем более о соблюдении сроков, не может быть и речи.
Но, даже отдав приказ о перегруппировке пехотных соединений и изменении цели операции, Федор фон Бок не верил в эффективность этого хода, потому что у командующего пришельцев, манипулирующего большевиками как куклами-марионетками, в любой момент может найтись очень нестандартный и эффективный антиход, который просто никому пока не приходит в голову. Своих сил у этого монстра от тактики явно очень немного, и в основном он вынужден манипулировать оторванными от своего командования большевистскими окруженцами, что у него получается вполне мастерски.
На левом фланге группы армий «Центр», у третьей панцергруппы генерала Гота обстановка складывалась значительно благоприятнее, даже несмотря на то, что тот также потерял от действий «белых демонов» одну панцердивизию. Там, севернее Минска демоны не участвуют в сражении своими сухопутными частями, коммуникации Третьей панцергруппы находятся в относительной безопасности и бои идут уже на ближних подступах к Минску. При этом 20-я моторизованная дивизия в результате обходного маневра второй раз за два дня (первый раз это была выбомбленная демонами 7-я панцердивизия) перерезала магистраль Минск-Москва. Но, несмотря на внешне достигнутый успех, генерал Гот не торопится. После того как попытка с ходу ворваться в Минск оказалась обреченной на неудачу, он заявил, что не сдвинется и с места, пока к городу не подойдет приотставшая пехота 9-й армии. В душе фон Бок одобрял такую осторожность, но вышестоящее командование требовало от него исполнения предварительно намеченных сроков проведения операции, что было связано с неоправданным риском. И отвечать, если что-то пойдет не так, будут не Браухич, Гальдер, Йодль, Кейтель и иные, а как раз он – фон Бок. Впрочем, сейчас там, на востоке, начинается новый день, и битва, только чуть притихшая на ночь, разгорается с новым ожесточением.
* * *
1 июля 1941 года, утро, Ивацевичи.
Капитан штурмовой пехоты Ария Таним.
Коротки летние ночи на Старой Земле. Казалось, только недавно мы прощались с закатом, и уже время встречать рассвет. Всю ночь между плацдармом и основной частью страны Эс-Эс-Эс-Эр непрерывным конвейером сновали наши шаттлы, которые вывозили раненых, а обратно в основном доставляли боеприпасы. Местные войска, ведущие интенсивное сражение, потребляют чертову уйму этого добра, и мы им в этом помочь никак не можем. Тихоходные местные летательные аппараты, обладающие к тому же недостаточной грузоподъемностью, местное командование решило к нам не присылать, тем более что подходящего ровного поля для их посадки и взлета поблизости не оказалось. Да, и немного их у страны Эс-Эс-Эс-Эр, при том, что объем необходимых перевозок весьма значителен, а угроза со стороны противника для транспортных летательных аппаратов весьма велика. Наши орбитальные челноки, работая в атмосферном режиме, сделают это дело и значительно быстрее и безопаснее.
Я знаю, что мы здесь выполняем крайне важную стратегическую задачу, удерживая за хвост наступление дейчей на одном из главных направлений. Я, конечно, всего лишь капитан, и к тому же не тактик из темных эйджел, а ротный командир штурмовой пехоты, но чтобы понять важность нашей позиции, особые таланты не нужны. Способности самостоятельно находить узловые точки, захват которых разрушает связность вражеской позиции, нас учат еще на первом курсе офицерского училища. Конечно, в большинстве случаев задачу перед штурмовой пехотой ставят тактики, но может сложиться такая обстановка, что мы будем оторваны от командования, и тогда каждая командир роты будет самостоятельно выбирать то место, за которое она вместе со своими девочками будет сражаться и умирать с максимальной пользой для Империи.
Наше вчерашнее подкрепление (освобожденные из лагеря для военнопленных) кидалось на врага в рукопашную с одними примкнутыми штыками. А все потому, что оружием-то мы их снабдили, а вот патронов на захваченном складе, где дейчи хранили трофеи, почти не имелось. Бились местные русские воины отчаянно, и многие из них были убиты или тяжело ранены, но в рукопашной схватке сумели отбросить и устрашить врага своей неистовой яростью, к которой и мои девочки добавили малую толику, вдребезги раздолбав элитных солдат дейчей из дивизии Дас Райх. Впрочем, будь у местных солдат в достатке патронов, я бы посоветовала моему генералу избрать другую тактику: оставив рукопашную схватку на сладкое, для начала хорошенько расстрелять вражеских атакующих солдат шквальным огнем в упор. У них же, в отличие от нас, нет ни персональной брони, ни защитных силовых щитов – ну чисто «мясо в серой экономичной упаковке».
Кстати, о мясе. Мой вчерашний пленник до сих пор жив, и я, честно говоря, не знаю, что с ним делать. Пленных наша группа не берет, а те, кого в плен все-таки взяли, загнаны в загородку, в которой сами дейчи держали русских пленных, а там такие условия, что, по моему мнению, гуманнее было бы просто расстрелять этих людей. Для моего личного пленника такие условия не подходят, ведь я не для того проявляла милосердие и гуманность, чтобы сгноить мальчишку в этом свинарнике. Мы, бойцыцы штурмовой пехоты, суровы, но отходчивы, и сентиментальность нам отнюдь не чужда. В Старой Империи этот пленный из хумансов мог бы стать моим личным пеоном (одна из привилегий офицерского статуса), но в новых условиях его положение было неопределенным.
Однако я все равно приказала своим девочкам отнести своего личного пленного к нашему ротному фельдшеру Колине Ла. Та сначала сделала ему пару уколов, чтобы снять шок и подавить возможную инфекцию, потом покопалась в ране своим автомедом, наложила несколько внутренних и внешних швов, после чего сказала, что ничего страшного нет, выздоровление идет хорошо, и, если позволят обстоятельства, больной непременно будет жить долго и счастливо. Мол, не в пах же штыком моего красавчика ударили, на самом деле… А все остальное, дескать, до свадьбы (то есть за три дня) заживет. Наши лекарства, они такие.
Однако, какое дурацкое предположение – будто я собираюсь использовать пленного дейча для сексуальных надобностей, предпочтя его моему генералу… Впрочем, я не стала опровергать этой догадки, только насмешливо фыркнула. И вот теперь этот дейч лежит на выделенной для него подстилке, тихонько скулит как побитый щенок, следит за мной взглядом по-собачьи преданных синих глаз и называет меня не иначе как «фройляйн гауптман». А все потому, что боится остаться без моей защиты и быть убитым первым же подошедшим сюда русским солдатом, а они весьма суровы по отношению к его соплеменникам.
Я даже узнала его имя – оказалось, что этого юного дейча зовут Альфонс Кляйн. И при этом я даже не понимаю – зачем мне этот Альфонс и что я буду делать с ним дальше? Что он мне, косы будет заплетать (как ординарец-сибха, которая осталась у меня на корабле) или после выздоровления бегать по моим поручениям? Первого он явно не умеет, а второго ему доверять пока нельзя, вся его лояльность держится на страхе быть внезапно убитым, если он вдруг окажется без моей защиты. И вообще, судьба войны переменчива: сегодня я здесь, а завтра буду в другом месте, куда этот Альфонс не сможет последовать. И что тогда – отдать его в местный лагерь военнопленных (что в окружении означает верную смерть) или убить собственной рукой, как это и надо было сделать с самого начала, когда я просто не смогла поднять нож на взмолившееся о пощаде беззащитное раненое существо?
* * *
Тогда же и там же, рядовой вермахта Альфонс Кляйн.
Я не хотел воевать. Война всегда внушала мне отвращение; я вообще не понимал, зачем это нужно – идти покорять какие-то другие народы, когда нам и так хорошо живется. Я хотел стать фермером, как мой отец. Хотел выращивать коз и овец, возделывать землю. Пока я был мальчишкой, бушующая в Европе война казалась мне чем-то очень далеким, мало касающимся лично меня. Да, фюрер каждый день вещал из радиоприемника, но в нашей семье никто не воодушевлялся его пламенными речами. Отец, слушая фюрера, мрачнел, тяжело вздыхал и переглядывался с матерью, которая чуть качала головой и поджимала губы. О войне у нас в доме не говорили. Родители никак не комментировали происходящее, но тем не менее я подспудно ощущал, каково их истинное отношение к этому всему.
Я жил довольно-таки безмятежно, помогал отцу и в поле и по хозяйству, и даже не задумывался о своем будущем, которое и без того было ясным для меня, другого я себе и не желал. И я не понимал, почему вдруг с некоторых пор отец стал как-то странно на меня посматривать – с тревогой и затаенной болью. А мать стала какая-то тихая и чрезмерно заботливая, и в ее глазах тоже таилось тщательно скрываемое беспокойство. Да, я не понимал, я избегал думать об этом, интуитивно чувствуя, что ответ принесет мне беспокойство и страх и навсегда лишит привычного покоя.
Я был единственным, поздним сыном своих родителей, которым сейчас было уже под шестьдесят. Всю свою жизнь я чувствовал их огромную любовь, и, конечно, собирался отдать им эту любовь сполна, утешая и поддерживая их в старости… Но внезапно все рухнуло. Наше безмятежное существование разлетелось на осколки, когда меня призвали в армию. Это произошло через два дня после того, как мне исполнилось семнадцать…
Мать сразу как-то поблекла, постарела, стала суетливой и одновременно рассеянной; при этом все валилось у нее из рук. Отец пытался узнать о способах избавления меня от воинской повинности; он был готов на любой подкуп, на аферу, но у него ничего не вышло. Слишком серьезны были планы нашего фюрера… Война в Европе шла уже второй год, на носу было вторжение в Большевистскую Россию, и вермахт требовал как можно больше новых солдат в качестве пополнения. О большевиках в тот момент я знал только то, что все они как один евреи, и что, стоит им прийти в Германию, как они сразу же отберут нашу ферму, чтобы организовать kolchose, а нас самих сошлют в дикую Сибирь к белым медведям.
Когда я уже стоял у порога со своим походным ранцем, мать вдруг рухнула передо мной на колени. Она обхватила мои ноги и принялась голосить: «Только вернись живым, сыночек мой! Умоляю, вернись живым!!!» И настолько неожиданным было такое поведение моей обычно сдержанной матери, что и я, и отец, замерли в каком-то оцепенении. А потом отец стал поднимать ее, успокаивать, а у меня в груди при этом что-то клокотало такой черной, невиданной тоской, что мне хотелось кататься по полу и выть… Но я совладал с собой. Я спокойно улыбнулся, обнял мать и сказал уверенным голосом: «Конечно же, я вернусь живым, мама! Даже не сомневайся!»
Дальше, когда я уже явился на призывной пункт, все для меня происходило словно в тумане; я все еще не готов был осознать до конца, что иду на войну убивать людей. Людей, которых не знаю и которые, собственно, не сделали мне ничего плохого. При этом я чувствовал, что иду на верную смерть. Во мне не было злости и ярости, что должны воодушевлять солдата доблестного вермахта. И это отличало меня от других призывников, вместе со мной проходящих первоначальную подготовку в первый месяц службы. Впрочем, я не мог залезть другим в голову. Вполне возможно, что не одного меня терзали подобные мысли… Когда мы, молодые солдаты, научились всему, что нам следовало знать, наш учебный батальон расформировали на маршевые команды и отправили в генерал-губернаторство (Польшу) в расположенные там пехотные части в качестве пополнения.
Мне, как считалось, повезло – за образцовую дисциплину и успехи в учебе я попал в моторизованные войска. Моим новым местом службы стал 69-й мотопехотный полк, входящий в состав 10-й панцердивизии, 46-го мотокорпуса из второй танковой группы, которой командовал блестящий и непобедимый Гейнц Гудериан. В то время как остальная пехота в наступлении должна была идти пешком, сбивая каблуки сапог и глотая пыль, мы, как аристократы, ехали в кузовах машин, время от времени небрежно поплевывая за борт. Это было где-то в начале июня, а в субботу двадцать первого числа нас вдруг построили и объявили, что фюрер решил объявить войну русским большевикам, которые несправедливо владеют жизненными пространствами, которые так необходимы германской расе. Ну и, естественно, по окончании войны нам всем, солдатам непобедимого вермахта, обещали большие фермы со славянскими рабами. Я же во все это не верил и думал о том, что моя личная ферма на русской земле будет как раз размером с могилу, в которой меня и похоронят…
Мои более опытные товарищи, уже прошедшие и польскую, и французскую кампании, тут же принялись строить планы, как они обогатятся в этом походе на восток. Они говорили, что в наступлении мотопехота все получает первой – и возможность пощупать местных насчет различных ценностей, и их девок, еще свежих и не мятых другими нашими камрадами. К тому же, если тебе попалось что-то стоящее и не удалось сразу отправить посылку домой, то тюк с вещами некоторое время можно везти с собой в грузовике. Мол, все так делают, и фельдфебель против не будет…
Перед первым боем мне было страшно. Впрочем, как и остальным новичкам. Это был холодный, осязаемый страх смерти, который пробирался под одежду и хватал за горло цепкими костлявыми пальцами… Но во мне присутствовало и еще что-то. Это было то самое отчаянное «Не хочу!» Я не хотел убивать. Я считал это неправильным. Ведь это мы пришли на эту русскую землю, а не наоборот. Это фюрер отправил нас сюда… Это ему нужна была эта земля, но не мне, не нам. Лично я вполне обошелся бы фермой своих родителей в Германии. Мне не нужна была чужая земля и рабы, ведь из уроков истории я знал, что рабы всегда очень плохо работают и всегда ломают порученный им инструмент, а он стоит денег. Я пытался вообразить большевиков в виде злобных устрашающих чудовищ, но у меня не получалось… Неизменно в моем воображении представали такие же обычные люди, как и мы, немцы, и я всякий раз содрогался, воображая, как стреляю в такого же парня, как и я, у которого, возможно, тоже дома остались престарелые родители, ожидающие его возвращения… И с тоскливым ужасом я осознавал, что не смогу стрелять в этих русских. А это значило, что умереть придется мне. И в какой-то момент мне стало казаться, что так будет лучше и правильней. ВЕДЬ ЭТО НЕ ОНИ НА НАС НАПАЛИ! Я запретил себе думать о родителях. Я знал, что они не одобряли эту войну. Только в тот момент я понял до конца, что они осуждали фюрера, делая это молча, чтобы не накликать беду на нашу семью…
Что ж, думал я, будь что будет, я стрелять в русских я не стану. Когда я так решил, мне стало легче. Показалось даже, что Бог одобрительно кивнул мне с небес…
Первые несколько дней война проходила так, как нам и обещали. Большевики были разгромлены сразу же, в приграничном сражении, их солдаты бежали или тысячами сдавались в плен; мы же катили на своих грузовиках все дальше и дальше на восток. Я был, наверное, единственным солдатом не только в моем взводе, но и во всем полку, который не обзавелся тючком с трофейными вещами. Да, нам разрешили не только брать брошенное имущество, но и грабить местное население, а почта исправно переправляла все это в Фатерлянд…
А потом настал день, когда с небес пришли демоны, и вся наша веселая прогулка по России полетела кувырком.
Известие о том, что русским помогают пришельцы с небес, поначалу привело нас в шок. Страшные байки (а может, и не байки) ходили среди доблестных солдат вермахта, неизменно вызывая мистический ужас, который некоторые пытались унять при помощи юмора. Но все их шуточки звучали довольно жалко, смех был вымученным, и что-то такое ощущалось в воздухе – неумолимое, темное, грозное – словно тень от крыльев витающей над нами ухмыляющейся смерти… А потом однажды нашу автоколонну с воздуха обстреляли два низколетящих самолета белого цвета с красными звездами на крыльях. Огненные лучи смерти вырывались у них из специальных устройств в основании крыльев. Один такой луч прошел прямо над нашими головами, и мы на мгновение ощутили острый запах озона и наэлектризованность воздуха; другой попал в машину с камрадами из соседнего взвода, и она вспыхнула как факел. Все произошло так быстро, что никто не успел выскочить. Я впервые за свою жизнь слышал, как страшно кричат люди, сгорающие заживо; и ведь это были не какие-нибудь славянские унтерменши, а мои кригскамрады-однополчане.
Но тот случай был только началом. Нам объявили, что выходящий из окружения враг захватил очень важную железнодорожную станцию в нашем тылу, и теперь для того, чтобы мы могли получать снабжение и отсылать домой посылки, мы должны отбить ее обратно. Нас выгрузили из машин, построили цепями и послали вперед за строем панцеров по узкой полоске земли между болотистым берегом реки и не менее болотистым лесом. Большевики не стали ждать, когда мы приблизимся вплотную, и открыли ураганный огонь из пушек, а потом из пулеметов. Одна наша атака следовала за другой, панцеры вспыхивали как свечки, потому что лучи смерти оказались не только на белых самолетах, но и у вражеской пехоты. Они с легкостью прожигали броню, а если этот луч попадал в человеческое тело, он просто разделял его напополам: ноги отдельно, голова отдельно.
Потом, в самом конце, когда оборона большевиков уже стала истощаться, когда замолчали их пушки, а пулеметы для экономии патронов перешли на короткие очереди, нас подкрепили эсесовским пехотным полком Дас Райх и снова послали в атаку, на этот раз последнюю. И тут нам навстречу из большевистских окопов выметнулась волна каких-то разъяренных оборванных людей и кинулась навстречу, уставив вперед штыки винтовок. И среди них, как воплощение кошмарных снов – здоровенные, коренастые как гориллы и закованные в броню демоны; они приняли голыми руками рвать на части моих кригскамрадов… Это было страшно. Я получил удар штыком в грудь от какого-то русского и свалился на землю без чувств.
Когда я очнулся, все мои камрады были мертвы. Победители – и коренастые демоны, и просто русские – как и тысячу или две тысячи лет назад, ходили по полю и обшаривали убитых в поисках трофеев[4 - На самом деле бойцы собирали только патроны из подсумков убитых немецких солдат, чтобы набить ленты к трофейным пулеметам МГ-34.]. Я лежал, и жизнь постепенно вытекала из меня. Боли я не чувствовал, только клокотание в груди; мне было трудно дышать. Странно – в этот момент мир преобразился для меня каким-то чудесным образом. Все стало как будто ярче и отчетливей. И вместе с тем острая тоска охватила меня, окутала, проникла внутрь… Словно кто-то напоследок пытался донести до меня некую важную истину… Умирая, я внезапно понял, как прекрасна жизнь. Такая сладкая, упоительная, многообразная, удивительная, загадочная и непознаваемая… Каждая травинка, каждое облако – чудо, и сама жизнь – чудо! Почему же мне суждено умереть? Я не готов… Я не хочу умирать… Я еще жив! Не убивайте меня, демоны! Вы же не демоны, правда? вы просто защитники русских… Я никого не убил! Я же всегда стрелял мимо!
И тут я увидел демоницу. Огромная и широкоплечая, обмундированная в некое подобие рыцарских доспехов, на которых виднелись отметины, оставленные штыками наших винтовок, она надвигалась на меня… Это была сама Неотвратимость – бесстрастная и неумолимая. Мама, папа, простите меня! Я люблю вас. Но эта женщина права. Нас следует убивать – всех до единого, кто посмел прийти на русскую землю. В ее глазах – праведный гнев и холодная ярость. Это мы, мы затеяли эту войну, мы не остановили нашего фюрера, мы рукоплескали ему и захлебывались восторгом от его речей… И всех нас он повел на погибель во имя своей безумной идеи… И пусть я не слушал его речи и не разделял его взгляды, это ничего не меняет, ведь я – один из тех, кто пришел на русскую землю с оружием в руках. А значит, я умру. Это правильно. Так должно быть…
«Только вернись живым, сыночек мой! Умоляю, вернись живым!!!» Я дернулся, словно наяву услышав этот вопль, вытянул руки перед собой… «Нет! Нет! Не убивайте меня!» – кричал я в отчаянии, ощущая руки матери, судорожно цепляющиеся за мои ноги. При этом я не слышал собственного голоса, из горла моего вырывался лишь сиплый шепот.
Она усмехнулась. Страшный нож сверкнул в ее руке. Я даже вспомнил, как в древности назывались такие клинки. Мизерикордия, нож милосердия – такими рыцари добивали раненых врагов, чтобы избавить их от излишних мучений. Могучая, грозная и прекрасная, словно богиня возмездия, эта женщина-гигант медленно приближалась ко мне… Вот сейчас этот нож перережет мне горло – и закончится мое существование… Вот сейчас… Одно мгновение: взмах ножа – и меня больше нет…
Цепенея от предсмертного ужаса, я смотрел в ее глаза – зеленоватые, нечеловеческие, совершенно немыслимые глаза, будто бы светящиеся изнутри. И она тоже смотрела… Ее лицо было прямо надо мной. Наши взгляды сцепились в какой-то бешено вращающийся клубок: мой горячий ужас и жаркая мольба перемешались с ее холодной ненавистью и ледяной решимостью…
И вдруг в глазах ее появилось что-то теплое. Какие-то искры заметались в глубине ее зрачков; все выражение ее лица изменилось, став более мягким… человечным… немного удивленным… Нож дрогнул в ее руке, рука расслабилась и опустилась. Она не убила меня! От радости грудь моя стала непроизвольно вздрагивать, и вот тут-то я и ощутил боль… Но она уже кричала что-то повелительное, как будто была среди своих большой начальницей – и вот уже крепкие руки могучих воительниц-валькирий подхватили меня и поволокли прочь с того места, где нашли свою смерть тысячи германских солдат. Они погибли, а я был жив, жив, жив! Потом меня положили на расстеленную прямо на земле серебристую ткань и суровая коренастая женщина (наверное, фельдшер) копалась в моей пробитой груди своими хирургическими инструментами. При этом она бормотала себе под нос какие-то ругательства, но мне было все равно, ведь я был жив. Потом мою рану заклеили тампоном, после чего фельдшер принялась что-то объяснять моей пленительнице, отчего та только насмешливо фыркнула.
Меня не отправили в концлагерь, а вместо того моя пленительница оставила меня при себе, указав своим подчиненным на подстилку, куда меня следует положить. Потом пришел человек – с виду вполне обычный и разговаривающий на немецком языке примерно с таким же ужасным акцентом, с каким говорят баварские горцы. Он объяснил мне, что теперь я личный пленник, то есть пеон, госпожи гауптмана Арии Таним (именно так звали ту особу, которая не стала резать меня ножом) и что я должен выполнять все указания своей новой госпожи, и тогда все у меня будет хорошо. Потом тот человек ушел, а я свернулся клубочком, прижав колени к груди и постепенно провалился я в блаженное забытье, не испытывая уже ни боли, ни страха… И только лишь благодарностью полнилось мое сердце, которое билось… билось… Все это значило, что я буду жить! Последним ярким видением перед тем как провалиться в беспамятство, было лицо той, что пощадила меня; в нем сквозило что-то щемяще знакомое, родное, близкое…
Юлия Викторовна Маркова
Александр Михайловский
Июль сорок первого года. Команда "Полярного Лиса", вступив во взаимодействие с окруженными и частично разгромленными частями Красной армии в Белостокском выступе и Минском укрепрайоне, стремится выиграть время, чтобы подтягивающиеся к Днепру соединения Второго Стратегического эшелона успели создать устойчивый фронт обороны по этой великой реке и тем самым перевели войну в позиционную фазу, которая для немецких генералов станет синонимом поражения.
Часть 5
1 июля 1941 года, утро. Брестская область, Кобрин. Штаб группы армий «Центр».
Командующий генерал-фельдмаршал Федор фон Бок
Уже четверо суток, начиная с утра двадцать седьмого июня, одним из крупнейших военачальников Третьего Рейха владело ощущение жгучей обиды, формулируемое короткой фразой: «Мы так не договаривались». Война, которой предстояло стать достойным победоносным завершением многолетней карьеры, была непоправимо испорчена грубым вмешательством со стороны так называемых «белых демонов». Могущественные пришельцы явились из неведомых космических далей и встали на защиту большевиков с таким пылом, будто специально только для этого спешили сюда с другого конца Галактики. Федор фон Бок уже знал, что за эти несколько последних дней в лексикон немецких солдат успели прочно войти такие слова как «белый демон», «огненная гадюка», «призрак»[1 - «Призрак» – егерь наземной разведки из роты капитана Вуйкозара Пекоца с включенным комплектом полевой маскировки, превращающем человеческую фигуру в расплывчатое колеблющееся марево.] и «бешеная сирена»…
Здесь, на московском направлении, где вермахт наносил главный удар по боевым частям большевиков, вмешательство пришельцев самым жестоким образом сломало планы германского командования, превратив тщательно спланированную операцию в какой-то неимоверный хаос. Зато у большевиков, явно попавших в твердые руки опытных стратегов, порядка с каждым днем становилось все больше и больше. Поэтому поначалу рефлекторное, почти бессмысленное, сопротивление попавших в окружении частей русских становилось более злым и целенаправленным. У командующего группой армий «Центр» было ощущение, что вместо растерянных унтерменшей Павлова и Тимошенко, которых не бьет только ленивый, у него теперь совсем иной противник – опытный, злой и не прощающий ошибок. И самое страшное – неведомый оппонент генерала-фельдмаршала фон Бока действовал таким образом, будто ему вовсе был неведом туман войны[2 - Туман войны – военный термин, введённый в 1832 году в трактате «О войне» прусским военачальником и теоретиком Карлом фон Клаузевицем, обозначающий отсутствие достоверной информации о текущей обстановке на поле боя в силу тех или иных объективных причин. В широком смысле слова термин может применяться иносказательно о недостоверности данных или неизвестности состояния сил и занимаемых позиций на театре военных действий или театре войны.], и он точно знал не только расположение всех частей противоборствующих сил в районе, представлявшем для него интерес, но и намерения их командиров.
Прошло уже двое суток с тех пор, как одна из большевистских группировок, прорываясь из окружения, в районе населенного пункта Ивацевичи оседлала танковую магистраль, и теперь 46-й и 47-й моторизованные корпуса Гудериана, развернутые в обратном направлении фронтом на запад, на последних литрах топлива пытаются преодолеть оборону большевиков, усиленную частями пришельцев. При этом немецкие части несут просто ужасающие потери в технике и людях, а к большевистской группировке постоянно подходят подкрепления, постепенно истекающие из вскрытых «белыми демонами» Белостокского и Волковысского котлов. Подвергнувшаяся ударам с трех сторон 131-я пехотная дивизия понесла тяжелые потери и оставила свои позиции под Ружанами, отступив на запад, после чего по дороге Волковыск-Ивацевичи на юг потек непрерывный мутный поток отступающих большевистских частей. Там они попадут под власть опытного волевого генерала, уже проявившего себя в сражении за Слоним и его куратора-пришельца, и из легкой добычи превратятся в тяжелую головную боль для германских войск.
Генерал-фельдмаршал прекрасно понимал, что даже если ценой невероятных усилий у Гудериана получится разблокировать танковую магистраль, то после завершения боев за Ивацевичи пробивная способность участвующих в этой операции подвижных соединений из-за высоких потерь упадет до нуля. В итоге 46-й и 47-й мотокорпуса потребуется на длительное время выводить из боев для пополнения техникой и личным составом, а это грозит срывом сроков выполнения текущих и последующих задач по плану «Барбаросса». При этом надо учесть, что уничтоженную противником 17-ю панцердивизию придется формировать заново. Немного лучше положение обстоит в 24-м мотокорпусе у фон Швеппенбурга, который медленно, под непрерывными бомбоштурмовыми ударами «белых демонов» и большевистской авиации продвигается к Минску со стороны Слуцка. Но и там потери достаточно велики, и, кроме того, 24-й мотокорпус также отрезан от материального снабжения и должен рассчитывать только на возимые запасы (как и остальные соединения 2-й панцергруппы).
Второй воздушный флот, нынче фактически уничтоженный «белыми демонами», больше не может оказывать поддержку подвижным соединениям, так что теперь даже тихоходные и плохо защищенные устаревшие русские бомбардировщики превратились в серьезную угрозу для наступающих войск. При этом русские пилоты наносят удары с высоты в полтора-два километра, и добиться прямого попадания в панцеры у них получается крайне редко, поскольку это может произойти только случайно. Но зато для такой бомбежки оказались очень уязвимы грузовики, перевозящие различные припасы и панцергренадер, а также полугусеничные тягачи, буксирующие пушки. Каждый вышедший из строя грузовик или тягач уменьшает пробивные возможности подвижных соединений. А уж если войсковую колонну своими лучами смерти причесывают снизившиеся для атаки «белые демоны», то пощады нет даже «тройкам» и «четверкам». Никогда раньше вермахт не попадал еще под такой плотный террор с воздуха, прежде именно люфтваффе господствовало в воздухе, поднося победы наземным войскам на блюдечке с голубой каемочкой.
Даже легкое касание такого луча обещало панцерманам тяжелые неприятности. То пушку вместе с маской к башне приварит, то башню к корпусу, а то гусеницу к каткам прихватит, так что не отдерешь. И это не считая «банальных» пробитий брони, воспламенения возимого в канистрах запаса топлива и прочих случаев, когда беспокоиться экипажу уже особо не о чем, потому что покойникам как-то все равно, от чего они умерли. В таких условиях до столицы Советской Белоруссии фон Швеппенбург, конечно, как-нибудь доползет, и даже вступит в с большевиками в бой на южном фасе Минского УРа, но это все, на что он будет способен. Даже если пришельцы прекратят помогать большевикам и оставят вермахт в покое, ни о каких глубоких прорывах до пополнения людьми и техникой не может быть и речи.
От этой мысли Федор фон Бок скривился как от зубной боли. И если солдаты в Германии еще найдутся, то о пополнении техникой можно и не мечтать. Понадеявшись на легкую победу над Советами, фюрер германской нации перед самым началом похода на восток резко сократил производства панцеров. Мол, и тех, что уже наделали, вполне хватит для того, чтобы полностью разгромить большевиков, а чтобы сражаться с Британией и Америкой, нужны уже не панцеры, а линкоры. А тут вот как получилось – вовлеченные в сражение на центральном участке фронта панцердивизии тают, как кусок сахара в стакане крутого кипятка, при этом среди поврежденных панцеров процент ремонтопригодных удручающе низок. Хорошо если ремонтники, как следует поработав автогеном, смогут собрать один исправный панцер из трех подбитых. Теперь все, что Германия может экстренно отправить на фронт – это три учебных панцердивизии из Франции, укомплектованные французской же техникой. Техника – ужасный хлам, да и танкисты не лучше – новобранцы недавнего призыва, только что приступившие к учебному процессу по освоению техники.
Единственная надежда на пехоту, которая была хороша в прошлой войне, и не должна подвести сейчас. Пехотные дивизии 4-й армии, первоначально предназначенные для замыкания с юга малых клещей[3 - Тактический прием «Двойные клещи» заключается в создании двух колец окружения. Пехотные части, вошедшие в проделанный танками прорыв, замыкают малые клещи на расстоянии 100–150 километров от бывшей линии фронта, окружая обороняющиеся войска, а танки и моторизованная пехота идут дальше и замыкают вторые «большие клещи» на удалении около 400 километров от линии фронта, охватывая тылы и резервы.] под Волковысском, теперь получили значительно более важное задание навалиться на большевистскую группировку под Ивацевичами с запада и северо-запада и совместно с подвижными соединениями Гудериана обеспечить разблокирование танковой магистрали. В противном случае на правом фланге группы армий «Центр» наступит оперативный коллапс, после чего ни о каком следовании плану «Барбаросса», а тем более о соблюдении сроков, не может быть и речи.
Но, даже отдав приказ о перегруппировке пехотных соединений и изменении цели операции, Федор фон Бок не верил в эффективность этого хода, потому что у командующего пришельцев, манипулирующего большевиками как куклами-марионетками, в любой момент может найтись очень нестандартный и эффективный антиход, который просто никому пока не приходит в голову. Своих сил у этого монстра от тактики явно очень немного, и в основном он вынужден манипулировать оторванными от своего командования большевистскими окруженцами, что у него получается вполне мастерски.
На левом фланге группы армий «Центр», у третьей панцергруппы генерала Гота обстановка складывалась значительно благоприятнее, даже несмотря на то, что тот также потерял от действий «белых демонов» одну панцердивизию. Там, севернее Минска демоны не участвуют в сражении своими сухопутными частями, коммуникации Третьей панцергруппы находятся в относительной безопасности и бои идут уже на ближних подступах к Минску. При этом 20-я моторизованная дивизия в результате обходного маневра второй раз за два дня (первый раз это была выбомбленная демонами 7-я панцердивизия) перерезала магистраль Минск-Москва. Но, несмотря на внешне достигнутый успех, генерал Гот не торопится. После того как попытка с ходу ворваться в Минск оказалась обреченной на неудачу, он заявил, что не сдвинется и с места, пока к городу не подойдет приотставшая пехота 9-й армии. В душе фон Бок одобрял такую осторожность, но вышестоящее командование требовало от него исполнения предварительно намеченных сроков проведения операции, что было связано с неоправданным риском. И отвечать, если что-то пойдет не так, будут не Браухич, Гальдер, Йодль, Кейтель и иные, а как раз он – фон Бок. Впрочем, сейчас там, на востоке, начинается новый день, и битва, только чуть притихшая на ночь, разгорается с новым ожесточением.
* * *
1 июля 1941 года, утро, Ивацевичи.
Капитан штурмовой пехоты Ария Таним.
Коротки летние ночи на Старой Земле. Казалось, только недавно мы прощались с закатом, и уже время встречать рассвет. Всю ночь между плацдармом и основной частью страны Эс-Эс-Эс-Эр непрерывным конвейером сновали наши шаттлы, которые вывозили раненых, а обратно в основном доставляли боеприпасы. Местные войска, ведущие интенсивное сражение, потребляют чертову уйму этого добра, и мы им в этом помочь никак не можем. Тихоходные местные летательные аппараты, обладающие к тому же недостаточной грузоподъемностью, местное командование решило к нам не присылать, тем более что подходящего ровного поля для их посадки и взлета поблизости не оказалось. Да, и немного их у страны Эс-Эс-Эс-Эр, при том, что объем необходимых перевозок весьма значителен, а угроза со стороны противника для транспортных летательных аппаратов весьма велика. Наши орбитальные челноки, работая в атмосферном режиме, сделают это дело и значительно быстрее и безопаснее.
Я знаю, что мы здесь выполняем крайне важную стратегическую задачу, удерживая за хвост наступление дейчей на одном из главных направлений. Я, конечно, всего лишь капитан, и к тому же не тактик из темных эйджел, а ротный командир штурмовой пехоты, но чтобы понять важность нашей позиции, особые таланты не нужны. Способности самостоятельно находить узловые точки, захват которых разрушает связность вражеской позиции, нас учат еще на первом курсе офицерского училища. Конечно, в большинстве случаев задачу перед штурмовой пехотой ставят тактики, но может сложиться такая обстановка, что мы будем оторваны от командования, и тогда каждая командир роты будет самостоятельно выбирать то место, за которое она вместе со своими девочками будет сражаться и умирать с максимальной пользой для Империи.
Наше вчерашнее подкрепление (освобожденные из лагеря для военнопленных) кидалось на врага в рукопашную с одними примкнутыми штыками. А все потому, что оружием-то мы их снабдили, а вот патронов на захваченном складе, где дейчи хранили трофеи, почти не имелось. Бились местные русские воины отчаянно, и многие из них были убиты или тяжело ранены, но в рукопашной схватке сумели отбросить и устрашить врага своей неистовой яростью, к которой и мои девочки добавили малую толику, вдребезги раздолбав элитных солдат дейчей из дивизии Дас Райх. Впрочем, будь у местных солдат в достатке патронов, я бы посоветовала моему генералу избрать другую тактику: оставив рукопашную схватку на сладкое, для начала хорошенько расстрелять вражеских атакующих солдат шквальным огнем в упор. У них же, в отличие от нас, нет ни персональной брони, ни защитных силовых щитов – ну чисто «мясо в серой экономичной упаковке».
Кстати, о мясе. Мой вчерашний пленник до сих пор жив, и я, честно говоря, не знаю, что с ним делать. Пленных наша группа не берет, а те, кого в плен все-таки взяли, загнаны в загородку, в которой сами дейчи держали русских пленных, а там такие условия, что, по моему мнению, гуманнее было бы просто расстрелять этих людей. Для моего личного пленника такие условия не подходят, ведь я не для того проявляла милосердие и гуманность, чтобы сгноить мальчишку в этом свинарнике. Мы, бойцыцы штурмовой пехоты, суровы, но отходчивы, и сентиментальность нам отнюдь не чужда. В Старой Империи этот пленный из хумансов мог бы стать моим личным пеоном (одна из привилегий офицерского статуса), но в новых условиях его положение было неопределенным.
Однако я все равно приказала своим девочкам отнести своего личного пленного к нашему ротному фельдшеру Колине Ла. Та сначала сделала ему пару уколов, чтобы снять шок и подавить возможную инфекцию, потом покопалась в ране своим автомедом, наложила несколько внутренних и внешних швов, после чего сказала, что ничего страшного нет, выздоровление идет хорошо, и, если позволят обстоятельства, больной непременно будет жить долго и счастливо. Мол, не в пах же штыком моего красавчика ударили, на самом деле… А все остальное, дескать, до свадьбы (то есть за три дня) заживет. Наши лекарства, они такие.
Однако, какое дурацкое предположение – будто я собираюсь использовать пленного дейча для сексуальных надобностей, предпочтя его моему генералу… Впрочем, я не стала опровергать этой догадки, только насмешливо фыркнула. И вот теперь этот дейч лежит на выделенной для него подстилке, тихонько скулит как побитый щенок, следит за мной взглядом по-собачьи преданных синих глаз и называет меня не иначе как «фройляйн гауптман». А все потому, что боится остаться без моей защиты и быть убитым первым же подошедшим сюда русским солдатом, а они весьма суровы по отношению к его соплеменникам.
Я даже узнала его имя – оказалось, что этого юного дейча зовут Альфонс Кляйн. И при этом я даже не понимаю – зачем мне этот Альфонс и что я буду делать с ним дальше? Что он мне, косы будет заплетать (как ординарец-сибха, которая осталась у меня на корабле) или после выздоровления бегать по моим поручениям? Первого он явно не умеет, а второго ему доверять пока нельзя, вся его лояльность держится на страхе быть внезапно убитым, если он вдруг окажется без моей защиты. И вообще, судьба войны переменчива: сегодня я здесь, а завтра буду в другом месте, куда этот Альфонс не сможет последовать. И что тогда – отдать его в местный лагерь военнопленных (что в окружении означает верную смерть) или убить собственной рукой, как это и надо было сделать с самого начала, когда я просто не смогла поднять нож на взмолившееся о пощаде беззащитное раненое существо?
* * *
Тогда же и там же, рядовой вермахта Альфонс Кляйн.
Я не хотел воевать. Война всегда внушала мне отвращение; я вообще не понимал, зачем это нужно – идти покорять какие-то другие народы, когда нам и так хорошо живется. Я хотел стать фермером, как мой отец. Хотел выращивать коз и овец, возделывать землю. Пока я был мальчишкой, бушующая в Европе война казалась мне чем-то очень далеким, мало касающимся лично меня. Да, фюрер каждый день вещал из радиоприемника, но в нашей семье никто не воодушевлялся его пламенными речами. Отец, слушая фюрера, мрачнел, тяжело вздыхал и переглядывался с матерью, которая чуть качала головой и поджимала губы. О войне у нас в доме не говорили. Родители никак не комментировали происходящее, но тем не менее я подспудно ощущал, каково их истинное отношение к этому всему.
Я жил довольно-таки безмятежно, помогал отцу и в поле и по хозяйству, и даже не задумывался о своем будущем, которое и без того было ясным для меня, другого я себе и не желал. И я не понимал, почему вдруг с некоторых пор отец стал как-то странно на меня посматривать – с тревогой и затаенной болью. А мать стала какая-то тихая и чрезмерно заботливая, и в ее глазах тоже таилось тщательно скрываемое беспокойство. Да, я не понимал, я избегал думать об этом, интуитивно чувствуя, что ответ принесет мне беспокойство и страх и навсегда лишит привычного покоя.
Я был единственным, поздним сыном своих родителей, которым сейчас было уже под шестьдесят. Всю свою жизнь я чувствовал их огромную любовь, и, конечно, собирался отдать им эту любовь сполна, утешая и поддерживая их в старости… Но внезапно все рухнуло. Наше безмятежное существование разлетелось на осколки, когда меня призвали в армию. Это произошло через два дня после того, как мне исполнилось семнадцать…
Мать сразу как-то поблекла, постарела, стала суетливой и одновременно рассеянной; при этом все валилось у нее из рук. Отец пытался узнать о способах избавления меня от воинской повинности; он был готов на любой подкуп, на аферу, но у него ничего не вышло. Слишком серьезны были планы нашего фюрера… Война в Европе шла уже второй год, на носу было вторжение в Большевистскую Россию, и вермахт требовал как можно больше новых солдат в качестве пополнения. О большевиках в тот момент я знал только то, что все они как один евреи, и что, стоит им прийти в Германию, как они сразу же отберут нашу ферму, чтобы организовать kolchose, а нас самих сошлют в дикую Сибирь к белым медведям.
Когда я уже стоял у порога со своим походным ранцем, мать вдруг рухнула передо мной на колени. Она обхватила мои ноги и принялась голосить: «Только вернись живым, сыночек мой! Умоляю, вернись живым!!!» И настолько неожиданным было такое поведение моей обычно сдержанной матери, что и я, и отец, замерли в каком-то оцепенении. А потом отец стал поднимать ее, успокаивать, а у меня в груди при этом что-то клокотало такой черной, невиданной тоской, что мне хотелось кататься по полу и выть… Но я совладал с собой. Я спокойно улыбнулся, обнял мать и сказал уверенным голосом: «Конечно же, я вернусь живым, мама! Даже не сомневайся!»
Дальше, когда я уже явился на призывной пункт, все для меня происходило словно в тумане; я все еще не готов был осознать до конца, что иду на войну убивать людей. Людей, которых не знаю и которые, собственно, не сделали мне ничего плохого. При этом я чувствовал, что иду на верную смерть. Во мне не было злости и ярости, что должны воодушевлять солдата доблестного вермахта. И это отличало меня от других призывников, вместе со мной проходящих первоначальную подготовку в первый месяц службы. Впрочем, я не мог залезть другим в голову. Вполне возможно, что не одного меня терзали подобные мысли… Когда мы, молодые солдаты, научились всему, что нам следовало знать, наш учебный батальон расформировали на маршевые команды и отправили в генерал-губернаторство (Польшу) в расположенные там пехотные части в качестве пополнения.
Мне, как считалось, повезло – за образцовую дисциплину и успехи в учебе я попал в моторизованные войска. Моим новым местом службы стал 69-й мотопехотный полк, входящий в состав 10-й панцердивизии, 46-го мотокорпуса из второй танковой группы, которой командовал блестящий и непобедимый Гейнц Гудериан. В то время как остальная пехота в наступлении должна была идти пешком, сбивая каблуки сапог и глотая пыль, мы, как аристократы, ехали в кузовах машин, время от времени небрежно поплевывая за борт. Это было где-то в начале июня, а в субботу двадцать первого числа нас вдруг построили и объявили, что фюрер решил объявить войну русским большевикам, которые несправедливо владеют жизненными пространствами, которые так необходимы германской расе. Ну и, естественно, по окончании войны нам всем, солдатам непобедимого вермахта, обещали большие фермы со славянскими рабами. Я же во все это не верил и думал о том, что моя личная ферма на русской земле будет как раз размером с могилу, в которой меня и похоронят…
Мои более опытные товарищи, уже прошедшие и польскую, и французскую кампании, тут же принялись строить планы, как они обогатятся в этом походе на восток. Они говорили, что в наступлении мотопехота все получает первой – и возможность пощупать местных насчет различных ценностей, и их девок, еще свежих и не мятых другими нашими камрадами. К тому же, если тебе попалось что-то стоящее и не удалось сразу отправить посылку домой, то тюк с вещами некоторое время можно везти с собой в грузовике. Мол, все так делают, и фельдфебель против не будет…
Перед первым боем мне было страшно. Впрочем, как и остальным новичкам. Это был холодный, осязаемый страх смерти, который пробирался под одежду и хватал за горло цепкими костлявыми пальцами… Но во мне присутствовало и еще что-то. Это было то самое отчаянное «Не хочу!» Я не хотел убивать. Я считал это неправильным. Ведь это мы пришли на эту русскую землю, а не наоборот. Это фюрер отправил нас сюда… Это ему нужна была эта земля, но не мне, не нам. Лично я вполне обошелся бы фермой своих родителей в Германии. Мне не нужна была чужая земля и рабы, ведь из уроков истории я знал, что рабы всегда очень плохо работают и всегда ломают порученный им инструмент, а он стоит денег. Я пытался вообразить большевиков в виде злобных устрашающих чудовищ, но у меня не получалось… Неизменно в моем воображении представали такие же обычные люди, как и мы, немцы, и я всякий раз содрогался, воображая, как стреляю в такого же парня, как и я, у которого, возможно, тоже дома остались престарелые родители, ожидающие его возвращения… И с тоскливым ужасом я осознавал, что не смогу стрелять в этих русских. А это значило, что умереть придется мне. И в какой-то момент мне стало казаться, что так будет лучше и правильней. ВЕДЬ ЭТО НЕ ОНИ НА НАС НАПАЛИ! Я запретил себе думать о родителях. Я знал, что они не одобряли эту войну. Только в тот момент я понял до конца, что они осуждали фюрера, делая это молча, чтобы не накликать беду на нашу семью…
Что ж, думал я, будь что будет, я стрелять в русских я не стану. Когда я так решил, мне стало легче. Показалось даже, что Бог одобрительно кивнул мне с небес…
Первые несколько дней война проходила так, как нам и обещали. Большевики были разгромлены сразу же, в приграничном сражении, их солдаты бежали или тысячами сдавались в плен; мы же катили на своих грузовиках все дальше и дальше на восток. Я был, наверное, единственным солдатом не только в моем взводе, но и во всем полку, который не обзавелся тючком с трофейными вещами. Да, нам разрешили не только брать брошенное имущество, но и грабить местное население, а почта исправно переправляла все это в Фатерлянд…
А потом настал день, когда с небес пришли демоны, и вся наша веселая прогулка по России полетела кувырком.
Известие о том, что русским помогают пришельцы с небес, поначалу привело нас в шок. Страшные байки (а может, и не байки) ходили среди доблестных солдат вермахта, неизменно вызывая мистический ужас, который некоторые пытались унять при помощи юмора. Но все их шуточки звучали довольно жалко, смех был вымученным, и что-то такое ощущалось в воздухе – неумолимое, темное, грозное – словно тень от крыльев витающей над нами ухмыляющейся смерти… А потом однажды нашу автоколонну с воздуха обстреляли два низколетящих самолета белого цвета с красными звездами на крыльях. Огненные лучи смерти вырывались у них из специальных устройств в основании крыльев. Один такой луч прошел прямо над нашими головами, и мы на мгновение ощутили острый запах озона и наэлектризованность воздуха; другой попал в машину с камрадами из соседнего взвода, и она вспыхнула как факел. Все произошло так быстро, что никто не успел выскочить. Я впервые за свою жизнь слышал, как страшно кричат люди, сгорающие заживо; и ведь это были не какие-нибудь славянские унтерменши, а мои кригскамрады-однополчане.
Но тот случай был только началом. Нам объявили, что выходящий из окружения враг захватил очень важную железнодорожную станцию в нашем тылу, и теперь для того, чтобы мы могли получать снабжение и отсылать домой посылки, мы должны отбить ее обратно. Нас выгрузили из машин, построили цепями и послали вперед за строем панцеров по узкой полоске земли между болотистым берегом реки и не менее болотистым лесом. Большевики не стали ждать, когда мы приблизимся вплотную, и открыли ураганный огонь из пушек, а потом из пулеметов. Одна наша атака следовала за другой, панцеры вспыхивали как свечки, потому что лучи смерти оказались не только на белых самолетах, но и у вражеской пехоты. Они с легкостью прожигали броню, а если этот луч попадал в человеческое тело, он просто разделял его напополам: ноги отдельно, голова отдельно.
Потом, в самом конце, когда оборона большевиков уже стала истощаться, когда замолчали их пушки, а пулеметы для экономии патронов перешли на короткие очереди, нас подкрепили эсесовским пехотным полком Дас Райх и снова послали в атаку, на этот раз последнюю. И тут нам навстречу из большевистских окопов выметнулась волна каких-то разъяренных оборванных людей и кинулась навстречу, уставив вперед штыки винтовок. И среди них, как воплощение кошмарных снов – здоровенные, коренастые как гориллы и закованные в броню демоны; они приняли голыми руками рвать на части моих кригскамрадов… Это было страшно. Я получил удар штыком в грудь от какого-то русского и свалился на землю без чувств.
Когда я очнулся, все мои камрады были мертвы. Победители – и коренастые демоны, и просто русские – как и тысячу или две тысячи лет назад, ходили по полю и обшаривали убитых в поисках трофеев[4 - На самом деле бойцы собирали только патроны из подсумков убитых немецких солдат, чтобы набить ленты к трофейным пулеметам МГ-34.]. Я лежал, и жизнь постепенно вытекала из меня. Боли я не чувствовал, только клокотание в груди; мне было трудно дышать. Странно – в этот момент мир преобразился для меня каким-то чудесным образом. Все стало как будто ярче и отчетливей. И вместе с тем острая тоска охватила меня, окутала, проникла внутрь… Словно кто-то напоследок пытался донести до меня некую важную истину… Умирая, я внезапно понял, как прекрасна жизнь. Такая сладкая, упоительная, многообразная, удивительная, загадочная и непознаваемая… Каждая травинка, каждое облако – чудо, и сама жизнь – чудо! Почему же мне суждено умереть? Я не готов… Я не хочу умирать… Я еще жив! Не убивайте меня, демоны! Вы же не демоны, правда? вы просто защитники русских… Я никого не убил! Я же всегда стрелял мимо!
И тут я увидел демоницу. Огромная и широкоплечая, обмундированная в некое подобие рыцарских доспехов, на которых виднелись отметины, оставленные штыками наших винтовок, она надвигалась на меня… Это была сама Неотвратимость – бесстрастная и неумолимая. Мама, папа, простите меня! Я люблю вас. Но эта женщина права. Нас следует убивать – всех до единого, кто посмел прийти на русскую землю. В ее глазах – праведный гнев и холодная ярость. Это мы, мы затеяли эту войну, мы не остановили нашего фюрера, мы рукоплескали ему и захлебывались восторгом от его речей… И всех нас он повел на погибель во имя своей безумной идеи… И пусть я не слушал его речи и не разделял его взгляды, это ничего не меняет, ведь я – один из тех, кто пришел на русскую землю с оружием в руках. А значит, я умру. Это правильно. Так должно быть…
«Только вернись живым, сыночек мой! Умоляю, вернись живым!!!» Я дернулся, словно наяву услышав этот вопль, вытянул руки перед собой… «Нет! Нет! Не убивайте меня!» – кричал я в отчаянии, ощущая руки матери, судорожно цепляющиеся за мои ноги. При этом я не слышал собственного голоса, из горла моего вырывался лишь сиплый шепот.
Она усмехнулась. Страшный нож сверкнул в ее руке. Я даже вспомнил, как в древности назывались такие клинки. Мизерикордия, нож милосердия – такими рыцари добивали раненых врагов, чтобы избавить их от излишних мучений. Могучая, грозная и прекрасная, словно богиня возмездия, эта женщина-гигант медленно приближалась ко мне… Вот сейчас этот нож перережет мне горло – и закончится мое существование… Вот сейчас… Одно мгновение: взмах ножа – и меня больше нет…
Цепенея от предсмертного ужаса, я смотрел в ее глаза – зеленоватые, нечеловеческие, совершенно немыслимые глаза, будто бы светящиеся изнутри. И она тоже смотрела… Ее лицо было прямо надо мной. Наши взгляды сцепились в какой-то бешено вращающийся клубок: мой горячий ужас и жаркая мольба перемешались с ее холодной ненавистью и ледяной решимостью…
И вдруг в глазах ее появилось что-то теплое. Какие-то искры заметались в глубине ее зрачков; все выражение ее лица изменилось, став более мягким… человечным… немного удивленным… Нож дрогнул в ее руке, рука расслабилась и опустилась. Она не убила меня! От радости грудь моя стала непроизвольно вздрагивать, и вот тут-то я и ощутил боль… Но она уже кричала что-то повелительное, как будто была среди своих большой начальницей – и вот уже крепкие руки могучих воительниц-валькирий подхватили меня и поволокли прочь с того места, где нашли свою смерть тысячи германских солдат. Они погибли, а я был жив, жив, жив! Потом меня положили на расстеленную прямо на земле серебристую ткань и суровая коренастая женщина (наверное, фельдшер) копалась в моей пробитой груди своими хирургическими инструментами. При этом она бормотала себе под нос какие-то ругательства, но мне было все равно, ведь я был жив. Потом мою рану заклеили тампоном, после чего фельдшер принялась что-то объяснять моей пленительнице, отчего та только насмешливо фыркнула.
Меня не отправили в концлагерь, а вместо того моя пленительница оставила меня при себе, указав своим подчиненным на подстилку, куда меня следует положить. Потом пришел человек – с виду вполне обычный и разговаривающий на немецком языке примерно с таким же ужасным акцентом, с каким говорят баварские горцы. Он объяснил мне, что теперь я личный пленник, то есть пеон, госпожи гауптмана Арии Таним (именно так звали ту особу, которая не стала резать меня ножом) и что я должен выполнять все указания своей новой госпожи, и тогда все у меня будет хорошо. Потом тот человек ушел, а я свернулся клубочком, прижав колени к груди и постепенно провалился я в блаженное забытье, не испытывая уже ни боли, ни страха… И только лишь благодарностью полнилось мое сердце, которое билось… билось… Все это значило, что я буду жить! Последним ярким видением перед тем как провалиться в беспамятство, было лицо той, что пощадила меня; в нем сквозило что-то щемяще знакомое, родное, близкое…