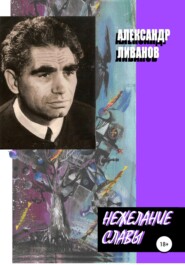По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Начало времени
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Скоро будем втроем, любый, – говорит Горпина, тревожно следя за лицом Степана. Оно тоже счастливое, но грустное и задумчивое. Ни разу я не видел таким Степана!
«Будем втроем», – догадываюсь я, почему-то тоже вдруг краснея.
Я спохватываюсь, что невольно подслушиваю, что могу помешать важному разговору Степана и Горпины. Бог с ними, с насосиками! Я еще раз приду…
Тихонько, на цыпочках, поворачиваюсь, чтобы уйти. Последний раз взглянул на Горпину. Ее все считают рябой и некрасивой. По-моему, зря так считают. В ее улыбке я даже угадываю что-то схожее с красивой молоденькой поповной Леной, с Марией, которую мать считает «писаной красавицей». Меня переполняет бескорыстное чувство благожелательности к Горпине и Степану. Я всегда жалел их за то, что у них нет матери, нет своего дома, за то, что им трудно живется на свете, и я теперь рад видеть их счастливые лица!
Я думаю о том – сказать ли дома об увиденном? Не повредит ли это Степану и Горпине? Но дома я все же не сдержался – выкладываю все начистоту. Даже не утаил, что Горпина сказала Степану: «Скоро будем втроем, любый мой».
Я не ждал, что последнее сообщение мое так встревожит мать. Приложив ладонь ко рту, она изумленно вскинула брови и с испугом посмотрела на отца. Странно, и отец, крошивший на краю стола свой самосад, вдруг прервался. Нож так и замер в его руке.
– Выдь-ка, погуляй, – сказала мать. Это после-то прогулки в рощицу! Эх, зачем я только выдал тайну Степана и Горпины! Знаю я это «выдь, погуляй».
Под каким-то предлогом я вернулся в хату. Обо мне, кажется, забыли. Родительский разговор далее идет в моем присутствии. Опасности для Степана и Горпины, кажется, не таит он.
– И слава богу, – сказал отец, – лучшего мужика ей и не найти. Правда, бают на селе, что у Степана не все дома. Ну одно и то же, что блаженный. – Принялся отец опять за свой самосад. – Народ ведь какой! Хитрецы да нахалы – вот те умные, вот у тех все дома!
– Но свадьбы, свадьбы-то не было!.. Что скажут люди!
– Э-эх бабьи мозги! Главное – «что скажут люди»! Что толку в той свадьбе, в том – что скажут люди?.. Хату, хату им надо поставить. Не жить же им в клуне Горпины. Хата – воно што главное. С Гаврилой, с Марчуком потолковать надоть бы. Может, толоку соберем…
Отец ребром ладони решительно столкнул с края стола табачное крошево в свой кисет со шнуровкой; хозяйски обдул нож, сложил его, и вместе с поводом-сшивальником, на котором этот нож всегда пребывает на привязи, точно бодливый бычок на колышке, спрятал в карман.
Только после этого отец закурил и, дымя цигаркой, крепко задумался. Мать молча смотрела на него, чего-то ждала или хотела спросить, но не решалась. Отец всегда сердился, когда прерывали его думки.
Наконец напялив свою баранью шапку (она и зимой и летом служит отцу верой и правдой) и переваливаясь с ноги на ногу, двинулся к двери. Не успел я его расспросить, что означает слово толока.
Против ожидания, мать толково объясняет мне, что толока – это когда все село, всем миром ставит дом погорельцу. Как интересно!
Когда отец и Марчук спорят, мать как бы и не слышит, а нет-нет вставит свое слово, и оказывается: и все слышит, и обо всем услышанном думает. Возится у печи, то за кочергу, то за ухват берется, а между дел и слово свое вставит в мужской разговор. Чаще всего берет мать сторону Марчука. «Мудрая жена у тебя, Карпуша!» – радуется Марчук материнскому слову. Отец хмурится, но ругать мать при госте не смеет.
Мать опасливо взглядывает на отца и продолжает греметь ухватами. Целомудренной материнской душе чужды шумные излияния и суетные споры. Она – как речное течение. Где глубоко – там оно тихое и неприметное…
Что случилось с отцом? Он не ест, не пьет, не прикладывается к пляшке; целый день как угорелый носится он от Терентия до клуни Горпины, оттуда до Марчука или к Гавриле Сотскому, в сельраду. Можно подумать, что отец любимую дочь выдает или старшего сына женит, а не просто хлопочет о свадьбе чужих ему Горпины и Степана.
Вот он опять показался, отец, в улочке между плетнями – нашего и Василя огородов. Ковыляет, спешит домой – плечи, как всегда, чертят в воздухе восьмерку. Едва переступив порог, он скорей снимает свою порыжевшую и свалявшуюся всю косматую баранью шапку, кладет ее на лавку и тяжело, словно приставший конь, переводит дыхание. Со стороны может показаться, что все тяготы жизни его заключены в этой шапке. Посмотрев на меня отсутствующим взглядом, отец присаживается рядом с шапкой, упирает обе руки в лавку, смотрит на печь, будто впервые ее видит. И, словно что-то вспомнив, одним махом встает, идет к висевшему на гвоздочке в углу полотенцу, вытирает пот со лба и шеи. Когда-то это вышитое полотенце по праву называлось «полотенцем с петухами». От некогда клеточно-прямоугольных и красно-черных петухов осталось одно воспоминание в виде вылинявших «жердочек», ниточек и хвостиков. Открыв дверцы мисника, отец достает початую буханку, луковицу и серую соль в глиняной махотке. Он внимательно рассматривает буханку со всех сторон, наконец останавливается на том месте, где корочка напоминает щучью пасть, полную острых зубов. Эту горбушку отец и отрезает своим ножом. Горбушку он натирает очищенной от золотой кожуры луковицей и посыпает ее крупной солью из глиняной махотки.
Дом наполняет острый, аппетитно щекочущий ноздри луковичный запах. Отец садится к столу. Как ни скуден обед, как ни спешит отец, но есть стоя или, пуще того, жевать на ходу – для мужика не просто неприлично, а вещь совершенно немыслимая. Хлебу-соли должно быть оказано почтение, и отец сидит на лавке, жует сухой ломоть сосредоточенно, истово, неторопливо. Хоть он давно уже неверующий и лба не перекрестит перед едой, но так есть он приучен с детства, в доме своего отца (и моего набожного, по словам матери, деда), когда еще еду предваряла молитва. Мать делала множество попыток вернуть отца богу, терпеливо и долго просила его хотя бы снизойти к молитве перед едой – отец только отмахивался. Во всем, казалось бы, отец усматривал в матери и «бабьи мозги» и «дурную Хыму», а вот над верой ее даже и не подтрунивал! Марчука, как-то заговорившего, как это, мол, так – Карпуша сам неверующий, а в жене такое терпит – отец довольно резко прервал: «Хай! Это ее бабье дело!»
Но, видно, отцу, уплетающему сейчас горбушку, натертую луком, не приходится ни «мудро воздерживать аппетит», ни испытывать «короткий праздник», ни «вкушать семейные радости». Может, и впрямь молитва к месту в доме богатея Терентия, где обед длится добрых часа полтора, где на столе и жареная баранина, и домашняя свиная колбаса, и разносолы?..
Нет, я согласен с отцом: такой обед и молитвы не стоит! Пусть Терентий благодарит бога за «ниспосланную пищу». Да и жена его – хозяйка в доме, не то что моя мать – батрачка и поденщица…
Обедая, отец не спросит меня, поел ли я? Дети – забота матери. Впрочем, он, вероятно, знает, что и я, проголодавшись, доберусь до мисника, до хлеба и луковицы. Матери нет дома, она работает «на экономии» – на прополке буряков. Отец велит мне принести воды из кадки, стоящей в сенцах, берет у меня двуручную медную кварту и с удовольствием запивает свой обед. Сытно икнув, он в горсть смахивает крошки со стола и отправляет их в рот. Это тоже часть ритуала мужицкого обеда. Ронять крошки или, не дай бог, дать упасть на землю куску хлеба – тяжкий грех. Упавший на землю кусок хлеба я приучен отцом тут же поднять и поцеловать. Это одновременно и как бы признание любви к хлебу, и просьба о милостивом прощении за грубость. Привычным жестом – кончиками пальцев – влево-вправо разгладив усы, отец говорит:
– Бог напитал – никто не видал… Сбегай-ка к попу, глянь, дома ли?
Я бегу к батюшке Герасиму. Сквозь щелку между замшелыми досками калитки, обвитой ржавым хмелем и дикой ежевикой, заглядываю в поповский двор. Дома батюшка! Он сидит на скамеечке в палисаде, буйно заросшем сиренью. Батюшку я застаю, как говорится, «не при форме». Ни парадной бархатной рясы, ни такой же камилавки, ни даже соломенной шляпы сейчас на нем нет. На дворе такая теплынь, а батюшка сидит в валенках и в башлыке; это он, видимо, так от жары спасается, потому что остальную одежду его составляет просто исподнее. И вправду получается, как отец говорит: чем больше батюшка стареет, тем больше он дуреет. Надо же придумать такое: подштанники и валенки, нательная рубаха и башлык!
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: