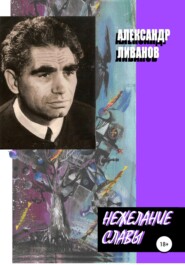По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
У быстро текущей реки
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Затяните обратно ниппель. Да потуже… Чтоб бензин не отпотевал. Иначе до пожара недолго. Все в порядке? Садитесь в кабину, нажмите на стартер. Что новые свечи скажут?
Подскочивший к отставшей танкетке старший лейтенант с тремя «кубиками» в петлицах и с красным флажком в руке с недоумевающей строгостью глянул на Андрея Платоновича. Старший лейтенант возглавлял линейные посты и отвечал за прохождение танковой колонны. Поэтому взгляд его был из тех, которыми военные умеют показать штатским их абсолютную неуместность.
Андрей Платонович, заботливо щурясь на мотор, не замечал ни начальства, ни строгого взгляда его.
– Опережение зажигания не забудьте, – заглянул он в кабину, – подсоса не бойтесь. Не зима ведь…
Лейтенант пошуровал ногами, перебрал педали, что-то потянул рукой – и мотор надрывно загудел. «Ур-р-а!» – закричали мальчишки, кидая вверх кепчонки, тюбетейки, бескозырки с черно-золотистыми лентами и даже испанские шапочки с кисточками.
– Молодец!.. Товарищ!.. – выкрикнул из кабины водитель. С сияющим, радостным лицом он торопливо объяснял старшему лейтенанту: «Во – башковит!.. К нам бы его, в дивизион!.. Вольнонаемным механиком! Без него – мне б тут форменная труба!..»
Захлопнув стальной козырек кабины, водитель дал полный газ и танкетка, зазвенев новенькими, еще не сбитыми гусеницами, покатила по мостовой. Мальчишки приседали, чтоб лучше рассмотреть искры, высекаемые из гранитных булыг стальными траками. Танкетка быстро догнала задержавшуюся колонну и, соблюдая уставной интервал, стала замыкающей.
– Спасибо, товарищ, – сказал линейный старший лейтенант, развертывая окончательно красный флажок. – А насчет механика… Подумайте. Нужны нам механики позарез. Мы стоим в Алёшинских казармах. Знаете? Между Спасским рынком и «шариком».
– Знаю. Но, думаю, вооружение сие… вам скоро заменят на более совершенное. Двигатель слабоват. Значит – ни скорости, ни маневренности. Одним Дегтяревым тоже далеко не уйти, а броню такую… штыком проткнешь.
– Да вы и в самом деле, видать, человек башковитый! Это нам прислали опытную партию. Недавно нам комиссар сказал, что в серию танкетки не пойдут… По этим же причинам, что и вы сказали… Но кто вы такой? Чтоб штатский так разбирался в вооружении…
– А почему «штатский»? В моем военном билете записано – «старший лейтенант запаса». Одного с вами, значит, звания… Время пороховое! Может, еще на войне повстречаемся! А вы – «штатский»… Война будет боль-шой, ни фронта, ни тыла, ни «военных», ни «штатских»…
И словно преодолев обиду, добавил:
– Платонов. Андрей Платонович, – и подал руку старшему лейтенанту. – Когда-то был возле машин, возле паровозов. А теперь – писатель… Ну, бегите, бегите, вам задерживаться нельзя!
Точно генералу, с особой подчеркнутостью козырнул старший лейтенант: «Рад был познакомиться! Приходите в Алёшинские казармы! С комиссаром познакомлю – очень поговорить хочется!»
И придерживая пистолет на боку, четко повернувшись через правое плечо, побежал к своим линейным. С такими же красными флажками, как у старшего лейтенанта, только не в руках, а на штыках, стояли они на ровных дистанциях друг от друга по обеим сторонам улицы.
Андрей Платонович поправил шарфик под лацканами пальто и медленно пошел к Красной площади. Руки за спину, шел – и думал. Потом остановился, отошел в сторонку и долго, через головы линейных красноармейцев и штыков их, поверх шествий демонстрантов, трепетного потока флагов, цветов и портретов вождей – смотрел на Мавзолей. Свесив голову на грудь, все так же в задумчивости, пошел дальше под звуки ликующего марша. Среди веселья, праздника, торжества он думал о той войне, о которой обмолвился старшему лейтенанту. Какая она будет?
Война моторов, война идеологий, война народов… Европа под сапогом Гитлера… Когда-то Россия, сама, истекая кровью, защитила Европу от гуннов. Теперь, похоже, что гунны гитлеризма из Европы двинутся на Россию, иначе им с Европой не совладать. Как это у Блока? «Когда свирепый гунн в карманах трупов будет шарить, жечь города, и в церковь гнать табун, и мясо белых братьев жарить…»
Надо сейчас думать далеко, истинно, чтоб увидеть судьбы грядущие, чтоб потом не совестно было, что мысль оказалась временной и слабомощной – вроде тех танкеток…
Он вспомнил белобровое и доверчивое лицо лейтенанта, видать, деревенского хлопца, скуластое, с отвердевшими чертами заводского рабочего лицо старшего лейтенанта, который – с чувством хозяина – его пригласил в Алёшинские казармы, и, как родных, надолго, вобрал их в душу. С ними и мысли о грядущих судьбах родины обрели вдруг определенность и сердечную теплоту…
Его потянуло домой – к письменному столу.
Впередиидущий
Вечерние сумерки морозного зимнего дня. Зловещей багровостью разлито закатное солнце над городским горизонтом, изломанным угласто чернеющими крышами. Тротуар, как улица, пустынен. Вокруг – тишина, ни заливистого крика играющей ребятни, ни отрывистого, точно одиночные выстрелы, лая собак, неуверенных в нужности их городского лая, но и не желающих упустить возможность показать выгуливающим их хозяевам свое собачье верноподданничество, его рьяность…
Он идет впереди меня, шагает размеренно, широко и несуетно, в ритме гуляющего москвича-пенсионера. Не вертясь по сторонам, и не озираясь, он все видит, все замечает. Стоит ему лишь искоса скользнуть взглядом. И грузовик, с полным кузовом «посуды» – («небось, только за сегодняшнее воскресенье успели «опростать»), и обросшую к зиме длинной и грязной шерстью бездомную собаку («разочаровалась в людях; даже не смотрит в их сторону; третирует их; когда-то ее хозяева взяли, подержали – и прогнали. С тех пор она никому не глянулась. Вот она и пробегает мимо, словно не замечает людей»…)
Он все замечает, обо всем успевает подумать с хозяйской обстоятельностью, никому себя не навязывает, но готовый к приязненному, хотя и по-московски сдержанному, общению.
Попробуйте, спросите его о чем-нибудь – и вы в этом тотчас же убедитесь! Например, почему закрыт магазин («Как же, ведь в воскресенье он торгует лишь до шести!») Или, как и куда пройти («Третья Рыбинская? Два квартала прямо, один влево, и снова прямо. Это примерно, ее середина. Уж какой вам номер нужен – посмотрите: налево ли вам, или направо»).
В этом хозяйском чувстве впередиидущего мне по душе его несуетливость, неотвлеченность, постоянство доброжелательства. Не знаю, как я их ощущаю в нем, но я уверен в них. Может, все дело в этом, пережившем сто мод – и сто лет! – ратиновом пальто с черным каракулевым воротником; в такой же «шапочке-пирожком» в этой спокойно-уверенной спине, говорящей о чувстве собственного достоинства, никогда не переходящей в заносчивость; наконец, в той же размеренно-широкой, как бы раздумчивой, поступи…
«Одним словом – Москвич! Хозяин своего города, который он любит, исполнен законной гордости за него!» – подумалось мне.
В самом деле, когда человек живет среди людей, он так или иначе научается пониманию их. А москвич ли не живет среди людей! Понимать их и значит – быть терпимым и приязненным, снисходительным и благожелательным. По этому москвича узнаем даже и не в Москве! Москвич всегда посреди сложностей, поэтому он любит, чтоб все решалось разумно, справедливо и мирно, в общих интересах, будучи толков, предупредительным и вежливым, в нем некое неэгоистичное старшинство!
Мой впередиидущий что-то заметил на тротуаре. Остановился, я тоже замедлил шаг. Наконец он наклонился и что-то поднял. Это была детская однопалая варежка. Маленькая до трогательности…
Он, верно, думает о том же, что и я. Попадет же малышу от матери! Уж поругает она его (или ее), сама расстроится… И не столько из-за того, что опять покупать варежки, что завтра надеть нечего (в садик? в школу?) – сколько из досады, из опасения: не растет ли сын (дочь) вообще растяпой, растеряхой… Не таится ли за потерей варежки – потеря характера, самой судьбы?
Крошечная варежка – а может отравить вечер ребенку, родителям. О, боги, о, беды! Иллюзорность первых, и явь вторых…
Да что поделать? Как исправить дело: «спасти ситуацию»?
А он уже между тем подошел к тополю. «Верное решение», – догадываюсь я. Что ж еще? Надо повесить варежку на ветку, и дело с концом! И бедствие, и флаг бедствия…
Но он почему-то медлит. В чем дело? Ах, я понял его. Он выбрал ветку, растущую не вдоль тротуара, а поперек его, вовнутрь. Ну, конечно, молодчага. Так варежка будет просматриваться с обеих сторон! Останавливает – как маленькая черная рука!
«Видать, фронтовик», – подумал я. «И обязательно – солдат!.. Есть в этом что-то именно от солдатской смекалки, от ее солдатской обстоятельности и законченности! Чего бы стоили штабные стрелы на стратегических картах без плоти и крови солдатской смекалки!»
Я остановился, делаю вид, что смотрю куда-то в сторону. Я не оборачиваюсь, не озираюсь, но все вижу («Я тоже – москвич, тоже – солдат!»).
Но что же он такое делает? Ну и вправду – молодчага! Тонкий ус ветки он согнул скобкой, насунул на нее варежку, чтоб ее расчалило на всю ее ширину! Чтоб она так видней была! Да и чтоб ветер не сдул ее! Темная детская лапушка – некий «СОС»!
И эта «скобка» из уса тополиного, это безотчетное как бы знание его упругой силы, весь эмпирический, что ли, из опыта, видать, «сопромат» – заставляют меня сделать третье, окончательное заключение: не просто москвич, солдат-фронтовик: он – рабочий! Видать, заводской рабочий на пенсии… Некий триединый опыт жизни…
«И что же, что на пенсии? Как это в песне пелось: «солдат – всегда солдат!» «А рабочий – всегда рабочий!»
Поравнявшись с ним, я не сдержался – глянул на распяленную, и вправду, точно черная детская ладошка, варежку, на него самого, и улыбнулся ему. Улыбкой этой мне хотелось ему сказать, что я все-все понял! Что он поступил наилучшим образом! Море узнается по одной капле! Пустяк вроде, но, как говорится, – я с ним в разведку пошел бы! Во всем, всю жизнь человек – ратоборец против стихий!
Он не ответил мне улыбкой, как я ждал. Да и впрямь – над чем здесь улыбаться? Он лишь как-то пристально, одно мгновенье, глянул на меня. Как бы говоря: разве вы находите в этом что-то необычное? Простейшая штука! Да и вы – я уверен – так бы поступили! Главное, любой так должен поступить. Мы – люди!..
И именно потому, что в этом серьезном, мгновенном взгляде его я все это прочитал и понял – я ничего ему не сказал. И не остановился. Пошел дальше. Теперь уже я был впередиидущим…
Трудная любовь
Слесарь-лекальщик Л. (некая очередная обуженность и специализация; того же слесаря-инструментальщика, художника среди слесарей, всю жизнь занятого тем, что подковывает незримую левшовскую блоху вполне реальными, пусть и видимыми лишь в «мелкоскоп», подковками) занят своим кропотливым, немного таинственным, делом. Он и работает отдельно, за фанерной огородкой. Там чисто – точно в лаборатории. Инструмента немного, вроде он обычный: надфили, шкурки, шлифовальные круги, коробочка с «алмазной пастой».
Как раз этой пастой и занят сейчас лекальщик. Он пришлифовывает с помощью этой пасты поверхность какого-то сверхпрецизионного пуансона – и сложной конфигурации и высокой – микронной – точности… Единственная, не знающая «вала», продукция.
Я долго наблюдаю работу этого «мага техника» – и думаю: как бы далеко ни ушла сама техника, «электроны, умноженные на микроны», как бы производство ни автоматизировать уникальными роботами, в «золотых руках» (а они всегда – при «золотой голове»!) всегда будет нужда. И еще я думаю о том, что, видать, никогда не будет найдена метода «обучения массовой» подготовки таких мастеров высокого класса, которые всегда – самородки, и уповать тут можно лишь на случай! Как же надо ими дорожить. Слышал я, что заработок его достигает до полтыщи в месяц. Что ж, – все верно. Я – писатель! И свое пишу (иногда удается что-то издать), и рецензирую, и внештатно редактирую… Мой заработок (он все еще «облагорожено» именуется – «гонораром»! Причем здесь – «гонор»! Заработок – он и есть заработок!..) достигает лишь трети этого слесаря… Я это отмечаю без тени зависти. Даже с чувством удовлетворения, как факт справедливости жизни.
– Что, интересно? – спросил меня лекальщик. – Небось – все распишите под орех! И слова будут красивые: «вдохновение», «творчество», «искусство»! Знаю я вашего брата – писателя!
– А что, не чувствуете ничего подобного? Ну пусть хотя бы – удовлетворения от хорошо сделанной работы? Трудно было, не давалось, не давалось – ну, вроде красивой и капризной женщины… А все же… Сумели покорить!.. Главное, – чувство: сумел то, что другой не сумел бы?
– Да-а, – что-то и вправду похожее бывает! – смеется лекальщик. И даже покачал головой. С видом ловкого человека, умеющего оценить по достоинству ловкость в ком-то другом… – Все мы, конечно, человеки, одинаково чувствуем… Разве что слова разные…
– Вот видите… А говорите – «красивые слова»… Знаете, чем трудней, серьезней трудится писатель, в общем – свободный художник, тем и он реже говорит эти «красивые слова». О чем бы ни писал. И о своем труде тоже…