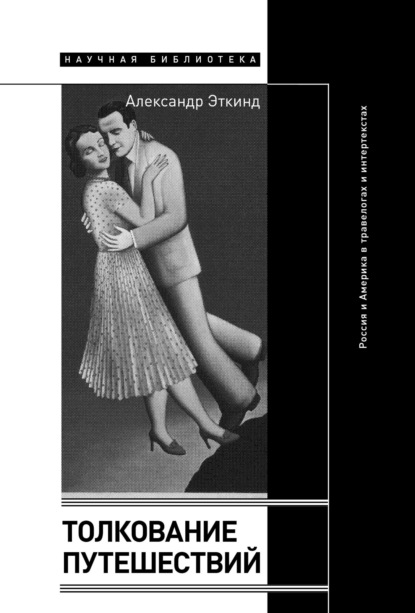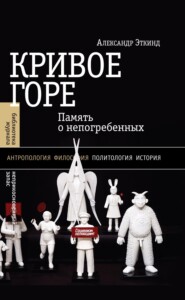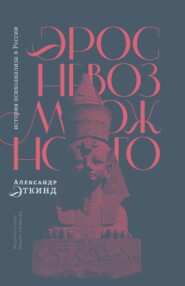По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Толкование путешествий. Россия и Америка в травелогах и интертекстах
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В сравнении с этими более поздними исканиями яснее становится раннее диссидентство Чаадаева. Он полагал христианство важнейшим фактором исторического процесса и не сомневался в значении церкви для устройства земных дел. Религия оказывает свое действие не только мистическим путем, но в непрерывном, вполне конкретном процессе «воспитания человеческого рода». Но каждая религия делает это по-своему и с разными результатами:
Доказательством того, что такими, какие мы есть, создала нас церковь, служит, между прочим, то обстоятельство, что еще в наши дни самый важный вопрос в нашей стране – это вопрос сектантов, раскольников[75 - Чаадаев П. Я. Сочинения. С. 29, 211.].
Это религия, а не государство, научила людей мыть свои руки и слушать чужие мнения, а также не выбрасывать младенцев, помогать больным, щадить врагов и вообще чувствовать, что соблюдать десять заповедей хорошо, а не соблюдать их плохо[76 - Из современных концепций такое понимание сравнимо с «цивилизационным процессом» Норберта Элиаса, который описывает смягчение нравов и улучшение манер от Средневековья к Возрождению и далее.]. Только благодаря христианству, считает Чаадаев, Европа избавилась от рабства везде, кроме России. «Почему же христианство не имело таких последствий у нас»? – спрашивает второе «Философическое письмо».
Наоборот, русский народ подвергся рабству лишь после того, как стал христианским, а именно в царствование Годунова и Шуйского. ‹…› Пусть православная церковь объяснит это явление[77 - Чаадаев П. Я. Сочинения. С. 40–41. Такое понимание было важной причиной для пушкинского интереса к этому времени; не зря патриарх изображен в «Борисе Годунове», по позднейшему признанию автора, «дураком».].
Совсем как у Токвиля, но несколько раньше, значение религии совпадает с тем, что предыдущее поколение приписывало ее врагу, Просвещению. Религия нужна и важна не сама по себе, судить ее надо по результатам. Она исторична и функциональна: не самоцель, а инструмент. Чаадаев «с завистью» отмечает «плоды христианства» у других христианских народов и с горечью не видит в собственном. Он готов признать «начало деятельное, начало социальное» за католичеством и, с оговорками, за протестантством, но не за православием, «целиком замкнутым в своих бесплодных обрядностях». Западные церкви одарили свои народы «кое-какими земными благами, прямыми или косвенными», а восточная церковь этого сделать не сумела. Эта мысль содержалась уже в первом, скандально известном «Философическом письме»: «Ничего не понимает в христианстве тот, кто не замечает его чисто исторической стороны»[78 - Чаадаев П. Я. Сочинения. С. 272, 381, 420, 27.]. В земном мире христианство подлежит земному суду.
Пушкин соглашался. «Религия чужда нашим мыслям и нашим привычкам», – отвечал он Чаадаеву. Подобно своему корреспонденту, он думал о человеческих, а не о собственно религиозных последствиях этого отчуждения. «Отцы-пустынники и жены непорочны» придумали много хороших молитв. Любимая молитва автора призывает не мистическую благодать, но социальную добродетель, которая описана в узнаваемо либеральном ключе: автор хочет избавиться от «унылой праздности» и, замечательным образом, от «любоначалия», любви к власти; а приобщиться он хочет «духу смирения, терпения, любви и целомудрия». Вера важна как средство. «Церковь, а при ней школа, полезнее колонны с орлом», – писал Пушкин по поводу открытия Александровской колонны[79 - Пушкин А. С. Дневники. Записки. С. 43.]. В чем бы ни состояла историческая польза русской церкви, в просвещении народа или в утверждении раннего национализма, роль эта земная, и ее исполнение зависит от очень понятных факторов:
Екатерина явно гнала духовенство ‹…› она нанесла сильный удар просвещению народному. ‹…› Многие деревни нуждаются в священниках. Бедность и невежество этих людей, необходимых в Государстве, их унижает. ‹…› Жаль! Ибо Греческое Вероисповедание, отдельное от всех прочих, дает нам особенный национальный характер[80 - Там же. С. 66.].
Политическая философия позднего Пушкина, плод многих увлечений и разочарований, состояла в утверждении государства как одинокого субъекта Просвещения. Российское правительство, управляемое царями, есть единственная живая сила в своей стране. Петр был воплощенная революция, Александр был якобинец, и даже правительство Николая – единственный европеец в России. Чаадаев поколебал эту конструкцию с одной, но очень важной стороны. Не сомневаясь в тяговой силе государства, он подверг разрушительной критике один из его институтов – духовенство. Указывая на пустое место, которое существовало в России, и мечтая заполнить его католическими миссионерами, Чаадаев рассказал о самостоятельном значении гражданского общества. Не соглашаться с этой критикой было нельзя. Соглашаясь в том, что религия чужда народу, Пушкин игнорировал проблему гражданского общества и возвращался к более старому спору о вертикальном, сверху идущем Просвещении. Раз религия чужда, пусть правительство остается единственной цивилизующей силой. Место религии должно быть занято чем-то иным, более подвластным, не менее величественным. Эта сущность, новая душа разрастающегося государственного тела, не находила себе имени в словаре Пушкина. Но уже предыдущее поколение называло эту субстанцию идеологией[81 - Термин был придуман в 1796 году Дестютом де Траси, чье влияние признавали и Джефферсон, и декабристы.]. В точном смысле слова, идеология соответствует осознанной пушкинской потребности освятить результаты революции.
Мнение народное
Вместо рецензии на «Демократию в Америке» Пушкин написал отзыв на другую книгу из американской жизни: «Рассказ о пленении и приключениях Джона Теннера в течение тридцати лет его жизни среди индейцев в Северной Америке». В этой рецензии русский поэт, никогда не бывавший за границей, путешествует за океан. Он подробно излагает, временами сплошь переводит записки белого американца, который добровольно оставил свой мир, чтобы пожить среди беглых черных рабов. Перед нами американский вариант «Дубровского».
Чувства, вызванные чтением Токвиля, оказались смещенными в рассказ о совсем другом тексте[82 - О том, что книга Токвиля была причиной пушкинского интереса к Теннеру, см.: Boden D. Das Amerikabild im russischen Schrifftum. Р. 120–124; Алексеев М. П. К статье Пушкина «Джон Теннер» // Пушкин и мировая литература. Л.: Наука, 1987. С. 542–548.]. Хоть Токвиль и Теннер однажды встречались друг с другом, единственное, что связывает их, это место действия, Америка[83 - Теннер показался Токвилю «скорее диким, чем культурным человеком», но Токвиль купил его книгу и написал об этом, что Пушкин не преминул отметить.]. Но их Америки очень разные. В отличие от страны Токвиля, увиденной глазами политиков, юристов, журналистов, страна Теннера увидена глазами обездоленных туземцев, беглых рабов, бездомных белых. Нет сомнений, что такая Америка тоже существовала и существует; но только благодаря полемике с Токвилем Пушкин сосредоточился на ней одной. Россия «Капитанской дочки» лучше сбалансирована: там есть и Пугачев, и Гринев, и Екатерина, а в Америке «Джона Теннера» одни социальные низы. В рецензии на Теннера Пушкин называет «Демократию в Америке» «славной книгой» и пересказывает так:
С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую – подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству ‹…›; такова картина Американских штатов, недавно выставленная перед нами[84 - Пушкин А. С. Джон Теннер // Пушкин А. С. Собрание сочинений: В 10 т. Л.: Наука, 1977–1979. Т. 7. 1978. С. 298.].
Но книга Токвиля, совсем напротив, полна воодушевления по поводу первооткрытой политической системы. Столь искаженное чтение Токвиля – возможно, самая крупная из критических ошибок Пушкина. Опираясь на негативные интонации многих рассуждений Токвиля, Пушкин представляет его страстным обвинителем буржуазии, новым Мирабо в Новом Свете. От этой роли Токвиль, будущий министр иностранных дел буржуазной монархии, был очень далек. Несмотря на всю свою аристократическую амбивалентность, книга Токвиля прославляет демократию в Америке, указывая на нее как на путь для Франции и мира.
Пушкинская ошибка не была результатом невнимания к прочитанному. В том же письме, в котором Пушкин сообщал Чаадаеву, как он разгорячен и напуган Токвилем, он спрашивал адресата, читал ли он тот номер «Современника» с «Джоном Теннером», где тоже упоминается Токвиль. Между двумя пушкинскими упоминаниями «Демократии в Америке» прошло немало времени – столько проходит между написанием текста и выходом его в свет. Все это время Токвиль был на уме у Пушкина, и этому соответствуют те сильные чувства, в которых признавался поэт. С течением времени и в ходе работы над «Капитанской дочкой» (письмо Чаадаеву написано в день ее окончания[85 - См.: Эйдельман Н. Пушкин и Чаадаев (последнее письмо). С. 12.]) пушкинское понимание менялось и углублялось. Пушкина горячила глобально-политическая роль, которую Токвиль приписал России. Его не устраивала капитуляция дворянина перед буржуазией. Его пугало схематическое противопоставление Америки, страны свободы, и России, страны деспотизма. Но самое важное в другом. Пушкин увидел разницу между Просвещением и демократией – и не захотел принять глубинного сдвига, о котором оповестил Токвиль.
Философия Просвещения надеялась изменить поведение народов на основе разума и власти. Эти идеи легко было совместить с лояльностью Российской империи, которая продолжала видеть свою задачу в просвещении, умиротворении, колонизации доставшейся ей части мира. Но практика просветителей слишком часто оказывалась отлична от их теорий. Начиная с французской и кончая русской, европейские революции осуществляли проект Просвещения в формах, которые отличались от инквизиции разве что своими глобальными масштабами. В отличие от Просвещения с его неограниченными надеждами, демократия основана на смирении перед непостижимостью жизни и непредсказуемостью истории; перед природой человека и перед высшими силами, как их ни понимать. В американской демократии, какой ее увидел Токвиль, реализовались ценности, религиозно освященные Реформацией: доверие к индивиду и к случаю, равенство возможностей, всеобщее участие.
Русские просветители начиная с Екатерины и кончая, может быть, Троцким разделяли вражду к ценностям и институтам демократии. Вместо них подставлялась идея единого, анонимного народа, в просвещении которого состояла задача власти. Народ и власть связаны особого рода единством, которому не нужны механизмы репрезентации. Движение тут одностороннее: от просвещающей власти к просвещаемому народу. Противоположное направление, от народа к власти, не предусмотрено. Как писал Пушкин,
народ не должен привыкать к царскому лицу как к обыкновенному явлению. Расправа полицейская должна одна вмешиваться в волнения площади. ‹…› Царю не должно сближаться лично с народом. Чернь перестает скоро бояться таинственной власти. ‹…› Таковые разговоры неприличны, а прения площадные превращаются подчас в рев и вой голодного зверя[86 - Пушкин А. Дневники. Записки. С. 25–26.].
То же в «Борисе Годунове»: «Не должен царский голос На воздухе теряться по-пустому». Поколения пушкинистов считали, что герой «Годунова» – народ; но стоит перечитать текст, чтобы убедиться в том, что общественное мнение, как оно изображено в пьесе, не стоит ни гроша. Народ поддерживает всех властителей, какие бы безобразия они ни творили[87 - Об интеллектуальной истории «народа» в «Борисе Годунове» см.: Серман И. З. Пушкин и новая школа французских историков // Русская литература. 1993. № 2. С. 132–137; Ронен И. Смысловой строй трагедии Пушкина «Борис Годунов». М.: ИЦ Гарант, 1997. С. 99–105.]. Власть, какой она показана в «Годунове», не зависит от общественного мнения, но формирует его в своих интересах. Хомяков в драме «Дмитрий Самозванец» противопоставил два типа власти:
Царь Димитрий!
Не в польской ты стране, где пан-король
Начальник панов, равный им. Россия
Возводит взор к увенчанной главе
Как к дивному творца изображенью,
К избранному любимцу горних сил.
Вокруг него и свет, и страх глубокий,
И таинства невидимый покров[88 - Хомяков А. С. Стихотворения и драмы. Л.: Сов. писатель, 1969. С. 290.].
Хомяков считает представление о лидере как живой иконе собственно русским; на деле оно продолжает средневековую теологию государства, общую для римско-католического и православно-византийского миров. Противопоставляя русского царя польской демократии, Хомяков забывал о самом Годунове, избранном боярами на царство по примеру шляхтичей. Пушкин и Хомяков еще чувствовали мистику царской власти, Карамзин опирался на идею более современную. Историк верил, что в истории действуют некие законы справедливости, что она по существу своему рациональна, а механизмами всего этого являются народное мнение и личная совесть. Так Годунов – «татарин происхождением, Кромвель умом»[89 - Карамзин Н. О древней и новой России. С. 478.] – навлек Смутное время потому, что был цареубийцей, за что наказан народом и замучен виной. За столь выразительной конструкцией стоял опыт общения историка с другим царем-преступником, Александром I[90 - См.: Emerson C. Boris Godunov: Transpositions of a Russian Theme. Bloomington: Indiana University Press, 1986. Р. 59.]. Блестящие формулы, какими Карамзин в своей «Истории» описывал Годунова, – первое русское определение деспотии и, одновременно, первый портрет параноика у власти:
венценосец знал свою тайну и не имел утешения верить любви народной. ‹…› Но убегая людей ‹…› он хотел невидимо присутствовать в их жилищах или в мыслях. ‹…› Внутреннее беспокойство души, неизбежное для преступника, обнаружилось в царе несчастными действиями подозрения, которое, тревожа его, скоро встревожило и Россию (кн. 4, гл. 1).
В отличие от страстного карамзинского злодея, пушкинский Годунов изображен политическим циником, равнодушным к общественному мнению и рациональному выбору: «Лишь строгостью мы можем неусыпной Сдержать народ ‹…› Твори добро – не скажет он спасибо. Грабь и казни – тебе не будет хуже». По ходу пушкинской драмы читатель, а значит сам народ, убеждается в правоте этих страшных слов. Такой урок истории понравился бы Местру, но не Токвилю.
Добровольный остракизм
«Демократия в Америке» утверждала достоинство политики как особого, ничем другим не заменимого рода человеческой деятельности. То было открытием людей, видевших гильотину. Лишь демократический процесс способен осушить море крови и грязи, которое называют революцией. Предки Токвиля, французские аристократы, бывали свободны – их свобода была подорвана абсолютизмом и уничтожена революцией. Но что такое свобода? Французские рассуждения на эту классическую тему издавна принимали во внимание русский опыт. Монтескье писал:
Одни считают свободой возможность смещать того, кто имеет тираническую власть над ними; другие ‹…› считают свободой возможность носить оружие и применять насилие; хорошо, если свободой считают привилегию ‹…› быть управляемым своим соотечественником. Одна нация в течение долгого времени полагала, что свобода заключается в праве носить длинную бороду[91 - Montesquieu Ch. The Spirit of Laws. New York: Hafner, 1949. XI. Р. 149.].
Проблема Токвиля не в свободе как таковой, а в соединении старой идеи свободы с новой идеей равенства. Аристократия знала свободу для немногих; возможна ли свобода для всех? Открытием Токвиля было равное участие как условие общей свободы. Политическое участие самоценно. Оно не зависит от конфессий, сословий или идей. Политическое вообще не зависит от других проявлений человеческого. Люди решают, как им жить, на основе тех ценностей и представлений, какие у них есть. Для того чтобы решать, нужны механизмы. Они и называются государством. Его дело осуществлять решения людей, а не влиять на них, не воспитывать и не перевоспитывать. Всеобщее политическое участие – единственный способ совместить свободу и равенство; единственное средство, которым располагают люди от вечно угрожающего им деспотизма. Не называя по своему обычаю имен и стран, Токвиль писал:
Жители некоторых стран испытывают нечто вроде отвращения к политическим правам, предоставляемым им законом. Для них заниматься общими делами равносильно потере времени, они предпочитают отсиживаться за рвами и изгородями, замкнувшись в своем узком эгоизме. Что же касается американцев, то, если бы они были вынуждены заниматься лишь своими собственными делами, их жизнь потеряла бы смысл, казалась бы им пустой и они чувствовали бы себя очень несчастными (192)[92 - «Демократия в Америке» наверняка открывалась Пушкиным на этой самой странице. На ней Токвиль объясняет, что такое американские Общества трезвости. Пушкин с иронией упоминает эти Общества в «Джоне Теннере».].
На эти строки Токвиля, а также на всю «Демократию в Америке» Пушкин отозвался в стихотворении 1836 года, одном из самых известных и самых загадочных. Стихотворение названо «Из Пиндемонти», другое его название в черновиках «Из Альфреда Мюссе», но действительный источник его неизвестен. Как предположил Ефим Эткинд, Пушкин полемизировал именно с Токвилем[93 - Эткинд Е. Союз ума и фурий (пушкинские мятежники) [1987] // Эткинд Е. Божественный глагол. Пушкин, перечитанный в России и Франции. М.: Языки русской культуры, 1999. С. 373.].
Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги ‹…›
Иная, лучшая потребна мне свобода…
Пушкин переворачивает ценностную иерархию, выстроенную Токвилем. «Дивясь божественной природы красотам», гражданин вновь становится подданным, путешественник – паломником, поэт – пророком. Политике Пушкин противопоставляет эстетику, демократии – анархию. Если нам все равно, от кого зависеть, а служить следует только самим себе, то у нас не стоит спрашивать, как мы живем, от чего страдаем, кого любим. Вся эта словесная машина демократии отрицается в темном, но чрезвычайно выразительном отрывке, который обычно публикуется в задах пушкинских собраний под заголовком «И ты тут был?». Это рассказ пролетария под странным именем Гаспар Дик, которым стала интересоваться власть. Когда Гаспар случайно встретил своего графа со свитой, тот спросил его имя. Наш герой с поклоном ответил и попятился к дверям, но граф вновь с ним заговорил и опять безо всякого ругательства. «Сколько ты вырабатываешь в день?» – спросил граф. Зачем этот вопрос, не думает ли граф о новом налоге? Гаспар отвечал, осторожно преуменьшая. «Женат ли ты?» – спросил граф. Гаспар вновь испугался, зачем ему это, но отвечал: «Женат». – «И дети есть?» – спросил граф[94 - Пушкин А. С. «И ты тут был?..» // Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Т. 5. 1978. С. 423.]. Смелый Гаспар решил говорить всю правду, ничего не утаивая; но граф уже отвернулся и велел седлать лошадей. Мы видим тотальное отчуждение, которое существовало между народом и властью в течение многих веков европейской истории. Оно впервые было преодолено американским сочетанием свободы и просвещения, всеобщего голосования и независимой прессы. Когда миллионы таких Гаспаров начинают голосовать, их графы, как бы они ни назывались, больше не могут себе позволить отворачиваться. Гаспары говорят все громче, боятся все меньше, и вот уже слышны только их голоса.
Со стороны избирателей алчность и зависть; со стороны управляющих робость и подобострастие; талант ‹…› принужденный к добровольному остракизму, –
таким тройным оксюмороном («принужденный к добровольному», «добровольный остракизм») подытоживал Пушкин свое понимание американской демократии в «Джоне Теннере»[95 - Пушкин А. С. Джон Теннер. С. 298.]. Но талант принуждали к остракизму и романтические российские автократы, Пушкин знал это лучше всех. Этой диалектикой поздний Пушкин соглашался с собственными несчастьями, задним числом делал их добровольными. Его разговоры с царями полны знакомыми чувствами беспомощного подданного, страхом и косноязычием Гаспара Дика, к которым только в фантазиях присоединялась месть Евгения из «Медного всадника». Эстетизируя мертвящую власть государства, он мог противопоставить ей только уход, литературную фантазию, добровольное изгнание во внутренний мир. От римских стоиков до немецких романтиков и потом до советских писателей этот ход воспроизводился множество раз. Уходу от деспотизма и, значит, самому деспотизму обязаны своим существованием множество созданий искусств и вдохновенья.
Политическое насилие ведет к открытию неполитических измерений человека. Талант, подвергнутый остракизму, ищет и находит такие недра, которые не подлежат контролю, потому что кажутся политически нейтральными. В этом одно из объяснений особенного психологизма русской литературы. Деспотизм выдавливает из человеческой души эстетические и психологические фантазии, которые изумляют читателей, привычных к более непосредственному участию в делах своих обществ. Но неконтролируемые области сужаются, мельчают и грозят вовсе исчезнуть по мере развития деспотизма. Потенциально все человеческое – публичное и частное в равной мере, вплоть до самого тела – является политически значимым и подлежит государственному управлению. Режим разрабатывает его вглубь и вширь, а личность ищет все новые возможности ухода.
Малая свобода
Пушкин и его герои, например Дубровский, жили в условиях бесконечного вмешательства в их частную жизнь. Государство считало себя вправе читать семейную переписку, вмешиваться в судебные споры и подвергать цензуре поэтические сочинения. Ответы подданных тоже однотипны: таковы отказ от участия в общественных делах и мечта о покое в частной жизни. По этому поводу британский философ и славист Исайя Берлин сформулировал понятие негативной свободы. Это область, в пределах которой человек может действовать без помехи со стороны других людей. Это свобода в минимальном ее понимании – охрана человека от вмешательства извне. По Берлину, негативная свобода возможна при разных политических режимах, при монархии так же, как при демократии, и разные режимы в равной мере склонны к ее нарушению.
Другое понимание свободы есть желание человека управлять собою и участвовать в управлении своей жизнью: стремление быть субъектом, а не объектом, заботиться о себе и себя осуществлять. По Берлину, это позитивная свобода. Для ее реализации человеку надо войти в связь с одними и соперничать с другими; отсюда рождается демократия. Тезис Берлина состоит в том, что две концепции свободы неравноправны. Негативная свобода первична, она может существовать без позитивной: правители собирают налоги и воюют друг с другом, но оставляют частную сферу неприкосновенной. Гораздо хуже, когда негативная свобода всех ущемляется во имя позитивной свободы немногих: людей используют для чуждых им целей, благих или нет. Дефицит негативной свободы ведет к недооценке позитивной свободы. Человек удаляется в свою крепость, формулирует Берлин, и зона обороны все сужается. Он уходит в себя, потому что только там он в безопасности. Если у человека болит нога, можно лечить рану, но можно и ампутировать ногу. Таков путь аскетов, стоиков и внутренних эмигрантов.
Тиран угрожает мне уничтожением моего имущества, заключением, ссылкой или казнью тех, кого я люблю. Но если я более не дорожу своим имуществом, если мне безразлично, в тюрьме я или нет, если я убил в себе естественные потребности, то он не может подчинить меня своей воле[96 - Berlin I. Two Concepts of Liberty // Berlin I. The Proper Study of Mankind. London: Pimlico, 1988. Р. 207.].
Это в точности то же чувство, что «на свете счастья нет, но есть покой и воля». Когда тираны славят позитивную свободу, люди уходят в скиты и архивы. Человеческое достоинство основано на балансе между двумя видами свободы, но негативная свобода имеет приоритет.
Я бы переименовал слишком формальные концепции Берлина в понятия малой и большой свободы. Охрана частной жизни есть минимальная гарантия существования; большая свобода связана с общественной солидарностью и коллективным изменением жизни, с добровольными ассоциациями и публичной сферой. Смещая равновесие между двумя концепциями свободы в пользу негативного ее понимания, Берлин оказывается правее Токвиля и левее Пушкина. В отличие от последнего, Берлин не считает пустыми словами все, что он называет позитивной свободой и за чем кроются политические права. Однако Берлин утверждает, что эти права – например, свобода оспаривать налоги или мешать правителям воевать – являются производными от более важного права – защиты от вмешательства в частную жизнь.
В либеральном государстве, как его определяет Берлин, человек свободен участвовать в делах общества, но общество не свободно участвовать в делах личности. Человек свободен, но не обязан выходить из своего личного мира. Концепция Берлина освещает старые, всегда проблематичные отношения между Просвещением и демократией.
Французская революция ‹…› подобно всем великим революциям, взорвалась желанием позитивной свободы. Руссо торжествующе заявлял, что законы свободы могут оказаться более жестокими, чем ярмо тирании. ‹…› Он имел в виду что все члены общества ‹…› смогут вмешиваться в любой аспект жизни гражданина.
Другая традиция порождена Реформацией и утверждает самодостаточность индивида как высшую ценность:
Для Констана, Милля, Токвиля и всей либеральной традиции, к которой они принадлежали, общество не свободно, если не ‹…› существует область, в границах которой люди неприкосновенны[97 - Ibid. Р. 236.].
Идеи позитивной свободы, часто связанные с Просвещением, ведут к деспотизму, если ради общего блага нарушаются гарантии негативной свободы.