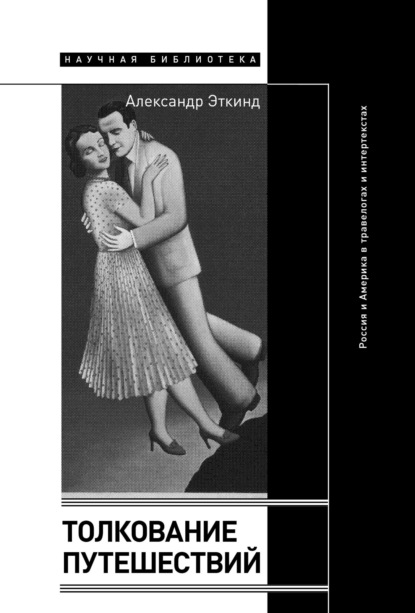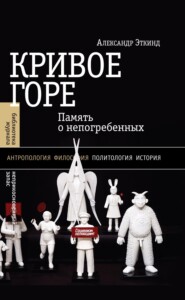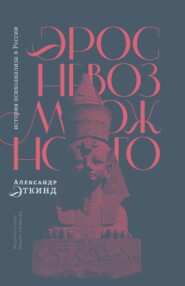По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Толкование путешествий. Россия и Америка в травелогах и интертекстах
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Так же оправдывался Надеждин, пострадавший за публикацию «Философического письма». Под его обиженным пером конструкция Чаадаева приобрела комический характер:
Мы дети, и это детство есть наше счастье. С нашей простой, девственной, младенческой природой, не испорченной никакими предубеждениями ‹…› можно сделать все без труда, без насилия: из нас, как из чистого, мягкого воска, можно вылепить все формы истинного совершенства. О! какой невообразимый верх дает нам пред европейцами это святое, блаженное детство![53 - Надеждин Н. И. Два ответа Чаадаеву // Петр Чаадаев: Pro et Contra. С. 96.]
Хорошо известный нашим авторам Кант в эссе «Что такое просвещение?» дал классическое определение. «Просвещение есть выход человечества из незрелости, в которой оно само себя держит». Лень и трусость суть главные причины, по которым многие остаются в состоянии незрелости, и этим пользуются их «сторожа», иначе говоря – власти, которым выгодно такое состояние. Другой ответ на восторг Надеждина по поводу собственной незрелости давала только что прочитанная им «Демократия в Америке»: деспотическая власть, писал Токвиль, похожа на родительскую, но имеет противоположный интерес. Родители готовят детей к взрослой жизни, деспоты стремятся сохранить их в младенческом состоянии.
Русский колумбарий
Почитатели Петра и Екатерины хотели видеть в николаевском царствовании продолжение дела Просвещения, и американский пример имел для них первостепенное значение. Освоение Америки казалось предвестием близкой судьбы остального мира, включая Россию. Быстрое подчинение и насильственное просвещение заморских территорий воспринимались как доказательство универсальности западной цивилизации. Как писал Чаадаев в одном из «Философических писем»,
с тех пор как земной шар был как бы вновь охвачен Европой и новый мир, всплывший из океана, был ею заново пересоздан, а остальные человеческие племена ей ‹…› подчинились, ‹…› нравственное начало вселенной получало новый закон, новое устройство. Разумеется, материал старого мира был использован при построении нового[54 - Чаадаев П. Я. Сочинения. С. 102.].
Чаадаев создал риторическую фигуру необычайной интенсивности. Он рассматривает освоение внутренних областей России как процесс, аналогичный освоению заморских колоний. То была аналогия между петровским открытием России и Колумбовым открытием Америки; между внутренней реформой и внешней колонизацией[55 - В более явном виде идея, согласно которой Россия колонизовала саму себя, была потом сформулирована Сергеем Соловьевым, но он относил этот процесс к допетровским временам. См.: Соловьев С. М. История России с древнейших времен: В 15 т. М.: Изд-во соц. – экон. лит-ры, 1959–1966. Т. 1. С. 62; Т. 2. С. 648; Т. 5. С. 513; анализ см.: Bassin M. Turner, Solov’ev, and the «Frontier Hypothesis»: The Nationalist Signification of Open Spaces // Journal of Modern History. № 65. September 1993. Р. 473–511. О внутренней колонизации Франции в XIX веке см.: Weber E. Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France. Stanford: Stanford University Press, 1976. Chap. 6.]. В этом свете вся российская история начинала выглядеть радикально иначе, совсем не по-карамзински. Народ отличался от собственной элиты многими важными качествами – экономически, культурно, лингвистически и как угодно еще. Объем этих различий был таков, что русские современники Токвиля с ужасом осознавали, что воспринимают собственный народ как иную человеческую расу. Чувствительный интеллектуал 1830?х годов даже загородную поездку переживал как путешествие на другой континент. Как писал Грибоедов,
каким черным волшебством сделались мы чужие между своими! Финны и тунгусы скорее приемлются в наше собратство ‹…›, а народ единокровный, наш народ разрознен с нами, и навеки! Если бы каким-нибудь случаем сюда занесен был иностранец ‹…› он конечно бы заключил из резкой противоположности нравов, что у нас господа и крестьяне происходят от двух различных племен, которые не успели еще перемешаться обычаями и нравами[56 - Грибоедов А. Загородная поездка // Грибоедов А. Сочинения. М.: ГИХЛ, 1953. С. 389.].
Колонизация всегда имеет две стороны: активную и пассивную; внешнюю и внутреннюю; сторону, которая завоевывает, эксплуатирует и извлекает выгоды, и сторону, которая страдает, терпит и восстает. Если в риторике Чаадаева русские ставятся на место американских туземцев, кто занимает место пришельцев? Позднее Бакунин, пытаясь направить русскую мысль на антиколониальные рельсы, будет изобличать Романовых как «немцев» и, значит, внешних колонизаторов России. Чаадаеву интересно другое: не нация, а культура. Американский опыт говорил, что процессы колонизации – деколонизации не обязательно связаны с этнической дистанцией. Обе стороны американской Войны за независимость были в большинстве своем англосаксами, так же как обе стороны российской войны за свободу в большинстве своем были русскими.
Американская модель вела к тому, что первооткрывателю российской современности отводилась роль самого Колумба. Тема была начата Радищевым в оде «Вольность». Для Чаадаева такой фигурой был Петр, для Пушкина – Карамзин.
Древняя история, казалось, найдена Карамзиным, как Америка – Коломбом. Несколько времени ни о чем ином не говорили[57 - Пушкин А. С. Дневники. Записки. СПб.: Наука, 1995. С. 55.].
Булгарин, пытаясь переписать российскую историю, тревожился: «Не подумайте, чтоб я почитал себя Христофором Коломбом»[58 - Булгарин Ф. Толки о сочинении: Россия в историческом, статистическом, географическом, и литературном отношениях и проч. // Сын отечества. 1836. Т. CLXXVI. № 9. С. 106.]. В 1836 году он с осуждением писал о гоголевском «Ревизоре»: «Ну точь-в-точь на Сандвичевых островах у капитана Кука!»[59 - Цит. по: Гоголь Н. Полное собрание сочинений: В 6 т. М.: АН СССР, 1949. Т. 5. С. 495.]. Зловещая, если вспомнить судьбу капитана, ассоциация. Но действительно, идея «Ревизора» была столь же колониальной, как идея «Философических писем»: русская глубинка полна диких людей с варварскими обычаями; делом ее просвещения займутся визитеры, подобные Куку, – путешественники, ревизоры, миссионеры. Три четверти века спустя этот аргумент повторял Розанов в отношении «Мелкого беса» Сологуба: герой и его городок описаны так, будто дело идет на Сандвичевых островах[60 - Перекличку между формулами Булгарина и Розанова проследил Омри Ронен. См.: Ronen О. Toponyms of Fedor Sologub’s «Tvorimaia Legenda» // Die Welt der Slaven. 1968. № 13/3. Р. 307–315.]. Одним и тем же сатирическим тоном подобные формулы произносились и теми, кому надоели нравы русской провинции, и теми, кто был бы счастлив их заморозить; да и отличить первых от вторых не всегда получалось. Одоевский писал все в том же 1836 году:
Россия должна такое же действие произвесть на ученый мир, как некогда открытие новой части света[61 - Русский архив. 1878. № 5. С. 57.].
Старый Свет оказывался окружен двумя Новыми, которые отражались друг в друге тем охотнее, что знали друг о друге меньше, чем о Европе. Приговаривая Запад к упадку, Киреевский полагал, совсем как Токвиль, что лидерство в мировых делах возьмут на себя две неевропейские страны:
Изо всего просвещенного человечества два народа не участвуют во всеобщем усыплении: два народа, молодые, свежие, цветут надеждою: это Соединенные Американские Штаты и наше отечество.
Но потом он превратил этот троп в инвективу, адресованную новому поколению:
Все сделались Колумбами, все пустились открывать новые Америки внутри своего ума, отыскивать другое полушарие земли по безграничному морю невозможных надежд[62 - Киреевский И. В. Критика и эстетика. М.: Искусство, 1998. С. 81, 272.].
Новое полушарие, другая Америка открыты в России. Россия и есть новая Америка, еще один Новый Свет, страна неизвестного народа, который вновь и вновь открывается новыми Колумбами.
Просвещенье иль тиран
Токвиль не первый ужаснулся современному государству; но только он понял, что может противопоставить ему общество. Противовес был найден в организованных группах людей – цеховых общинах, церковных приходах, судах присяжных, научных обществах, разных землячествах, клубах и ассоциациях и, наконец, политических партиях. Образцом для их взаимодействия с государством были многовековые отношения между европейскими монархиями и католической церковью. Реформация рассредоточила те же отношения на множество сект и общин. Потом секуляризация перенесла центр тяжести на светские организации – прессу, профсоюзы, партии.
«Демократия в Америке» красноречиво и разнообразно описывает светские учреждения – суды, школы, местные власти. Но когда дело доходит до объяснения того, почему все это, вместе или порознь, работает в Америке и не работает в других местах, например во Франции, объясняющим фактором вновь оказывается религия. В итоге демократия в Америке мало чем отличается от религии в Америке.
Если закон позволяет американскому народу делать все, что ему заблагорассудится, то религия ставит заслон многим его замыслам и дерзаниям. Поэтому религию ‹…› следует считать первым политическим институтом этой страны (223).
Риторика травелога, согласно которой в Америке все не так, как дома в Европе, создает логический круг. Почему в Европе те же вероисповедания вели к инквизиции, религиозным войнам, погромам? Потому что там нет демократии. Почему в Америке есть демократия? Потому что там те же религии сообща работают для дела свободы. Связав американские нравы с религиозным наследием, Токвиль еще и объяснил их особенным соотношением пола и религии:
Нет никаких сомнений, что царящая в Соединенных Штатах строгость нравов объясняется прежде всего религиозными верованиями. Нередко религия в этой стране не может уберечь мужчину от бесчисленного множества соблазнов. ‹…› Но она безраздельно властвует над душой женщины, а ведь именно женщина создает нравы (223).
Американский опыт научил Токвиля различать свободу частной жизни и свободу публичной сферы. Когда общество свободно вмешивается в личные дела, это ограничивает свободу индивида. Для Токвиля приоритетной является свобода ассоциаций, и он тратит немало сильных слов на обличение нового индивидуализма. Если не вмешиваться в частную жизнь и во внутренний мир своих граждан, как можно добиться социальных изменений и морального усовершенствования?
Философы Просвещения не знали этой проблемы. Их идеалы формировались при абсолютной монархии и реализовались в атеистической революции. Насильственное Просвещение вело к террору, диктатуре, империи и в конечном счете отождествлялось с ними: «Где благо, там уже на страже Иль просвещенье, иль тиран». Другой французский путешественник, Жозеф де Местр, поехал не в Америку, а в Россию, и стал теоретиком тирании, а не демократии. Согласно теории де Местра, чтобы процесс Просвещения не дошел до своего разрушительного этапа, его надо остановить заранее, и сделать это может только сильное и жестокое государство. В борьбе против Просвещения не надо считаться с жертвами, чтобы избежать куда больших жертв самого Просвещения. Примерно это и стало делать правительство Николая I. Двадцать лет спустя за де Местром последовал еще один французский путешественник, Астольф де Кюстин, чтобы ужаснуться результатам той стратегии, которую рекомендовал России его предшественник. Токвиль не мог читать Кюстина, но его представления о России не сильно отличались от того, что тот увидел своими глазами[63 - Сравнение Кюстина и Токвиля см.: Grudzinska Gross I. The Scar of Revolution. Custine, Tocqueville, and the Romantic Imagination. Berkeley: University of California Press, 1991.]. Токвиль нашел в Америке другие возможности. Просвещение продуктивно, если продолжается; и его не надо завершать, тем более силой. Сосуществование религиозных и светских сообществ может быть длящимся, творческим процессом.
Петровская революция
Прочтя первый том «Демократии в Америке» и перечитав первое «Философическое письмо», Пушкин писал Чаадаеву:
До Екатерины II у нас продолжали революцию Петра, вместо того чтобы ее упрочить. ‹…› Александр сам был революционером якобинцем. ‹…› Нынешний император первый воздвиг плотину (очень слабую еще) против наводнения демократией, худшей, чем в Америке[64 - Пушкин А. Письма последних лет. 1834–1837. Л.: Наука, 1969, 1999. Письмо не было отправлено, но, возможно, было прочитано Чаадаевым после гибели поэта. Об истории этого текста см.: Эйдельман Н. Пушкин и Чаадаев (последнее письмо) // Россия/Russia. 1988. № 6. С. 3–23.].
Спровоцированный Пушкин формулирует историософию, которая питала его сочинения, но в столь прямой форме нигде не была высказана. В других черновых записях есть сходные формулы: «революционная голова, подобная Мирабо и Петру»; «Все Романовы революционеры и уравнители»; Петр был «воплощенной революцией»; «правительство все-таки единственный Европеец в России»[65 - Пушкин А. Дневники. Записки. С. 98, 45.]. Итак, согласно Пушкину, в России уже была революция, подобная французской, ее произвел Петр I. Формула звучит радикально, но выводы из нее следуют консервативные. Поскольку революция уже была, новой революции не будет. Поскольку революция Петра произошла раньше революций Вашингтона и Марата, постольку Россия – страна передовая, а не отсталая, как полагал Токвиль. Теперь постреволюционное положение России может быть приравнено к положению Америки и Франции.
Читали ли Вы Токвиля? я еще весь разгорячен его книгой и совсем напуган ею, –
продолжал Пушкин свое последнее обращение к Чаадаеву. Оспаривая Токвиля, это рассуждение построено по его модели: Америка «пользуется результатом той же демократической революции, которая происходит у нас, не изведав самого революционного переворота» (34). В Америке не было традиций, и потому революция совпала с национальным строительством. Чаадаев считал, что Токвиль «украл» у него эту мысль, теперь Пушкин возвращал ее в Россию. Результатом петровской революции было уничтожение дворянства, которое превратилось в буржуазию:
Вот уже 140 лет, как Табель о рангах сметает дворянство. ‹…› Что же касается до tiers еtat, что же [еще] значит наше старинное дворянство с имениями, уничтоженными бесконечными раздроблениями, с просвещением, с ненавистью против аристокрации[66 - Пушкин А. Дневники. Записки. С. 45.].
Пушкин творчески использует социологический метод Токвиля. Французская революция уничтожила аристократию и дала власть третьему сословию; петровская революция сделала то же самое – уничтожила боярство и дала власть дворянству. У нее были перегибы, например «Табель о рангах». Итак, роль буржуазии в России выполняет обедневшее, но просвещенное дворянство. Николаевская «плотина» строится против петровских крайностей, «против наводнения демократией», и восстанавливает права того самого дворянства, к которому принадлежит автор этих рассуждений. Подлинным базисом романовской «революции» было – или должно быть – пушкинское «дворянство», а не токвилевская «демократия». Таким рассуждением Пушкин разом достигал нескольких важных для себя целей: противопоставлял себя Токвилю, находил новую формулу русской истории, сохранял союз с троном.
Реальность редко совпадает с такими схемами. В 1827 году знаменитый Фенимор Купер встретился в Париже с русским князем, скорее всего Петром Козловским. Оба они согласились, что демократическая Америка оставила больше привилегий аристократу, чем феодальная Россия. Купер вспоминал с иронией:
Я познакомился с русским блестящего происхождения, который возносит красноречивые хвалы Америке и ее свободе. «Вы счастливые люди, вы свободны. ‹…› В России все зависит от армейского чина или от желания Императора. Я князь; мой отец был князем; мой дед тоже; но толка с этого нет. Мое рождение не дает мне привилегий, тогда как в Англии, в которой я бывал, все иначе, – да наверное и в Америке?» Я отвечал ему, что действительно, «в Америке все иначе». Он смотрел на меня с завистью[67 - Cooper J. F. Gleanings in Europe: France. Albany: State University of New York Press, 1983. Р. 235.].
Жалобы обедневших аристократов были близки и Токвилю, безземельному наследнику графского рода. Как писал Токвиль,
закон о наследовании, устанавливающий равный раздел имущества, уничтожает связь между землевладением и гордостью своим именем. ‹…› Земля перестает олицетворять собой семью, род. ‹…› Аристократия должна уменьшиться в размерах и в конце концов совершенно исчезнуть (58).
Так происходило и во Франции, и в России. Только на Британских островах продолжал действовать майорат, при котором земля передавалась старшему из сыновей, а младшим приходилось служить короне. В России майорат, по словам Пушкина, был уничтожен «плутовством Анны Ивановны»[68 - Пушкин имел в виду отмену Анной Иоанновной (1730) петровского указа о единонаследии (1713). Сочувствие Пушкина к майорату видно в его интересе к попытке восстановить майорат, которую без особого успеха предпринял Аракчеев. См.: Боровой С. Я. Об экономических воззрениях Пушкина в начале 1830?х годов // Пушкин и его время: Исследования и материалы. Л.: Изд-во Эрмитажа, 1962. Вып. 1. С. 246–264.]. В Америке после освобождения от английской короны был принят закон о наследовании французского образца. Но, согласно Токвилю, пустующие земли остановили дробление собственности. Освоенные владения передавались старшему сыну, а младшие отправлялись искать счастья на дикий Запад. В России пустующих земель было не меньше, но они принадлежали государству и занять их было невозможно. В результате отцовские имения дробились, земли на Севере, Востоке и Юге оставались неосвоенными, а обездоленные дворянские поколения шли в разбухавшие армию и бюрократию. Как рассказано в пушкинской поэме «Езерский», дед был «великим мужем», его сыну досталась восьмая часть его наследства, а внук вел гоголевскую жизнь коллежского регистратора. «Закон отменил право первородства, но его восстановило Провидение», – писал Токвиль об Америке (217). В России было наоборот: о наличии земли позаботилось Провидение, но законы сделали ее недоступной.
Понимание того, что власть третьего сословия неизбежно следует за дроблением имений и обеднением дворянства, было заимствовано обоими, Пушкиным и Токвилем, у Франсуа Гизо. Консервативный историк и политик считал, что стоит буржуазии добиться благосостояния, как наступит всеобщее успокоение. Демократия нужна только голодным; сытые счастливы независимо от политического режима, считал Гизо. Его политический оппонент Токвиль возражал на основании американского опыта и аристократической любви к свободе. По Токвилю, политический процесс становится лишь интенсивнее, когда люди добиваются равенства. Стремление людей к свободе не зависит от их стремления к обогащению. В обществе равных лишь демократия способна обеспечить достойную жизнь. Без нее развитие третьего сословия ведет к деспотизму, прерываемому революциями[69 - Сравнение идей Токвиля и Гизо см.: Boesche R. The Strange Liberalism of Alexis de Tocqueville. Ithaca: Cornell University Press, 1987.].
Дела и вера
Чтение Токвиля заставляло Пушкина думать о том, как выполняет свои исторические функции русская церковь; такую же реакцию это чтение вызвало, как мы видели, у Тургенева. «Одно дело произвести революцию, другое дело освятить ее результаты», – писал Пушкин. Чтобы произвести революцию, нужны Мирабо или Петр; чтобы освятить ее, нужны совсем другие головы. В необычайно резкой форме Пушкин высказывает здесь враждебность к православному духовенству:
Что касается духовенства, оно вне общества ‹…› его нигде не видно, ни в наших салонах, ни в литературе. ‹…› Оно не хочет быть выше народа и не хочет быть народом. Точно у скопцов – у него одна только страсть к власти. Потому его боятся[70 - Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. М.: Изд-во АН СССР, 1949. Т. 16. С. 260. Письмо написано по-французски. Я изменил перевод в сравнении с академическим изданием; в частности, eunuques я перевожу не как «евнухи», а как «скопцы».].
Православное духовенство стоит вне общества, оно сделалось частью государства. Развитие национального государства и влияние Просвещения вместе привели к укрощению церкви и, соответственно, к подрыву зарождавшегося гражданского общества. Теперь России нужны были иные модели публичной жизни, не имеющие отношения к церкви. Одной из них стала литература. В пушкинской практике именно институт литературы предлагался в качестве альтернативы токвилевским «ассоциациям». В «Современнике», за которым последуют поколения толстых журналов с опережающими свой век названиями («Русское богатство», например, или «Новый мир»), беллетристика свободно смешивалась с историей, чтобы вместе заниматься нравоучением, просвещением и освящением перемен. В обществах, прошедших Реформацию, эту роль играла религия.
Отцом-основателем новой русской литературы был историограф. Сам Пушкин уже не видел себя поэтом, а осознавал свою роль как историк, который влияет на политику настоящего, рассказывая поучительную правду о прошлом. Пушкинское чтение Токвиля по времени совпало с перечитыванием Чаадаева и с работой над «Современником». Случайно или нет, темы российской истории попали в контекст, заданный «Демократией в Америке». Сопоставление горячило и пугало. Пушкин был согласен с тем, что у церкви есть (или должна быть) земная роль, цивилизаторская функция и, значит, политическая ответственность. Но у русского духовенства, как у скопцов, одна только жажда власти. В результате важнейшие проблемы империи остаются нерешенными и нерешаемыми.
Черкесы нас ненавидят. ‹…› Что делать с таковым народом? ‹…› Влияние роскоши может благоприятствовать их укрощению: самовар был бы важным нововведением. Есть средство более сильное, более нравственное, более сообразное с просвещением нашего века: проповедание Евангелия. ‹…› Кавказ ожидает Христианских миссионеров[71 - Пушкин А. Дневники. Записки. С. 130.].
Успешные миссионеры были и среди православных[72 - Ярким примером является пушкинский современник Макарий Глухарев, ученик Филарета Московского, проповедовавший в Казани. См.: Флоровский Г. Пути русского богословия. Париж: [б. и.], 1937. С. 187–190.], но идея земного призвания, важная для католических орденов и первостепенная для протестантских сект, не была близка православной церкви. Напротив, именно в непрактичности своей религии русские богословы видели доказательство ее истинности. Младший современник Пушкина Хомяков усматривал «глубокую фальшь» в самой идее исторического значения церкви. Благополучие католических или протестантских стран ничего не доказывает в делах веры, объяснял Хомяков; история знала времена, когда преуспевали и вовсе нехристианские страны. Вмешиваясь в земные дела, западные конфессии участвуют в «толках о булочках и устрицах», вступают в союзы с политическими доктринами и становятся не более чем «религиозными партиями»[73 - Хомяков А. С. Сочинения: В 2 т. М.: Медиум, 1994. Т. 2. С. 66–67.].
С ходом столетия отношение к этой проблеме спокойнее не становилось. Победоносцев разоблачал идею социальной ответственности как принцип, свойственный западным верованиям и чуждый православию:
Что главное – дела или вера? ‹…› Покажи мне веру твою от дел твоих – страшный вопрос. Положим, что такой вопрос задает протестант православному человеку. Что ответит ему православный? – придется опустить голову. Чувствуется, что показать нечего, что все не прибрано, все не начато, все покрыто обломками[74 - Победоносцев К. П. Московский сборник // Победоносцев К. П. Pro et Contra. СПб.: Изд-во РХГА, 1996. С. 205–212.].
Но это не порок, а особого рода благодать. Протестанты в своей гордыне думают, что их успехи доказывают истинность их веры. В том-то и состоит их главная беда. Наоборот, «русский человек ‹…› существо и цель веры полагает не в практической жизни, а в душевном спасении», – писал обер-прокурор Святейшего синода.