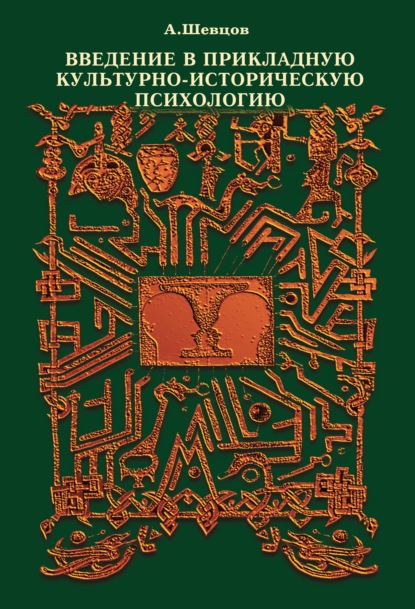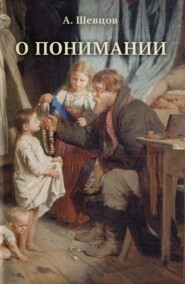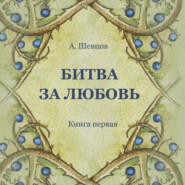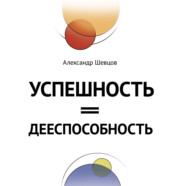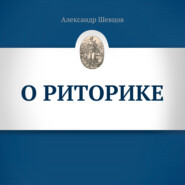По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Введение в прикладную культурно-историческую психологию
Год написания книги
2000
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И Николай Петрович вынул из заднего кармана сюртука пресловутую брошюру Бюхнера, девятого издания» (Там же, с. 189–191).
А затем Павел Петрович, как и Пушкин, проигрывает дуэль, и это приговор ему и целой эпохе, которая будет убита новыми людьми, если не захочет тихо сойти со сцены сама… Дворянская интеллигенция с ее искусственным аристократизмом, всего за полтора века до этого зарезавшая боярскую Россию, теперь бессильно умирала…на хирургическом столе под ножом безродного уездного лекаря…Остатки ее дорежут внуки лекарей самыми обычными сапожными ножами и бандитскими финками в Гражданскую…
Чести принципиально не было места в Новой России! Готовилось пришествие грядущего Хама.
Глава 11
Принципы врачей и натуралистов
В 1898 году, открывая первое заседание Философского общества при Петербургском университете, ученик и преемник одного из основоположников современной русской философии Владиславлева Александр Иванович Введенский прочитал речь, посвященную истории философии в России. В ней он немало уделил внимания и тому времени, о котором идет речь в романе Тургенева. Этому времени он дал яркое имя времени господства врачей и натуралистов в философии.
Введенским было сделано несколько потрясающих наблюдений над тем, как же было подготовлено уничтожение великой Белой Империи. Отрывки эти довольно большие, но читать их интересно и нужно, поэтому я приведу их целиком, чтобы русские люди не забывали своей истории. Первое свидетельство относится как раз ко времени отцов. Это – первая ласточка, сделавшая возможным, чтобы естественники признавались русским обществом за философов.
«А известно, что если философия выступает открыто, то судить о ней охотно берется всякий неуч. В России даже чем невежественнее человек, тем с большей уверенностью судит он и о философии вообще, и о любом философском учении. На это сильно жаловался еще Герцен, указавший на то, что у нас для суждения о сапогах и сапожном товаре считают нужным приобрести специальные знания, но, чтобы судить о философии, считают излишним учиться философии.
Иное дело, когда философия проводится в виде естествознания. Надо обладать довольно большими и в то же время специально философскими знаниями, чтобы разобраться, где в таком случае кончается философия и выступает действительно естествознание. И вот, в то время, когда преследовали профессоров философии за пропаганду новой философии, ее свободно распространяли натуралисты.
Ведь при разгроме Петербургского университета хотели было напасть и на Велланского. От его учеников отобрали тетради, чтобы уличить его в распространении богопротивного учения, но не сумели в них разобраться.
И когда Галичу не позволяли читать даже и частные лекции, Велланский замолчал только на время из осторожности, а потом снова принялся за свою пропаганду.
Сходное же явление повторилось и в Москве. В 1826 году Давыдову были запрещены лекции философии. Но в том же самом году, наряду с Павловым, начал читать общий курс естественной истории подпавший под влияние Павлова, а через него и Шеллинга, профессор ботаники Максимович, известный собиратель малороссийских песен, лектор, по достоинствам своим ни в чем не уступавший ни Давыдову, ни Павлову.
А по его собственным словам, “в естествознании его неотлучной спутницей и верной помощницей была философия”.И Максимович беспрепятственно вел свою пропаганду и в Москве и в печати, и с кафедры до 1834 года…» (Введенский, с. 47–48).
Введенский переживет революцию и до 1925 года будет вести диспуты против материалистов…Слова о пропаганде звучат в его устах для меня также неслучайно, я узнаю их как слова о революционной пропаганде. Не знаю, в этом ли значении использовал их Введенский, но накануне 1825 года, когда по всей России действовали тайные общества заговорщиков, подобное слово было уместно. И тем более уместно оно в пятидесятых-шестидесятых годах, когда создаются уже не просто тайные общества, а общества террористические.
Князь Кропоткин, который был старше Введенского почти на полтора десятка лет, рассказывая об одной из самых жутких женщин России Софье Перовской, использует в «Записках революционера» слово «пропаганда» вполне в революционном смысле. Перовская, будучи аристократкой по происхождению, избрала защищать свой народ, входила в несколько тайных организаций, начиная с «Земли и воли», и как член исполкома «Народной воли» готовила и осуществляла покушение на Александра Второго. Но Кропоткин очень любил ее:
«Перовская была “народницей” до глубины души и в то же время революционеркой и бойцом чистейшего закала. Ей не было надобности украшать рабочих и крестьян вымышленными добродетелями, чтобы полюбить их и работать для них. Она брала их такими, как они есть, и раз, помню, сказала мне: “Мы затеяли большое дело. Быть может, двум поколениям придется лечь на нем, но сделать его надо”.
Ни одна из женщин нашего кружка не отступила бы перед смертью на эшафоте. Каждая из них взглянула бы смерти прямо в глаза. Но в то же время в этой стадии пропаганды никто об этом еще не думал» (Кропоткин, с.408).
Бомбометательницу Перовскую повесили в 1881 году…
За участие в создании общества «Земля и воля» в 1862 году был публично лишен чести и отправлен в ссылку Чернышевский – преемник Белинского на посту главного редактора «Современника» и основной вдохновитель революционеров всех мастей, начиная от бомбометателей и кончая истребителями души…
Ильич же, который и возглавит следующее поколение революционеров, скажет, что народники были врагами социал-демократов, как отцы были врагами детей…
Введенский пишет и о том времени, когда в пустоту, образовавшуюся после запрета читать философию в университетах, быстро заполнили бойкие шарлатаны, быстро оценившие пропагандистские возможности этой государственной ошибки.
«Возобновление по уставу 1863 года преподавания философии в наших университетах, прежде чем оказать заметное влияние на русское общество, еще должно было сперва организоваться и упрочиться. Поэтому естественно, что, начиная с 1850 года, довольно долго, даже и после 1863 года, пока новые профессора еще приобретали только влияние, философские воззрения возникали и распространялись в нашем обществе как бы сами собой, почти независимо от воздействия со стороны университетский представителей философии, вроде того, как это было и в Екатерининские времена.
Естественно также, что прежде всего у нас распространились такие воззрения, которые не только нам были наиболее по плечу, наиболее доступны в зависимости от упадка философского мышления, но еще в то же время распространялись и там, откуда мы до той поры заимствовали свою философию и всю свою науку. В Германии же в 50-х годах сильно распространился материализм, сначала среди врачей и натуралистов, а вслед за тем и в значительной части немецкого общества.
Немецкие историки философии прекрасно объясняют этот факт тем, что, неудовлетворенные шеллинговской и гегелевской философией и в то же время едва успевая следить за успехами быстро развивающегося естествознания, врачи и натуралисты захотели совершенно обособить его от философии, бросили всякие занятия ею и сосредоточили все свое внимание исключительно на внешнем материальном мире, так что философское мышление пришло среди них в полный упадок» (Введенский, с. 56–57).
Все сказанное Введенским совершенно совпадает с тем образом «врача и натуралиста», который создал в лице Базарова Тургенев. Он не только отказывается от поэзии и философии, но и прямо говорит, что учителя у них, нигилистов, в Германии. Не во всем, конечно, а в вопросах медицины, естествознания и, я бы добавил, физиологии. То, что он советует насаждать всюду Бюхнера и вульгарный материализм, – лучший способ показать глубину философского мышления новых вождей России.
Бюхнеровская «Сила и материя» – это пример научного хамства. Хамства Науки как сообщества. Именно в середине девятнадцатого века, когда естественная наука почувствовала силу, чтобы захватить власть в мире, она утратила осторожность и начала насаждать свое мировоззрение самыми грязными способами. Так рождалась «научно-популярная литература». В сущности – ложь, выдаваемая за действительность лишь с той целью, чтобы люди шли за учеными.
Очень скоро «пресловутость» этой книги станет очевидна не только действительным ученым, но и восторженной толпе, и тогда сама Наука осудит ее как пример «вульгарного материализма» и даст Бюхнеру пинка за излишнюю ретивость. Но он еще долго будет разъезжать по городам и весям Европы и пропагандировать свою пошлятину, собирая толпы Эллочек Людоедок, которым очень хотелось, чтобы их обманули и подсунули шиншиллу под видом облезлого кролика…
Бюхнер будет использован и вышвырнут за ненадобностью. На его смену встанут более утонченные бойцы, которые сами будут кричать, что Бюхнер – издевка над наукой, и надо обрабатывать сознание людей тоньше…Одним из них будет Сеченов, другими – свора Чернышевского. Сначала они будут насаждать в России вульгарный материализм, распространяя работы Бюхнера, Молешотта и других, потом будут писать свои вульгарно-материалистические сочинения и травить и запугивать тех, кто посмеет высказаться против них.
Затем придут «настоящие ученые», которые будут кричать, что вульгарный материализм – это пошло… но дело уже сделано, люди запуганы. Бюхнера можно выкинуть, зато в мировоззрении останется скрытая и неявно связанная с его агитацией мысль о том, что новое мировоззрение – это сила, и сила, которая пришла ломать и крушить:
«– Нигилизм всему горю помочь должен, и вы, вы наши избавители и герои. Но за что же вы других-то, хоть бы тех же обличителей, честите? Не так же ли вы болтаете, как и все?
– Чем другим, а этим грехом не грешны, – произнес сквозь зубы Базаров.
– Так что ж? Вы действуете, что ли? Собираетесь действовать?
Базаров ничего не отвечал. Павел Петрович так и дрогнул, но тотчас же овладел собою.
– Гм!..Действовать, ломать… – продолжал он. – Но как же это ломать, не зная даже почему?
– Мы ломаем, потому что мы сила, – заметил Аркадий.
Павел Петрович посмотрел на своего племянника и усмехнулся.
– Да, сила – так и не дает отчета, – проговорил Аркадий и выпрямился» (Тургенев, с.195).
Скоро прогремят взрывы, и куски окровавленного вещества, утерявшего способность думать, полетят по мостовым России. Террористов будут бояться и слушаться, как духовных вождей революции, не потому, что они – ум, а потому, что они сила. И если вспомнить «Что делать?» Чернышевского, вспомнить его героя, который вместе с бурлаками таскает корабль, чтобы поражать воображение людей своей силой, станет очевидно, что Тургенев не преувеличил: врачи и террористы – сила, потому что они чужой крови не боятся.
И это не мои домыслы. Тот же Кропоткин пишет про нигилизм и образ Базарова, как про свой идеал. Идеал, прикрывающийся множеством красивых слов, как и презираемые им болтливые позеры-отцы, но при этом проговаривающийся, что главным для него была битва «за индивидуальность», то есть, говоря по-русски, за возможность показать себя:
«И в России это движение – борьба за индивидуальность – приняло гораздо более мощный характер и стало более беспощадно в своем отрицании, чем где бы то ни было. Тургенев в своей замечательной повести “Отцы и дети” назвал его нигилизмом.
Прежде всего нигилизм объявил войну так называемой условной лжи культурной жизни. Его отличительной чертой была абсолютная искренность. И во имя ее нигилизм отказался сам – и требовал, чтобы сделали другие, – от суеверий, предрассудков, привычек и обычаев, существования которых разум не мог оправдать. Нигилизм признавал только один авторитет – разум, он анализировал все общественные учреждения и обычаи и восстал против всякого рода софизма, как бы последний ни был замаскирован.
Он порвал, конечно, с суеверием отцов. По философским своим понятиям нигилист был позитивист, атеист, эволюционист в духе Спенсера или материалист» (Кропоткин, с.404).
И еще утилитарист в духе Бентама и Милля. Иначе говоря, охотник за пользой, которую и положит сам Кропоткин в основание своей Этики. Но это не важно, хотя и правило нами целый век. Сейчас мне важнее тот разум, о котором говорит нигилист: он признает только авторитет разума. И с его помощью изгоняет суеверия и привычки, а именно становится атеистом. Но чей разум он признает?
Ведь кажется, что свой. Да вот где его взять? И как им познать истину? Как им заявить назло старикам: а я не верю в вашего бога и что угодно еще, – я понимаю. Но как им достичь не веры, а знания? Как им действительно уйти от суеверий? Нигилисты и революционеры этими вопросами не смущались. Они читали Бюхнера, и им было достаточно для того, чтобы избрать свой лагерь, одного ощущения силы, которая чувствовалась за материализмом. Они читали Чернышевского и избирали:
«В нигилистах Чернышевского, выведенных в несравненно менее художественном романе “Что делать?”, мы уже видели лучшие портреты самих себя» (Там же, с.407).
Что же было главным доказательством истинности новой веры для разума детей? Соответствие действительности? Нет, все та же сила…
«То же было и со словом “нигилисты”, которое так интриговало когда-то журналистов и столько раз давало повод к удачной и неудачной игре слов, пока наконец не поняли, что речь идет не о какой-то странной, чуть ли не религиозной секте, а о настоящей революционной силе» (Там же).
Настоящая сила! Вот что пьянило кровь молодежи, туманило их мозги и заставляло совершать наглые поступки, вроде публикации «Рефлексов головного мозга» в пушкинском «Современнике».
Эту работу Сеченова современные наши натуралисты считают даже началом психологии и до сих пор подают как классику научной психологии. Но работа публиковалась в журнале литературном и, значит, имела задачей – поразить и запугать толпу «дилетантов».
Поэтому начинается она как зажигательная речь с баррикады перед рьяной толпой, обгаживающая и высмеивающая всех возможных врагов. А затем переходит к обработке сознания восхищенных простодушных дурачков, сбежавшихся всей деревней послушать ученого нигилиста: