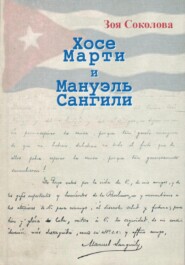По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
ДОРОГА ЖИЗНИ ГВАРДИИ РЯДОВОГО
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Борис Озерный
НЕВОЛЬНЫЕ РАЗДУМЬЯ ПЕРЕД НАПИСАНИЕМ КНИГИ.
Может настать такое время (есть признаки), когда кому-то станет выгодно пересмотреть все наше героическое прошлое. Великая Отечественная война, которую мы помним вживую по ее разрушениям и по еще живущим среди нас ее инвалидам и ветеранам, может быть превращена лишь в исторический эпизод Второй мировой, а подвиг советского солдата извращен и опошлен. Сегодня антироссийскими, антинародными в сути своей, силами введен в действие политический заказ: одурманив разум наркотой антисоветизма и антикоммунизма, столкнуть молодежь в болото обывательщины, влить отраву ненависти к самым светлым, самым драматичным страницам прошлого, из трагедии народа на пути к своей подлинной свободы скомпоновать этакий низкопробный фарс.
Прискорбно объяснять, почему общество с такой легкостью и с чисто плебейской уничижительностью смиряется с тем, как далеко не без умысла, «возвращаются» в страну всякие пропахшие нафталином в «антантовских закромах» монархически-белогвардейские штандарты и прочие сомнительного духа «раритеты». Все это вытащено сегодня из кованых ненавистью к русскому народу («черни») сундуков потомками (а нередко еще и ими самими!) тех, кто в самую тяжкую годину для судеб брошенной (во спасение лишь собственной шкуры!) ими страны пребывал в надежде на разгром Советского Союза гитлеровским фашизмом. Даже стыдно за генеральские погоны бывших царедворцев, склонивших седовласые головы перед ефрейтором, вознамерившимся уничтожить Россию с первых минут хмельного бдения от «пивного путча», поклявшимся превратить в пыль не только русских, но и вообще все славянство. Ослепляющая ненависть белогвардейщины к СССР, к тебе, стоявший тогда у власти и беззаветно сражавшийся народ страны Советов, питала их жажду увидеть Россию растерзанной.
Где же теперь твоя воля, твоя гордость, народ? Иль тебя растворили, или ты растерялся? Или ты породил поколенье, предавшее дух твой, детей, не способных даже подумать о том, во что с такой легкостью превращают тебя, советский народ. Или сам ты обрек себя прозябать у ничтожных «парадных подъездов» и позволил тем самым навеки духовно почить, осеняя крестом свою участь, доверившись всякого рода «возвращениям» всякого рода поддельных «святынь», принимая на веру узы крови сомнительных «мощей» чужеродных «княгинь», неизвестно откуда берущихся ныне? Иль тебя охватил паралич «умиленья», с которым нисходят к тебе те самые мытари, которых сам Спаситель прогнал за двери священных приходов.
Небесхитростна цель новоявленных русских. Пекутся ж они лишь о том, чтоб сегодня заставить народ позабыть о величье былом, отказавшись от вольнолюбивого духа и той доблести, что залогом спасения была всякий раз, когда над страной нависала угроза. Их цель: разменять неподкупность народной души, ее святость на проделки пронырливых мытарей, потянувшихся толпами в храмы на элей сладкозвучный священников; воспеть ту лжесвятость, что уходит корнями к развратнику царских покоев Распутину, и сего «мужика»-проходимца представить «народным управителем» страны. Слава богу, у Архиерейского собора (2004) хватило то ли совести, то ли мудрости отмести эту мерзость и от себя и от «воцарения» в святость.
И доколе все это? Видать надолго, если даже глава государства беззастенчиво (не хочу говорить о безграмотности политической и всяческой) бросает тень на святое, на истинно святое: порыв отдать жизнь во имя победы над супостатом, терзавшим страну.
И ходить далеко не надо! Вот, пожалуйста, телеинтервью главы государства. В. В. Путин интерпретирует пример героического поведения молодежи в навязанной стране ее внутренними недругами чеченской войне. Будь она в общем-то проклята. Она – фрагмент загнанной внутрь гражданской войны в стране после распада СССР. «Конечно, и в годы Великой Отечественной войны тоже (?) было немало случаев такого (?) героического самопожертвования, но тогда эти воины шли на свои подвиги под дулами винтовок и автоматов заградотрядов (???). Сегодня же они идут на них движимые лишь чувством патриотизма и любви к своей Родине». Даже стыдно об этом писать: глава государства, не рядовой чиновник от военного ведомства, а главнокомандующий! В чем корень нелепой параллели? Уму-разуму не поддается этот политический «экскурсо-опус». Ведь это не что иное, как пасквиль на красноармейцев, их поступки в Великой Отечественной войне. Речь-то шла при сравнении о подвиге рядового Александра Матросова.
Обратимся к подлинным страницам истории войны.
23 февраля 1943 года в бою за деревню Чернушки, что на Псковщине, Матросов закрыл своим телом амбразуру немецкого дота. До него такие подвиги совершили 98 человек. Но эти подвиги канули в общий котел безвестного и бескорыстного героизма. Назначенный командующим Калининского фронта А. И. Еременко (апрель 1943 года) узнал, что Матросов, боец 254-го стрелкового полка, не отмечен признательностью народа. И чтобы сохранить этот порыв души человека в памяти народной на века, он обратился с рапортом о награждении бойца. Матросову было присвоено звание Героя Советского Союза, хотя и не он был пионером такого рода подвига. Военные историки установили, что впервые такой подвиг был совершен младшим политруком роты 126-го танкового полка 28-й танковой дивизии Северо-Западного фронта Александром Константиновичем Панкратовым. Произошло это 24 августа 1941 года под Новгородом, в критический момент штурма Кирилловского монастыря. Увлекая за собой бойцов, 24-х летний политрук бросился на вражеский пулемет и грудью закрыл огонь. 16 марта 1942 г. Панкратов был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Приказ же Сталина № 227 о заградотрядах, широко известный как «Ни шагу назад», появился 26 июля 1942 года и действовал до 29 октября 1944 года, когда было отдано распоряжение о их срочном расформировании до 13 ноября. Подобный приказ действовал в вермахте на протяжении всей войны и неоднократно ужесточался по мере продвижения Красной Армии к границам третьего рейха.
Всего героев-матросовцев – 402 человека. По годам: 1941 – 20, 1942 – 61, 1943 – 107, 1944 – 140, 1945 – 74. (Правда, 20 – 23 августа 2004 г.). Не вяжется ни с действительностью, ни с историческими фактами и тем более с духом народным утверждение, что на подвиг и бессмертие «матросовцы» шли под дулами «заградотрядов». Не мешало бы помнить, что обречены на бесславие и позор те, кто хоть намеком позволяет себе оскорбить сегодня память о подвигах героев Великой Отечественной войны. История хранит и помнит все, даже то, что глубоко запрятано в ее анналах.
К сожалению, сегодня все чаще появляются в обществе чуждые народному духу силы, сеющие семена лжи, искажения образа советского воина-освободителя. Их цель – дегероизация священной для нашего народа Великой Отечественной войны. Значит, это кому-то выгодно! Но кому – вот вопрос, на который должны ответить потомки.
Президент Академии военных наук РФ, генерал армии Махмут Ахметович Гареев дает исчерпывающее объяснение истокам массового героизма советского народа. «Можно без преувеличения сказать, что наше поколение, с точки зрения своего воспитания, было уникальным. Если в царские времена деды и отцы наши были неграмотны и жили в крайней бедности, то мы, молодые люди, в годы Советской власти получили широчайший доступ к образованию, невиданную возможность проявить себя в государственной и общественной жизни. Армия тоже стала великой школой воспитания прежде всего патриотического». Понятна тревога генерала армии.
«Принижением значения подвигов фронтовиков, тружеников тыла и вообще нашей Победы хотят лишить главного компонента боеспособность армии – ее духовной силы, что было отличительной чертой Красной, Советской Армии, да и вообще русской армии на протяжении веков. Писатели, историки, журналисты неолиберального толка прямо говорят о том, что Победа в Великой Отечественной войне – это последний плацдарм, который удерживает старшее поколение – «консерваторов», и призывают ликвидировать его. В международных кругах тоже давно развернута кампания по пересмотру итогов Второй мировой войны с целью расчистить путь для установления «нового мирового порядка», а России внушить, что поскольку у нее не было ничего путного в прошлом, то она не может рассчитывать и на достойное будущее. Поэтому у наших соотечественников нет другого выхода, как противостоять всем этим фальсификациям, клевете, не допустить поругания и принижения значения Победы, одержанной во второй мировой войне при решающей роли нашей страны и ее Вооруженных сил».
Однако трудно сказать, чья роль более неприглядна в той «исследовательской» казуистике, которую создали пренебрегшие своей научной ответственностью некоторые российские ученые, клюнувши на соросовские гранты. Поиск истины по нерешенным научным проблемам заволокла аллилуйя в адрес полковника, руководителя Центра зарубежных исследований армии США, главного редактора журнала «Journal of Slovic Military Studies» Дэвида М. Глентца. Автор такой книги, как «Внезапность в операциях Советской Армии» (1989), вдохновленный, возможно, избранием его действительным членом Российской Академии естественных наук (РАЕН) расширил научное поле своих исследований. В 1994 году появился его труд «История советских воздушно-десантных войск», он принял участие в научной конференции, посвященной 50-летию окончания Второй мировой войны, выступив на ней с докладом «Недостатки историографии: забытые битвы германо-советской войны (1941 – 1945 гг.)* [См. Вторая мировая война. Актуальные проблемы. К 50-летию Победы. М., Наука. С. 339 – 362.]
Обращает на себя внимание, что для американского историка и полковника армии США не существует такого научного понятия, как «Великая Отечественная война». Ему удобно или идеологически выгодно вводить в научный оборот понятие, принципиально чуждое научному аппарату советских исследователей – «советско-германская война». И пишет он о «недостатках» нашей отечественной историографии в освещении драмы и трагедии войны, которая унесла жизни 27 миллионов человек, стала всенародной войной для всех народов, населявших Советский Союз. Историографические недостатки вне сомнений имели и могли иметь место. Но никто из наших исследователей не позволял себе игнорировать такую методологически важную для отечественной исторической науки категорию, как «Великая Отечественная война», не позволял низводить эту войну до заурядного понятия: «германо-советская». В действительности она и не была таковой. Статья же Глентца изначально задумана была как своего рода программная, как оказалось, на ближайшие десять лет.
К 60-летию Победы сей автор в духе своих замыслов подготовил монографию с ни много ни мало претенциозным названием: «Величайшее поражение маршала Жукова». Сам Д. Глентц последователен и верен себе. Удивляет другое: почему достойная лучшего применения «научная» активность этого автора не получает должного отпора со стороны наших специалистов. В этой связи особо значимыми представляются мысли М. Гареева о методологической несостоятельности позиций американского военного историка. Так, по его убеждению общепризнанно значение Нормандской операции союзников 1944 года. Но если пользоваться методом Глентца и других горе-историков, то можно и эту операцию совсем по-другому изобразить. Судите сами. В начале данной десантной операции еще без воздействия противника 10 десантных судов, на борту каждого из которых находились около 300 человек и 26 артиллерийских орудий, пошли ко дну. На участке «Омаха» танки были спущены на воду в 6 километрах от берега и начали тонуть вместе с экипажами (из 29 танков только два добрались до берега). Здесь погибли 3 тысячи американцев. А 8-я воздушная армия 13 тысяч бомб сбросила по берегам Нормандии, где совсем не было противника. Или еще: 270 саперов (половина из которых была убита или ранена) смогли сделать только один проход в заграждениях. По тогдашней оценке генерала Брэдли: «сложилось впечатление, что наши войска попали в катастрофу, из которой нам не выбраться».
Описание подобных эпизодов войны, считает М. Гареев, можно продолжать. И прийти к выводу «о величайшем поражении генерала Эйзенхауэра». Но очевидно, что в любой операции, будь то Нормандская или Берлинская, есть главный итог, по которому и надо судить о ней. («Правда» 20—25 февраля 2004).
В связи с приближением 60-летия Великой Победы пишущая братия кинулась на освещение конъюнктурно «выгодной» темы, чтобы быть, так сказать, «услышанной». Но делает это с грязной душой и нечистой совестью. Все вторично. И источник не важен: чем грязнее, тем лучше. И жалкий, не нюхавший пороха мещанчик пытается сквозь призму собственной психологии торгаша или премудрого пескаря разглядеть – непосильная для него задача – характер народа, поднявшегося на отражение врага, отторжение захватчика. Психологии и умонастроению воспитанного в советских условиях молодого поколения он пытается навязать собственную гнусь, привнести навыки пресмыкающегося психологии и умонастроению воспитанного советской властью молодого поколения, принявшего на себя удар и на протяжении трех лет сражавшегося один на один с врагом фактически при попустительстве так называемых союзников, обещавших второй фронт в 1942 году, а открывших только в июне 1944 года. Через три года (!) после нападения Гитлера на СССР. Сражающийся советский народ за эти годы поднял себя на такую духовную высоту, на которую за всю историю человечества не способен был подняться никакой другой народ.
СОЛДАТСКИЕ ДОРОГИ ГЛАЗАМИ СОВИНФОРМБЮРО.
Светлой памятью о Васильке Соколове, первом послевоенном сыне Ивана Антоновича, которому суждено было прожить всего один год, диктуются эти строки. «Младенческая» (так говорила, я хорошо помню, мать) скосила годовалого с солнечным ликом ребенка дивной красоты, огромные глаза которого вобрали в себя, казалось, всю голубизну небес. Что говорила сельская «медичка» (врача возле него не было), неизвестно. Кажется, что это была вроде младенческая эпилепсия, которая не поддается лечению. А по мне: до него – еще в утробе матери – долетела пущенная в его отца фашистская пуля. На судьбе и здоровье сына солдата, вернувшегося с самой тяжелой войны длиною в 1410 дней, сказались фронтовые тяготы, ранения, контузии его отца. Фашизм продолжал убивать. Только теперь – уже ни в чем неповинного младенца, жизнь в которого вдохнул ратник, истосковавшийся за годы каждодневных битв и сражений по любви и страсти. По семье. По образу жизни, какой она была до войны. Война не в силах была вытравить его память о поре его молодой зрелости, жажду жить, творить, растить детей, которых должно было быть обязательно много. Ту жизнь, что была растоптана сапогом вероломно ворвавшегося супостата, теперь надо было восстанавливать заново, по крупицам, из обломков старой, помноженной на горький опыт огненных лет, на время ставших для человека его повседневностью.
Умер Василек на крещенье, в большой православный праздник, 19 января 1948 года. Это дитя, поразившее повитуху в момент своего рождения «ангельской красотой», с неземной силой всматривалось в отходивший от мрака мир удивленными глазами всего один год. Что успели эти глаза заметить, запомнить, сокрыть во глубине своей не по-детски успевшей отяготиться земной жизнью души? Что успела эта светловолосая головка младенца понять перед тем, как навсегда покинуть сей тленный мир, от самих корней взваливший на него бремя судьбы раненых и павших на бранном поле? Это навсегда останется тайной. Его тайной, которую он, еще безмолвный, унес с собой. Для вчерашнего солдата держать на своих руках бездыханное тельце годовалого сына было продолжением ужасов все той же войны. Я помню молчаливые слезы на глазах отца.
Сегодня Василек лежит в окружении тех, кто даровал ему жизнь: спустя тридцать один год к нему в фамильный склеп сельского погоста явился отец, через сорок восемь – мать. Все эти годы его родители жили в убеждении, что рождение сына после всех тягот и испытаний войной было их достойным отваги ответом надменному врагу, вздумавшему посягнуть на землю, принадлежащую их предкам.
Работа над этой книгой близилась к завершению, когда на глаза мне попалось интервью кинодраматурга Станислава Говорухина. Его убежденность в том, что мужчина воспринял Великую Отечественную войну как счастье – при всей парадоксальности этого созвучия – существенно повлияла на мое понимание личности отца, на осознание того личного, что жило в нем нераскрытым, быть может, даже для него самого. И прав, наверное, кинодраматург, когда он, сопоставив личностные начала мужчины и женщины, стремится выделить общую для них гражданственность. И подчеркивает то, что присуще только женщине. Сплавляя воедино будничность, серость повседневной жизни с высокой степенью гражданственности, он возвышает этот сплав чувств до высот, достойных пера непревзойденных авторов любовной лирики всех времен. И трижды прав, когда он сам говорит о женщине сухой прозой: «Муж у нее – достойный защитник Отчества не только потому, что у него такая профессия, а еще и потому, что у него тыл крепкий. Значит, она тоже участвует в таком деле, как защита Отечества. Женщины всю жизнь себя так проявляли. Вспомните: войну кто выиграл – Жуков что ли с маршалами? Генералиссимус? Войну выиграли солдат и его баба. Бабы трудились в тылу. И дети, и бабы, и бабушки. Поговорите сейчас с любым из воевавших мужчин – для него эти четыре года чуть ли не самые счастливые были, самые интересные. И спросите женщину, которая переживала войну в тылу: был ли у нее хоть один счастливый день? Ни одного. Они защищали Отчество».
В жизнь тыла война врывалась катастрофически непостижимой правдой сводок Совинформбюро. С этими сводками сверялся каждый день и каждое мгновенье самого драматичного в истории России четырехлетия. Весь ритм жизни советского общества был подчинен одной задаче: с честью преодолеть небывалую трагедию. Народ нацелил себя на священную войну. Далеко не каждому (поколению даже!) дано испытать великое чувство сопричастности ходу истории, почувствовать себя ввергнутым в водоворот событий, исход которого зависит от тебя. Даже сегодня, спустя шестьдесят лет, эти события – не есть просто материал для учебника истории. Живы сами участники войны, кровоточит израненная память потомков тех, кто с нее не вернулся. Ни один мальчик, ни одна девочка в школе не должны относиться к страницам Великой Отечественной как к школьному уроку, а всегда – только как к уроку беззаветного мужества, неколебимой преданности и верности своей Родине. В книгах же надо сохранить дыхание грозового времени, а не сводку событий. Это дыхание с удивительной силой духа передали советские писатели и журналисты, которых в несгибаемую когорту объединило Совинформбюро, превратило в публицистов высочайшего накала мысли и взлета чувств. Благодаря этой когорте мир стал свидетелем рождения в советском обществе доселе неведомой силы в сражении с вероломным захватчиком, в борьбе с наглой фашистской нечистью. Из недр народных эта когорта извлекла силу, показала ее несокрушимую мощь как неотъемлемой составной военного потенциала социалистического государства. У этой чудотворной силы есть имя собственное: раскрепощенный дух человека.
Уже на второй день войны главная газета страны, «Правда» обратилась к народу с простыми, понятными каждому словами: «За оружие, товарищи и друзья! Оружие везде: и на кораблях наших, и на самолетах, и на танках, оружие на заводах наших, на полях, шахтах. Каждое лишнее зерно урожая – лишняя пуля врагу. Каждый кусок угля – лишний снаряд. Каждый стакан горючего – драгоценность: именно его и может не хватить самолету, забравшемуся в далекий тыл врага. Каждая мысль, каждое слово наше – оружие: оно поможет сокрушить прыжок осатаневшего зверя. Оно поможет победе во имя будущего счастья народов».
Так случилось, что эпизод, связанный с этим номером «Правды», навсегда врезался в мою память. Полуторка отца остановилась не у самого нашего дома, как это бывало раньше, а чуть подальше. Из нее выпрыгивали вернувшиеся из военкомата мужчины и расходились по своим домам. Захлопнув дверцу кабины, отец пошел навстречу нам, детям, бежавшим к нему со всех ног. В его руках была схваченная бечевкой связка книг, букварь, арифметика, тетради, из авоськи торчал пенал, несколько коробок цветных карандашей. Я заметила, одну книжку отец держит отдельно и протянув ее мне попросил прочесть ее название. Читать я уже умела и к радости отца громко вслух прочла «Герои и мученики науки». Эта книга Берковой об ученых, можно сказать, стала родоначальницей моей домашней библиотеки. Зачитанная мною, моими друзьями, детьми, а теперь и моими внуками, обветшалая, истертая, местами даже порванная эта книга стала своего рода талисманом на моем пути в мир науки.
Деревня знала, зачем вызвали всех мужчин в военкомат. Слово «война» висело в воздухе с тех самых минут, как председатель сельского совета Иван Кувшинов принял накануне телефонограмму с сообщением о нападении Гитлера на нашу страну и предписание всем призывникам незамедлительно явиться наутро в военкомат. Для нашей тихой, объятой пасторальным спокойствием деревни, где не было даже радио, с красотой ее благоухающих пахучими цветами лугов, готовых к сенокосу, с трудовым людом, не без гордости любующимся полями, где зрел «небывалый», как – я помню – говорили все, урожай озимых и яровых, тогда не было слова страшнее, чем слово «война». Было это как раз 23 июня 1941 года. Мужчины нашей деревни – наши папы и дяди – Шмелев, Кочергин, Горячевы, Петряковы, Муравьев, два родных брата отца – Петр и Федор Антоновичи, их двоюродный брат Семен Соколов, уже вернувшиеся из военкомата, и Иван Христофоров, собравшись вместе, не присаживаясь, сосредоточенно и озабоченно дымя папиросами, обмениваясь скупыми словами, обсуждали страшную, нежданную новость. Мы, дети, не такие резвые, как всегда, крутились тут же. Я запомнила их потому, что это были наши ближайшие соседи, отцы моих друзей по играм. Особенно памятен мне момент, когда к нам подошел дядя Ваня Христофоров, напарник отца по шоферским делам, любимый наш сказочник по долгим зимним вечерам. Отозвав нас с Раей, его старшей дочерью, чуть в сторону, он сказал: «Вы с Раей 1 сентября пойдете в 1-й класс. Сидите всегда рядом, как мы, ваши отцы, за рулем». Попросил меня поделиться тетрадками, сказав, что он не успел их купить. «Читайте книги. Учитесь уму и добру». Это были его последние слова, для меня ставшие вообще последними живого дяди Вани. Вскоре пришло сообщение, что он пропал без вести. С войны он так и не вернулся.
Всем дали одни сутки на сборы, на клятвы семьям, на прощанье с детьми. Каждый дом погрузился в заботу: кто-то выпекал солдатский круглый каравай в самодельную котомку, кто-то подбирал шерстяные носки, а дядя Влас, муж старшей папиной сестры Аграфены, принес для отца напутственный «талисман» – полотняные портянки, которые хранились у него новенькими, как реликвия времен гражданской войны в память о 25-й, чапаевской, дивизии, красноармейцем которой он был. Наутро деревня «честь-честью», как и положено среди близко знающих друг друга людей, провожала своих защитников на войну. Это была людская масса, шагавшая по главной улице деревни по ей одной присущим законам. Не помню уже, кто играл на «тальянке», но до сих пор живет во мне красивый голос запевалы и певуньи нашей деревни, тети Нюры, племянницы отца. Помню и песню: «Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты», которую я воспринимала тогда как специально посвященную отцу. Это была процессия, сопровождалась она беспорядочной беготней босоногих малолетних детишек. По мере ее движения народу становилось все больше. И на «кузнечной площади», как бы замыкавшей наш «главный пришпект» вся эта людская масса затормозила свое движение, чтобы отдать дань уважения кузнице, первой достопримечательности колхоза. Здесь подковывались колхозные кони, приводились в порядок серпы, изготовлялся нехитрый, создаваемый по эскизам собственных народных умельцев инвентарь для хозяйственных нужд. Эта площадка была любимым местом мужчин. Нередки были стихийно возникавшие соревнования в мастерстве «на понимание кузнечного искусства». Здесь всегда горел огонь, а рядом была запруда, искусственный водоем, который не зная устали заполняла мелководная, но достаточно ретивая во время весеннего половодья речушка Шапкинка. Над ней красовался новый, добротной постройки деревянный мост, предмет особой гордости его главного проектировщика и прораба Александра Емельяновича Христофорова. Это был «Мост Мельяныч», ничуть не меньшая, чем кузница, гордость деревни.
Вся эта людская масса, управляемая только ей присущими законами бытия, прошагав по мосту, взобралась на пригорок, где в ожидании мобилизованных на фронт стоял колхозная полуторка, наименованная почему-то «Студебеккером» (не уверена, что это была действительно американская машина, так ее окрестил народ) и откуда брал начало «тракт». Так именовалась достаточно широкая, на редкость прямая и очень пыльная дорога, по сторонам которой колосились слева – рожь, справа – пшеница и гречиха, окруживши зеленый островок сельского погоста, где обрели для себя покой еще первые поселенцы нашей деревни. Тракт вел в райцентр Базарные Матаки. Заметив взбирающихся на возвышение людей, машина стала сигналить. За рулем сидел мой отец, рядом дядя Ваня Христофоров, а у капота машины стоял председатель сельского совета. В гул плачущих женщин и детей ворвался властный голос Ивана Кувшинова: «По коням!». Мужчины в мгновение ока взобралась в кузов полуторки. Почти все они были молодые, крепкие, загорелые и улыбающиеся (чего это они улыбаются, запомнила я свою мысль) в возрасте тридцати – тридцати пяти лет. У каждого из них было общее для всех воинское звание – рядовой. Солдат, одним словом. Мать передала отцу котомку, где поверх всего содержимого лежал круглый каравай пшеничного хлеба с отрезанной от него горбушкой. Эту горбушку тетушка Аграфена, старшая сестра отца, отрезала от каравая специально перед тем, как положить его в котомку и сказала мне: «Этот кусок надо сохранить, тогда отец вернется целый и невредимый». Затем она положила его в заранее заготовленный ею холщовый мешочек, стянула шнурками и дала мне со словами: «Ты старшая и, стало быть, самая умная дочка отца (мне было семь лет, сестренке Гале – пять, брату Юре – не было и трех). Ты должна сберечь этот хлеб и этим хлебом встретить отца, когда он вернется с войны. А он вернется. Оставленный в доме кусок от его солдатского каравая будет его ждать и беречь от пуль». После этого она попросила меня собственными руками спрятать мешочек за божницей, которая была у нас, сколько я себя помню, в углу избы над обеденным столом. Я восприняла все это как обряд, который непременно надо соблюсти, как особый ритуал, как заговор на возвращение отца. До сих пор я не знаю, и нет у меня объяснений, что за ритуал это был, но я внушила себе, что этот мешочек нельзя трогать, нельзя открывать и уж ни в коем случае нельзя хлеб ни откусывать, ни отрезать. Иначе с отцом может что-то случиться: ранят, убьют. С этими словами у семилетнего ребенка ассоциировалось, как я теперь понимаю, что-то страшное. И только я, хранящая этот мешочек с отрезанным ломтем, могу спасти отца, противостоять гитлеровцам, уберечь отца от всех несчастий, которые поджидают его на войне. К рассказу об этой горбушке мне еще придется вернуться.
«Даем газ!» – крикнул, высунувшись из кабины, отец. Машина рванулась, оставив за собой клубы дыма и пыли.
Возвращение по домам было унылым. Молчали даже совсем малые дети, притих и мой обычно крикливый двухлетний братишка Юра. В каждом доме об ушедших на войну теперь напоминали прикрепленные к стенам на самом почетном месте их фотографии, где они, совсем молодые, были запечатлены в лихих буденовках на голове как память о былой их службе в рядах Красной Армии по призыву. Отныне в каждой семье эта фотография становилась святыней, обретала особо высокий смысл и в глазах детей как свидетельство причастности семьи к живой истории отчизны, которая в свой трагический час нуждалась в том, чтобы самые сильные в стране сменили свои мирные занятия на ратный труд. Это понимал каждый, хотя и не совсем представлял себе, во что в действительности вылился он за годы войны. И это следует, наверное, знать и помнить об этом в заботах дня, разумных или праздных, в житейских буднях на горестной земле..
Тяжкий труд, к примеру, рядового пехотной роты, который земли под траншеи, стрелковые ячейки, ходы сообщения столько перекопал за войну, что уже одной ее хватило бы ему на грандиозный памятный курган Славы. А его ведь еще бомбами с пикировщиками забрасывали, снарядами и минами накрывали, из пулеметов косили, танками утюжили, морозами и ветрами на прочность испытывали, похоронками на родных и близких душу на части разрывали, но выстоял он, не запросил пощады – такого он и в мыслях не держал.
Думается, что существенными слагаемыми Победы были не только стойкость и храбрость солдат, не только их воинская выучка и смекалка, не только беззаветная любовь к Родине, но и тот идейно-нравственный склад личности, основанный на советском, социалистическом мировоззрении, который обеспечил их безусловное моральное превосходство над наглым, жестоким, до зубов вооруженным врагом. Вся мерзость этого врага начала публично раскрываться уже 20 октября 1945 года, когда главные немецкие военные преступники предстали перед судом народов в Нюрнберге. На протяжении десяти месяцев Международный военный трибунал расследовал совершенные гитлеровцами преступления против человечности и мира.
1 октября 1946 года был вынесен приговор двенадцати военным преступникам: Герману Вильгельму Герингу, Мартину Борману, Иоахиму фон Риббентропу, Вильгельму Кейтелю, Эрнесту Кальтенбруннеру, Альфреду Розенбергу, Гансу Франку, Вильгельму Фрику, Юлиусу Штрайхеру, Фрицу Заукелю, Артуру Зейсс-Инкварту, Альфреду Йодлю. Смертная казнь через повешение.
16 октября 1946 года приговор в отношении всех был приведен в исполнение. Кроме Геринга, который успел отравиться, и Бормана, в отношении которого еще не было доказательств, что его нет в живых.
Преступников в действительности было больше. За решетку попали Гесс, Шпеер, Функ, Нейрат, Дёниц, Редер, Ширах. Преступными были объявлены нацистская партия и орудия кровавого фашистского террора – гестапо, СС, СД. Предстали перед судом и понесли наказание высшие чины фашистского генералитета, монополисты Круп, Флик, Тиссен, директора «ИГ Фарбениндустри».
Главный обвинитель от США на Нюрнбергском процессе Роберт Джексон в своей заключительной речи произнес: «Главным злодеем, на которого возлагается …вся вина… является Гитлер, на [него] почти каждый из подсудимых поднимает указующий перст. Не оспариваю этого единодушного мнения… Но… Гитлер не унес с собой всю вину в могилу. Вся вина не окутана саваном Гиммлера. [Гитлер] был безумным мессией, который… начал войну и… ее продолжал. Поскольку он не мог уже властвовать, для него была безразлична судьба Германии… Гитлер пытался использовать поражение Германии для самоуничтожения германского народа. Он продолжал войну, зная, что не может победить, а продолжение войны означало лишь катастрофу…Гитлер приказал каждому сражаться до конца и затем отступил, покончив жизнь самоубийством. Он ушел из мира таким, каким жил – обманщиком. Он оставил сообщение, что погиб в бою, в качестве официальной версии…Я позволю себе на минуту превратиться в адвоката дьявола… Допускаю, что Гитлер был главным злодеем. Но возлагать всю вину на него одного будет немужественно и несправедливо со стороны подсудимых. Нам известно, что даже глава государства так же ограничен своими умственными способностями и количеством часов в сутки, как и все остальные. Он должен доверять другим, быть его глазами и ушами, чтобы следить за тем, что происходит в «великой» империи. Он должен иметь ноги, которые бы выполняли его поручения; руки, которые выполняли бы его планы. На кого полагался Гитлер в выполнении всего этого, как не на тех, кто находится здесь на скамье подсудимых? …Подсудимые сейчас просят Трибунал признать, что они не виновны в планировании, осуществлении и составлении ими заговора для совершения длинного списка преступлений и злодеяний. Они стоят перед… судом подобно тому, как стоял запятнанный кровью Глостер [один из главных персонажей трагедий Шекспира «Генрих VI» и «Ричард» III, на совести которого несколько жертв] над телом убитого им короля. Он умолял вдову так же, как они умоляют вас: «Скажи, что я не убил». И королева ответила: «Тогда скажи ты, что они не были убиты. Но ведь они убиты, тобой убиты, гнусный раб!» Признать этих людей невиновными – значит с тем же основанием сказать, что не было войны, не было убийств, не совершалось преступлений».
(Расплата. Третий рейх: Падение в пропасть. М. Республика, 1994. С. 3 – 4).
Из признаний Риббентропа: «Гитлер считал величайшим достижением Сталина создание Красной Армии».
Тогда же Керенский заявил: «Сталин поднял Россию из пепла. Сделал великой державой. Разгромил Гитлера. Спас Россию и человечество».
Не обошлось без сенсационных эксцессов.
Присутствовавшим на процессе журналистам запомнился эпизод с молоточком лорда Лоуренса. Для успокоения зала во время заседаний председатель Нюрнбергского трибунала лорд Джеффри Лоуренс всегда держал под рукой специальный молоточек. Когда становилось слишком шумно (а шумно было почти всегда!), он стучал им по столу, призывая к порядку. Молоточек этот был непростой. Инкрустированный сапфирами и бриллиантами, изготовленный из сплава благородных металлов, он стоил огромных денег. Причем игрушка была в определенном смысле исторической: когда-то ее использовали во время выборов Франклина Рузвельта губернатором штата Нью-Йорк. Рузвельт долго хранил в неприкосновенности эту особо чтимую им вещь, а потом отдал ее судье Фрэнсису Биддлу. Символично, что тот взял молоточек в Нюрнберг и, после того как председателем избрали Лоуренса, преподнес ему реликвию – видимо, в знак уважения. А скорее всего как знаковую память о президенте США, который много сделал для того, чтобы был открыт второй фронт. Однако через несколько дней после первого судебного заседания молоток украли. Лоуренс так расстроился, что перестал приходить на работу. Процесс остановился. На ноги была поднята вся полиция Германии, спецслужбы союзников. Специально для поисков из США приехала бригада лучших сыщиков. Конечно, они ничего не нашли. Пока Лоуренсу не изготовили дубликат трибунал бездействовал.
Свидетели процесса зафиксировали немело деталей характера преступников. Так, Риббентроп к месту казни шел, не видя ничего, на ватных ногах. Фельдмаршалы Кейтль и Йодль вели себя спокойно, а вот заместитель Геббельса Вальтер Функ рыдал навзрыд. Кальтенбруннер из-за сильнейшего ревматизма весь процесс провел в инвалидной коляске. Когда зачитали приговор, он впервые встал, повернулся лицом к судьям и картинно поклонился. Единственный, кто был оправдан – это Ялмар Шахт, министр без портфеля, президент Имперского банка. Когда огласили приговор, он наотрез отказался выйти из камеры. Объяснял это тем, что его дом находился в зоне советской оккупации, интервью журналистам давал только за плату – одна шоколадка (по стандартной таксе), наблюдалось помутнение рассудка. Весь процесс Герман Геринг провел с массивным перстнем на большом пальце. После попытки передать нацисту цианистый калий кольцо от греха подальше забрали. Ампулу с ядом нацисту № 2 все-таки сумели передать. При обыске в его камере нашли записку: «Фельдмаршалов не вешают, они уходят сами». Однако по решению трибунала мертвого Геринга вместе со всеми вздернули на виселицу.
Исполнять приговоры приехал Джон Вуд – палач экстра-класса из США. Знаток своего дела он за долгую карьеру не имел ни одной осечки. В гимнастическом зале Нюрнбергской тюрьмы был оборудован специальный помост, и приговоренный становился на один из четырех специальных люков. Потом ему на шею надевали петлю, предоставляли последнее слово, и … створки люка раскрывались. Всю конструкцию возводили и проверяли на надежность под руководством того самого палача-американца. Но во время казни Юлиуса Штрайхера, главного нацистского идеолога антисемитизма, гауляйтера Франконии и редактора любимой Гитлером газеты «Штурмовик» – этот механизм дал сбой. Приговоренный провалился в яму, но остался жив. После секундного замешательства под помост бросились помощники палача и добили Штрайхера. Ситуация, конечно, была ужасной, и Вуд потом долго переживал за свою репутацию.
(Из воспоминаний Эры Аркадьевны Богданович, которая вместе с мужем в 20-летнем возрасте попала на Нюрнбергский процесс как юрист. Роман Кармен подарил ей снимки процесса).
Дмитрия Карбышева, генерала, не покорившегося врагу и не пожелавшего пойти к нему на службу, фашисты превратили в ледяную глыбу. И стоит памятник в лагере Маутхаузен как символ непокорности и воли советского (с царских времен генерала) человека.
(В Усть-Куте нынешние правители России, именующие себя демократами и не упускающие ни малейшего случая, чтобы пополоскать придуманный ими жалкий лоскут «красно-коричневого фашизма», превратили в кусок льда солдата, ветерана Великой Отечественной войны, одинокого пенсионера, заморозив его в его собственной квартире. О чем думал этот – не раз в стужу и мороз глядевший смерти в лицо – солдат-победитель, замерзая вместе с водой, залившей его квартиру? Что передумал за эти тягостные дни, что замерзал, солдат, одолевший в войну фашиста? Он не мог не понять, что издевается над ним та же вражья сила. И кто же? Ельцинская шантрапа, пришедшая во власть).
ЛИЧНОСТЬ ОТЦА
Отец прожил жизнь, полную собственного достоинства. Это жизнь труженика, ратника, от природы одаренного многим: абсолютный слух, прекрасный голос, идеальная пластика в русском плясе, бескрайняя любовь и вкус к художественному слову, редкая по восприятию способность восторгаться красотой природы.