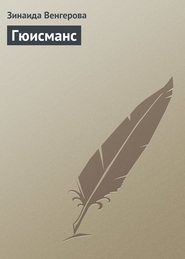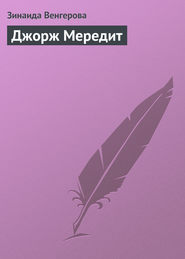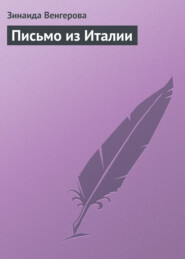По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Джорж Мередит
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Зинаида Афанасьевна Венгерова
«В 1859 г., когда английский роман переживал в творчестве Диккенса и Теккерея одну из самых блестящих эпох своего развития, выступили одновременно два новых писателя, обозначивших собой начало двух новых и совершенно различиях между собой направлений в английской беллетристике. Одно из них успело с тех пор вполне выясниться, окрепнуть, оказать свое влияние на общий ход литературы – и отчасти уже сойти со сцены…»
Зинаида Венгерова
Джорж Мередит
Критический очерк.
– George Meredith, Works, ed. Chapman. London, 1889-94.
I
В 1859 г., когда английский роман переживал в творчестве Диккенса и Теккерея одну из самых блестящих эпох своего развития, выступили одновременно два новых писателя, обозначивших собой начало двух новых и совершенно различиях между собой направлений в английской беллетристике. Одно из них успело с тех пор вполне выясниться, окрепнуть, оказать свое влияние на общий ход литературы – и отчасти уже сойти со сцены. Другое испытало совершенно иную судьбу: незамеченное, не признаваемое и осуждаемое около двадцати-пяти лет, оно вдруг воскресло за последние годы, стало живо интересовать публику и сделалось предметом увлечения со стороны кратки, столь же ревностно выхваляющей его достоинства, как прежде осуждались его недостатки. Во главе первого течения, очень широко отразившегося на современном английском романе, стояла Джорж-Эдиот, выступившая в 1859 г. с своим первым романом «Адам Бид»; и в том же году появился в печати роман первого и до последнего времени единственного представителя второго из указанных направлений – «Ричард Феверель», Джоржа Мередита.
В этих романах двух начинающих писателей, близких во высоте таланта, но вполне различных по миросозерцанию и по пониманию задач художественного творчества, уже вполне намечены различные дороги, которые привели одного к непосредственному успеху и большому влиянию на современников, другого – к уединенному, настойчивому исканию истины среди враждебно настроенного общества, и к поздней славе, которая едва ли может быть достаточным вознаграждением за долгие годы нравственного одиночества. «Адам Бид» Джорж-Элиота открыл новый мир народной жизни с её нетронутыми цельными чувствами и непосредственными цельными натурами. Джорж-Элиот задалась целью понять и отразить «душу народа» и создала бытописательный роман, в котором типы заменяют анализ индивидуальных особенностей человеческой души; драматизм основан на борьбе чувства и долга, и несложный катехизис нравственности, исповедуемый всяким деревенским пастором, служит неумолимым критерием при делении людей на «идеальных» и «порочных». Высший реализм в воспроизведении всех подробностей описываемой среды, и на-ряду с этим идеализация в характеристиках, предпочтение трогательного зрелища идеальных добродетелей более неприглядной и более сложной психологической правде – таков основной характер «Адама Бида», не изменившийся в дальнейшем творчестве романистки. Этот реализм на фоне пуританского понимания нравственности вполне отвечает общему тону английской литературы, и, внеся его в описание мелкой провинциальной среды со всем, что в ней есть типичного и интересного, Джорж-Элиот создала школу, к которой примкнул целый ряд талантливых писателей и писательниц из народного и провинциального быта.
Первый роман Джоржа Мередита сделался исходным пунктом совершенно иначе понимаемого реализма, и по своеобразной манере автора, по преобладанию мысли над вымыслом, по исключительности изображаемых в романе лиц и резкости задетых психологических проблем, можно было бы сразу предсказать дальнейшую судьбу автора: он не принадлежал к числу писателей общепонятных и близких читающей массе, которые умеют одновременно и занимать, и трогать ее; он слишком расходился с дорогими английской публике «основами», и с другой стороны – являлся слишком отвлеченным, слишком занятым интеллектуальной стороной всякого явления, чтобы склонить на свою сторону читателя, который, в большинстве случаев, не в состоянии уследить за течением мысли романиста. Перемешивая драматизм действия с философскими обобщениями, афоризмами, сопоставлениями чисто теоретического характера, Мередит слишком часто забывает своего читателя, чтобы завоевать его симпатии. Все эти особенности, сказавшиеся уже в значительной степени в первом романе Мередита, объясняют – почему, не уступая Джорж-Элиот по таланту и оригинальности творчества, Мередит так долго оставался в тени, оцененный лишь очень небольшим кружком близких друзей (в том числе росети, Броунингом, известным критиком Джемсом Томсоном), а одновременно выступившая с ним романистка успела приобрести славу классической писательницы, уже настолько выясненной критикой, что критика перестала заниматься ею. Перенеся центр тяжести романа от описания нравов к пытливому, точному изучению внутренних мотивов, управляющих действиями людей, Мередит пошел по новому пути, различному однако не только от реализма Теккерея, перешедшего в школе Джорж-Элиот и её последователей, но и от психологического романа, впервые созданного Стендалем и получившего с тех пор столь широкое развитие в литературе всех стран. Мередит, испытавший в свою очередь некоторые литературные влияния, отмежевал себе совершенно особую область: подобно Роберту Броунингу, создавшему «интроспективную драму», он создал «интроспективный роман», очень близко стоящий к драме по самой манере противопоставления интересов действующих лиц. Много лет должно было пройти, прежде чем эта оригинальная форма творчества приобрела право гражданства на родине романиста; только теперь, когда реалистическое направление Дж. – Элиот дало все, что оно могло дать, и выродилось в механическое повторение прежних формул, – критика, а за нею и читающая публика, стали глубже всматриваться в творчество Мередита. В его романах, как прежних, не признанных и не оцененных при своем появлении, так и в новых, стали находить источник для обновления английского романа философским пониманием жизни, проницательностью тонкого психолога и блестящей диалектикой художника, у которого любовь к метким определениям, афоризмам и сравнениям доходит иногда до манерности и превращается в умственную гимнастику. Это возрождение интереса к романам Мередита приняло, как это часто бывает в Англии, преувеличенные размеры и превратилось в некоторых литературных кругах в культ, в преклонение перед каждой строчкой «учителя» и комментирование глубокого смысла всякого не совсем понятного изречения. До сих пор, среди все более и более возрастающего числа поклонников романиста, переживающего на старости поздний расцвет своей славы, не возникала еще идея создания «Мередитовского общества» – на подобие «Browning Society», – но многочисленные журнальные статьи, книга Ле-Гальена[1 - Rich. Le Galienne. George Meredith: Some characteristics… With а bibliography by J. Lane. Li. 1890.], посвященная разбору его творчества, и другие оценки, встречаемые в разных книгах, говорят о Мередите, как о совершенно исключительном явлении в современной литературе Англии.
Термины «Meredithians» – в применении к поклонникам таланта романиста – и «Meredithyramb», как характеристика отношения к нему критики за последние годы, встречаются во всех посвящаемых ему статьях и указывают на размеры возбуждаемого его романами интереса. Долго непонятый в своих попытках объяснить характеры и действия людей изнутри, роковым развитием и проявлением основных элементов их души, – Мередит сделался теперь сразу самым любимым романистом, близким по своим интеллектуальным особенностям общему отвлеченному направлению мысли, которое проявляется в последнее время в Англии даже в области художественного творчества. Он не создал школы среди литературной молодежи Англии, но причиной этого является слишком ярко и резко отражающаяся в его романах индивидуальность; следовать его методу – значит подражать глубине его психологических наблюдений, блеску его единственного в своем роде стиля; его метод заключается главным образом в качествах его ума и стиля, превращающих многие из его романов в турниры остроумия и глубокомыслия. Путь, которым он идет, был бы крайне опасен для менее исключительного таланта, и это объясняет обособленное положение Мередита даже за последние 8-10 лет, когда, окруженный восторженными поклонниками, он не может назвать среди нарастающего поколения писателей ни одного ученика. В этом все различие двух одновременно выступивших писателей: значение Дж. – Элиот в том, что, захватив широко английскую жизнь, она оказала благотворное влияние на целое поколение писателей, и направила их на изучение жизненных подробностей; значение Мередита – в более глубоком проникновении в тайны человеческой души, в умении осветить самый процесс возникновения и развития отдельных характеров. Типы заменены у него сильными индивидуальными характерами, непосредственность в изображении явлений – сознательным анализом внутренних побуждений, отразившихся в том или другом действии. В этой диссекции души и ума главный интерес сосредоточен на самом процессе перехода инстинктивного рокового побуждения в сознательный поступок. Мередит нередко поступается художественностью изложения ради психологических тонкостей, хотя с другой стороны чисто лирические качества его таланта берут иногда верх над рассудочностью и в его романах встречаются эпизоды, полные неподражаемого поэтического совершенства. Оригинальность замысла, тонкость психологической мотивировки и блеск своеобразного стиля соединяются в произведениях Мередита с крупными недостатками усвоенной им манеры и выделяют его как одного из наиболее оригинальных представителей современной английской литературы. Не заслуживая ни резкого осуждения прежних лет, ни безусловного поклонения теперешних английских критиков, Мередит несомненно заслуживает серьезного внимания, как создатель особого жанра психологического романа. Стоит только выделить в этом жанре недостатки, которыми Мередит обязан некоторым чисто национальным свойствам своего таланта, – и перед нами крупный писатель, внесший в литературу новизну психологических приемов и осветивший внутренний мир современного человека тонким пониманием контрастов, вызываемых взаимодействием природных инстинктов и общественных условий.
II
Джорж Мередит родился в 1828 г.; в молодости он жил довольно долго в Германии, много занимался немецкой литературой и подпал одно время под влияние Жан-Поля Рихтера. Вернувшись в Англию, он был в близких отношениях с некоторыми членами так-наз. прерафаелитского братства, жил несколько времени вместе с братьями росети (Данте Габриель росети написал тогда с него фигуру Христа в одной из своих картин), был женат и, потеряв жену, живет уже в течение многих лет в своем коттедже в маленьком городке Доркинге, недалеко от Лондона, крайне редко показываясь в лондонских литературных и артистических кружках. Вот все факты, известные в печати о частной жизни Мередита. Пытливый биограф найдет еще много материала для более или менее достоверных догадок в «Modern Love», лирическом сборнике романиста, занимающего также видное место среди поэтов современной Англии. Сборник этот носит на себе глубокий отпечаток пережитой жизненной драмы, фактическая подкладка которой остается однако вполне темной. Мередит так ревниво оберегает свою личную жизнь от любопытства публики и так равнодушно относится к блестящему, хотя и позднему расцвету своей славы, что не дает возможности проследить с достоверностью фактический ход развития его оригинального таланта и влияния внешних обстоятельств на его миросозерцание. Отсутствие общительности доходить у него до болезненной замкнутости, до неприязни ко всякому проявлению симпатии, которую выказывает ему заинтересованное общество; это очень затрудняет задачу критика, лишая его биографического материала, столь ценного для понимания индивидуальных особенностей художника. Но вместе с тем в этом стремлении замкнуться в своем творчестве и остаться чуждым окружающему миру в личной жизни лежит одна из существенных особенностей Мередита, объясняющая общий характер его произведений. Мередит принадлежит к одиноким умам, сосредоточенным на изучении философских и психологических основ жизни; он вносит в это изучение изумительную проницательность, умение схватывать малейшие оттенки чувств и подводить их под общую философскую схему; но этот отвлеченный анализ основ жизни мало согрет у него душевной близостью с изображаемым миром. Мередит не чувствует живой связи между собой и людьми; в своем творчестве, также как и в своей жизни, он – одинокий мыслитель, не нуждающийся в сочувствии и понимании со стороны других, но и не относящийся с участием к их слабостям и страданиям. Этот строгий историограф человеческой психологии не умиляется пред добродетелью и не возмущается злом, когда находит то или другое в корне характеров, которые жизнь переработала по-своему и удалила от природного основного элемента. Он добросовестно и неуклонно ведет хронику человеческой души, отмечает все её побуждения, заинтересованный только в верности своих анализов, в освещении внутреннего мира инстинктов и сознательной работы мысли. Нельзя, однако, назвать Мередита пессимистом, который, неумолимо следуя истине в изображении зла и страданий в жизни, отчаивается в возможности лучшего будущего для человечества и рисует мрачные картины безнадежного падения человека. Мередит – не пессимист, не циник, каким его долго считала английская критика. Не в резкости изображений характеров и критике принципов английского общества причина того, что читатель романов Мередита чувствует себя как-то сразу чуждым автору, находясь в антагонизме с складом его мыслей. Причина этой розни – в отвлеченности творчества Мередита; всю сложность явлений действительной жизни, вместе с тем, что в них есть непосредственно трогательного, драматичного и вызывающего ответное чувство у наблюдателя, он переводить в область чистой мысли, и, чтобы понять жизнь, отступает от неё на некоторое расстояние, остается чуждым её влиянию, чуждым всякого сочувствия к предмету своего исследования и изображения.
Этот основной тон отношений Мередита к жизни и людям сказывается в замкнутости его жизни и в холодном, чисто головном характере его творчества, создавшем ему обособленное положение в литературе. Основным двигателем жизни людей Мередит считает разум, стремление действовать так, как того требует голос рассудка в противоположность побуждениям чувств. Следить за развитием рассудочной способности людей в борьбе с чувствами, вызываемыми различными обстоятельствами жизни, показать все разнообразие человеческой природы в изображении индивидуальных характеров, занятых дилеммой жизни, контрастами мысли и чувства, – такова задача, в которой исходит Мередит; для выполнения её он вводит читателя, так сказать, в лабораторию человеческих поступков, анализирует побуждения, определяемые природой и направляемые так или иначе жизнью, смотря по тому, как сильно действует в человеке его самосознание, его рассудочная сила.
Природная склонность Мередита к теоретическому анализу живой действительности выразилась прежде всего в особенностях его стиля, наиболее отделяющего Мередита от всех других романистов Англии. Из тех немногих фактов, которые известны из жизни Мередита, мы видим, что его пребывание в Германии в юности повело за собой увлечение Ж.-П. Рихтером, в особенности его запутанным, доходящим до намеренной виртуозности, стилем. Подобный стиль, несколько искусственный, но в высшей степени удобный для выяснения оттенков интеллектуальных процессов, нашел в Мередите ревностного поклонника. Ободренный примером Ж.-П. Рихтера, а также Карлейля, с его пристрастием к афоризмам и к оригинальным сочетаниям слов, Мередит усвоил себе с первых же своих произведений совершенно особый язык, составляющий характерную особенность его творчества. Это прежде всего язык юмориста, выражающего свое понимание жизни, свое представление о людях – в сжатых часто до непонятности определениях людей и поступков. По своей манере переполнять фабулу романа то шутливыми, то совершенно отвлеченными философствованиями по поводу описываемых событий, Мередит ближе всего напоминает Лоренца Стерна. Подобно автору «Тристана Шенди», Мередит хочет проследить в каждом из отдельных героев своих романов характерные национальные черты своих соотечественников и показать фундамент, на котором основано мерное и неуклонное течение английской жизни; для этого он беспрестанно переходит от частных случаев к общим выводам и закрепляет в афоризмах и отступлениях свои наблюдения над национальным характером. Чтобы придать своим характеристикам английской жизни как можно больше полноты и разносторонности, Мередит не ограничивается авторскими отступлениями, а наделяет большинство из своих действующих лиц страстью к психологическим наблюдениям и к погоне за формулами, определяющими в нескольких словах сущность характера. Общая черта всех лиц, выводимых на сцену Мередитом – тонкий, наблюдательный ум, гораздо более занятый философией жизни, чем самой жизнью; в каждом из романов Мередита есть непременно какой-нибудь «наблюдатель» по профессии, стоящий вне происходящих событий, но живо ими интересующийся, или из праздного любопытства и общественных инстинктов, или под влиянием злорадства, руководящего неудачниками в жизни, или же по природной склонности наблюдать жизнь и иронизировать над ней. Эти философствующие наблюдатели – любимые фигуры Мередита; они принимают в его романах самые разнообразные оттенки, начиная от цинично пессимистического «философа средних лет» до благодушного остряка ирландца, рассматривающего мир и людей как неистощимый источник для невинных шутов и эпиграмм. В их уста Мередит влагает в значительной степени свои собственные взгляды на жизнь и, главным образом, на особенности английского склада ума со всеми его непоколебимыми принципами и предрассудками; но, излагая эти взгляды в блестящих афоризмах или в пространных рассуждениях о подробностях английского быта (английской промышленности, помещичьей жмени, политике и т. д. посвящено много очень интересных страниц), Мередит настолько приспособляет эти взгляды в жизненному опыту и национальному темпераменту наблюдателей и с таким заметным наслаждением занимается самой формой передаваемых рассуждений, что романы превращаются отчасти в турниры остроумия и глубокомыслия, в которых действующие лица соперничают друг с другом в меткости характеристик, способности схватывать внутренний смысл мимолетных явлений, обобщать и объяснять видимое и слышимое. Благодаря этому постоянному присутствию посторонних зрителей в романах Мередита, последние производят впечатление театральной залы в дни первых представлений: интерес сосредоточен главным образом на зрительной зале; в ней множество умных и остроумных людей; они комментируют каждое слово, произносимое на сцене, сыплют оригинальными сравнениями и сопоставлениями, подмечают все слабости и тонкости представляемой драмы и упражняются в психологическом и житейском анализе. Актеры заняты той же самокритикой и останавливают каждую минуту ход драмы, чтобы отдать себе отчет в основных побуждениях, руководящих ими. Само действие играет наименьшую роль в этом своеобразном театре, где зрители и актеры сливаются в общей погоне за «формулой души», за причиной причин, за основным элементом каждого отдельного характера, отражающего в свою очередь общий национальный тип. Стремление найти общую, всеобъемлющую формулу национального характера ведет к открытию множества частных истин, к раскрытию отдельных, незамеченных, но весьма характерных черт, видоизменяющих существующее представление об английском характере. Все эти наблюдения, анализы и общие рассуждения автора и выводимых им лиц отливаются в афоризмы, сопровождаемые длинными рассуждениями, еще более затемняющими их смысл. Так, напр., одна из Мередитовских специалистов по части глубокомысленных определений, лэди Монстюарт Дженкинсон, в романе «Эгоист», так определяет главную причину обаяния, оказываемого на целое графство героем романа, знатным лордом: «he has a leg» (т.-е. он умеет выступать), – говорить она, при чем эта фраза пространно комментируется, как доказательство символического значения походки, отражающей историческое прошлое целой нации и показывающей наследственное рыцарство знатного рода. В другом романе, фраза лондонского рабочего, сказанная вслед задевшему его джентльмену, служить основным текстом и припевом длинного рассуждения о психологии лондонского Сити. Количество афоризмов и пояснений их увеличивается еще в значительной степени от того, что в каждом романе Мередит приводит цитаты из какой-нибудь существующей лишь в его воображении книги: так, в «Эгоисте» весь роман построен на «Книге эгоизма», которую автор постоянно цитирует, называй каждый раз главу и страницу, из которой он берет то или другое изречение; в «Diana of the Crossways», ту же роль играют мемуары какой-то ирландской политической деятельницы; в «Ordeal of Richard Feverel» – книга жизненных правил, написанная отцом героя, и т. д.
Метафоры составляют главную силу стиля Мередита. Он владеет даром вызвать в воображении читателя цельный образ одним словом, намеком на картину. Не настаивая на деталях, а намечая лишь тон настроения, которое он хочет описать, Мередит воспроизводит душевный мир своих героев с большой картинностью и яркостью. Клара Миддльтон начинает смутно понимать, что она не любит своего жениха, и когда он продолжает твердить ей о неразрывности, вечности связывающих их чувств, «вечность рисуется ей в виде узкого ущелья, в котором неустанно жужжит монотонный голос». – «Вам не холодно, дорогая моя?» – спрашивает Клару в другой главе романа, заботливый жених, заметивший, что девушка вздрогнула. – «Нет, – спешить ответить Клара: – это кто-то прошел по моей могиле». Перспектива ласкового объятия представлялась ей в виде грозной волны, надувающейся под легкой рябью воды. Она нагнулась сорвать цветов. Гроза миновала ее. В этом стиле выдержано большинство сцен, рисующих отношения различных героев и героинь Мередита к окружающим их людям, к условиям и положениям, создаваемым жизнью.
При помощи своих афоризмов и при посредстве своего образного стиля, Мередит воссоздает в своих романах цельную картину английской жизни; картина эта рисует не столько нравы общества и создаваемые им типы, сколько то, что кроется за ними, основные элементы, вырабатывающие в борьбе с жизнью типичные черты национального характера. Мередит влагает в изучение английской жизни общее миросозерцание, составляющее философскую основу его романов и обусловливающее их внутренний смысл. Как реалист, рассматривающий жизнь с положительной точки зрения, Мередит чужд всякого метафизического элемента в своих произведениях; драматизм его романов не заключается в конфликте непосредственных побуждений человека с отвлеченными идеями, составляющими его душевный мир. Двойственность человеческой природы, контрасты и противоречия жизни служат исходным пунктом психологических анализов Мередита, но он сводит их не в вечному, основному антагонизму души и тела, жизни и смерти, а в борьбе между природой человека и строем его быта, напрасно ставящим ей преграды. Мередит задается непосредственными задачами, создаваемыми жизнью; он видит в человеке жертву несоответствия требований природы и условий общества, вечную борьбу между сущностью каждого индивидуального характера и целою сетью искусственных требований общества. Борьба против деланности человеческих понятий и неизбежное торжество требований природы – таков один Из главных пунктов миросозерцания Мередита. С этой точки зрения в романах его старательно отмечаются малейшие проявления искусственности и лжи в характерах и поступках людей, в выказываемых ими чувствах и т. д.
Второй существенный пункт жизненной философии Мередита – его вера в силу человеческого разума. Вся серия его романов, от «Ordeal of Richard Feverel» до «Diana of the Crossways», представляет историю борьбы отдельной личности против навязываемых ей обществом условий жизни. Могущественное орудие человека в этой борьбе – сознательная работа рассудочной способности. Следуя внушениям разума, вырабатывая в себе строгую обдуманность и логичность действий, человек может справиться со всякой жизненной задачей и исполнить свое непосредственное призвание на земле, т.-е. прожить наиболее полной идейной жизнью, не утратив своего «я» среди нивелирующего влияния общества. Главный враг человека в этом поединке с жизнью – его собственные непосредственные чувства, его сердце, и Мередит рисует целую галерею жертв «сентиментальности», как он называет всякое преобладание чувства над рассудком. Он показывает, как самые возвышенные и благородные чувства губят людей, поддающихся им, и вменяет в обязанность человеку подчинить все свои побуждения контролю рассудка; в нем он видит основу счастливой и целесообразной жизни, и поэтому одинаково обличает и клеймит все, что идет в разрез с требованиями здравого смысла. С этой точки зрения одинаково пагубны как крайнее развитие эгоистических чувств одного человека, стремящегося подчинить души окружающих людей, под предлогом всеобъемлющей любви, так и безграничное самозабвение любящих натур, не умеющих контролировать свои чувства и побороть их, убедившись в их недостойности. Мередит видит в разуме не только основу счастливой жизни, но очистительную силу души; – все конфликты страстей, все нравственные страдания он переносит в область сознательной мысли, в стремление разума проявить себя и поднять достоинство человека. Интеллектуальное развитие составляет в глазах Мередита величайший долг мыслящего человека, и он показывает в своих романах широкие пути непрерывного умственного совершенствования, на котором должна быть основана надежда, человечества на лучшее будущее, когда сила мысли преодолеет, устарелые общественные традиции.
Вера в победу мысли и разума спасает Мередита от пессимизма. Его понимание людей обнажает пред ним мелкую и пошлую подкладку самых джентльменских и великодушных поступков; с другой стороны, страдающая часть человечества, люди, неспособные к отстаиванию своей личности, являются в его глазах еще большим доказательством человеческого ничтожества. Но Мередит находит исход из такого пессимистического анализа жизни; он указывает на неустанное совершенствование способностей каждого человека и на конечное торжество разума в жизни. Герои его романов проходят через жизненные испытания, требующие напряжения всех сил души и ума, и в этой борьбе закаляется их умственная сила, – залог прогресса и торжества человеческого духа. Природа с её неопровержимыми правами и требованиями, разрушающими отвлеченные теории и традиционные принципы, человеческий разум, согласующий реальные условия жизни с идеальными представлениями о нравственности, долге и назначении человека, – таковы силы, управляющие жизнью людей, каков бы ни был их индивидуальный и национальный характер. К каким результатам приводит столкновение этих основных элементов жизни с общественными условиями Англии, и какие типы и характеры возникают на почве подобного столкновения, – это Мередит покалывает в целом ряде романов, всесторонне освещающих широкую проблему, которой романист задается в своих описаниях английского быта.
III
В первом из своих больших романов, «Испытание Ричарда Февереля» (Ordeal of Richard Feverel), Мередит противопоставляет два поколения, «отцов и детей» современной Англии. Система, которую сэр Остен Феверель хочет провести в воспитании своего сына Ричарда, направлена к тому, чтобы сделать его достойным представителем английской аристократии, наследником физического и нравственного благосостояния знатного рода Феверелей. Сэр Остен выдумал целую философскую систему воспитании и изложил ее в сборнике афоризмов, под названием «Pilgrim's Scrap» (сумка странника); только ближайшие друзья баронета видели воочию этот рукописный сборник, но цитаты из него, постоянно приводимые самим сэром Остеном и его близкими друзьями, ознакомили с содержанием знаменитой книги все лучшее общество графства. В этой системе сэра Остена Мередит отразил всю сущность страто порядка Англии, основанного на непоколебимой вере в традиционные понятия о чести и на глубоко засевших кастовых предразсудках. Сына своего сэр Остен хочет сделать прежде всего джентльменом, закалить его в сознании высоты своего общественного положения и связанных с ним нравственных обязанностей. Он искусственно развивает в нем чувство сословной чести, оберегает его от сношений с низшими сословиями и дает ему образование, готовящее его к блеску в светском обществе. Уверенный в успехе внушаемых им сыну принципов общего поведения, доброжелательства и покровительственной доброты к низшим, и культа высоко, хотя и односторонне понимаемого джентльменства, сэр Остен занимается заблаговременно приисканием соответствующей невесты для Ричарда, чтобы завершить торжество своей системы образцовым браком; он тщательно изучает родословные всех аристократических семей графства и, остановившись на самой здоровой семье, наиболее неприкосновенно сохранившей родовые традиции, исподволь руководит воспитанием младшей дочери в этой семье, готовя ее в избранницы своему сыну.
Среди всеобщего одобрения друзей и знакомых, сэр Остен неуклонно следует своей системе, видя залог её успеха в дружеских отношениях, установившихся у него с сыном с детства. Но близорукий философ, отстаивающий непогрешимость своих воспитательных принципов, не видит главного врага, подкапывающего его систему. Враг этот – сама природа, не дозволяющая втиснуть в узкие рамки условности молодую душу, полную непосредственных чувств я стремлений. Первый раз несостоятельность теорий сэра Остена проявляется еще в детстве Ричарда, когда наставления отца с одной стороны, а мальчишеские инстинкты с другой – запутывают его в первый нравственный конфликт: его, воспитанного на щепетильном понимании дворянской чести, простой мужик уличает в браконьерстве и постыдно наказывает, насмехаясь над барчуком. Поверив внушениям отца о святости данного слова, Ричард впутывается в целую сеть лжи, и завершает не-джентльменство своего поведения, давши волю душившей его жажде мести: он вместе с своим приятелем поджигает двор своего обидчика, и оба мальчика долго дрожат, опасаясь быть уличенными и отданными под суд. И всю эту драму Ричард переживает один, зная, что катехизис отца не поможет ему справиться с трудностями; он впервые понял, что следование отвлеченным истинам, проповедуемым отцом, не научит его, как поступать в жизни. С этого момента открывается пропасть между отцом и сыном, все более увеличивающаяся с годами, хотя отец этого и не замечает, довольный формальным повиновением сына. Но открытый конфликт и полное поражение сэра Остена начинаются несколько позже. Вопреки системе, ставящей в обязанность иметь в виду интересы рода при вступлении в брак, Ричард влюбляется в скромную, ничем не выдающуюся дочь фермера, и несмотря на все попытки отца победить это неуместное чувство и направить его на более подходящий предмет, несмотря даже на открытое сопротивление сэра Остена, женится на ней, забывая о всех прививаемых ему понятиях о долге. История любви Ричарда и Люси, переход от детской дружбы к первой невинной любви – составляют самые прекрасные и поэтичные страницы романа. Торжество молодости и искренней страсти над всякими преградами, естественное, бессознательное возникновение и постепенный рост первого серьезного чувства у юноши и девушки, едва вышедших из детства, обрисованы Мередитом в нескольких главах, закрепивших за ним славу первоклассного поэта. Еслибы Мередит не написал ничего кроме двух глав «Ричарда Февереля», описание идиллии любви Ричарда и Люси, – разыгрывающейся вопреки всем противодействующим обстоятельствам, – этих глав «Ferdinand and Miranda» и «Diversion one penny whistle» (вариации на грошовой дудке), достаточно было бы, чтобы навсегда сохранить его имя в английской литературе; в них он высказал свое мастерское умение передавать таинственную красоту смутных зарождающихся чувств.
«Ричард Феверель» не останавливается на торжестве природы над «системой», естественных чувств над искусственными. Это история молодой души от первых проявлений сознательной жизни до полного развития своей индивидуальности. За победой над внешними обстоятельствами, препятствующими свободному развитию душевной жизни, предстоит еще более трудная, но столь же неминуемая борьба уже не против других, а с самим собой; борьба эта решает дальнейшую судьбу человека, показывая, как велика в нем сила сопротивления, насколько сдерживающая сила разума контролирует в нем слепые инстинкты сердца. В «Ричарде Февереле» только намечен этот антагонизм сердца и разума, вносящий смуту в неиспорченную, чистую душу. Женившись на любимой девушке, Ричард вторично влюбляется, но уже менее возвышенной и поэтичной любовью: он подпадает под обаяние светской красавицы, значительно старше его, искусной кокетки, сознательно и намеренно губящей его; он еще в глубине души по-прежнему привязан к Люси, олицетворяющей для него святость беспорочной женственности, но жажда удовольствий, слабость характера – берут верх. Ричард оказывается жертвой своих инстинктов; это определяет печальный исход романа, заканчивающегося смертью Люси, которая слишком идеально и беззаветно любила, чтобы жить, потеряв веру в любимого человека. Показав, что жизнь держится победой разума над влечениями чувств, что торжество сердца губит жизнь и возможное в жизни счастье, Мередит ограничивается в «Ричарде Февереле» установлением этой истины; в дальнейших романах он более глубоко вникает в фазисы борьбы человека за свое интеллектуальное «я» и показывает, как крепнет душа в сознательной работе мысли, ведущей к конечному торжеству индивидуальной воли над обстоятельствами.
* * *
Следующий шаг в развитии теории совершенствования человека путем сознательной жизни разума и стремления дать анализирующей мысли власть над влечениями чувств представляет один из самых замечательных романов Мередита – «Эгоист». Основное положение, развиваемое Мередитом с подавляющим богатством деталей и тонкостей аргументации, – нравственная дуэль между властной натурой человека, привыкшего покорять себе всех окружающих исключительно силой своего безграничного, спокойного эгоизма, и сильной свободолюбивой девушкой, которая незаметно очутилась в тисках этого эгоиста и напрягает всю силу и энергию духа, чтобы отстоять свою независимость. Незаметный и постепенный захват власти человека над человеком, роль, которую играет при этом сила общественной санкции, одиночество и отчужденность того, кто стремится внести внутреннее содержание и самостоятельную жизнь духа в условные рамки общественных традиций – такова безотрадная картина общественных условий, составляющая фон романа. На этом блестяще обрисованном фоне английских нравов высшего общества выступает с драматизмом совершенно особого рода история душевной борьбы Клары Миддльтон, её слабости и малодушие, постепенного роста её нравстенных сил – по мере того, как борьба делается все более тяжелой и сложной.
Мы говорили выше о своеобразной писательской манере Мередита; она ярче всего сказалась в обрисовке характера Клары. Активная сторона её жизни рассказана в нескольких чертах, разбросанных на протяжении всего романа. Она делается невестой самого блестящего жениха в графстве, сэра Виллоубея Паттерна, поддавшись настоятельности и властности его любви и общему увлечению его красотой, умом и благородством. За несколько недель до назначенного срока свадьбы, она вместе с отцом приезжает в Замок Виллоубея, к его теткам, заведующим домом, и за этот короткий срок, на половину занятый общественными обязательствами, зваными обедами и балами, происходит вся драма: от теплого дружеского чувства к своему жениху Клара переходит в пониманию истинных основ его натуры и к ненависти к нему; она пытается порвать отношения с ним и достигает этого после долгой борьбы, когда проснувшееся чувство любви в другому из гостей замка окончательно просветило её душу и дало ей силу выйти победительницей из нравственного искуса. Интерес романа сосредоточен на освещении внутреннего развития самосознания Клары; для самой девушки важнее всего разобраться в своих собственных чувствах и в вызывавших их мотивах, понять себя и свои побуждения; – с верой в себя, в разумность и справедливость своих антипатий и своей жажды свободы, приходит в ней решимость действовать энергично. Клара не сразу понимает Виллоубея, и не будучи в состоянии дать себе отчет, что ее инстинктивно отталкивает в безупречном, блестящем баловне всего графства, она старается побороть в себе ребяческий протест во имя верности данному слову. Эта первая стадия душевного кризиса Клары изображена Мередитом с психической тонкостью, составляющей его преимущественное качество. В каждом слове, которым обмениваются влюбленный жених с чутко внимающей ему невестой, чувствуется столкновение двух сильных натур, радикально противоположных друг другу. Когда Виллоубей говорит о беспредельности, исключительности связывающих их чувств, Клара чувствует, что ей становится душно, что душа её рвется к простору, – и, говоря совершенно не то, что она хочет сказать, она беспомощно защищает свет и составляющих его людей от резких нападок Виллоубея, толкующего ей о прелестях жизни вдвоем, вдали от света и его посяганий на счастье и покой ближнего. Клара чувствует что-то враждебное в его любви, проповедующей слияние душ, похожее за порабощение чужой воли; чем больше он воспевает вечность их союза, чем чаще он называет ее «своей Кларой» и объясняет ей, как всецело он должен занимать её мысли и чувства, как нераздельно должны совпадать её мнения и поступки с его внушениями, тем дальше она удаляется от него, тем властнее говорит в ней строптивый голос души. Ему кажется, что своими пламенными речами он все более и более завладевает её душой, объединяя ее с собой, с своим пониманием жизни и людей; она же, уже чуждая ему душой, ищет ключа к его речам, объяснения его характера, вдумываясь в каждое слово, чуткая к каждому из его движений и к отклику, который находят в её душе его увещания и просьбы. Ключ этот Виллоубей сам дает Кларе, рассказывая за столом о примере возмутительного эгоизма в семейной жизни и прибавляя в шутливом тоне: «Остерегайтесь выходить замуж за эгоиста, Клара». Слово «эгоист» освещает для Клары магическим светом поведение Виллоубея, придавая иную окраску даже его внешнему великодушию, оправдывавшему его до тех пор в её глазах. С минуты проникновения в основной элемент его характера инстинктивный порыв к свободе переходит у Клары в сознательную потребность оградить свою душу от рабства, порвать цепи, наложенные за нее превратным пониманием нравственного долга. Она вступает в открытую борьбу с железной волей и оскорбленным самолюбием жениха, с возмущенным сопротивлением общественного мнения, с авторитетом отца, и в этой почти непосильной борьбе растут её нравственные силы, – путем правильной и неуклонной работы сознания она преодолевает все трудности и находить союзника уже тогда, когда победа одержана, и Клара имеет право свободно и сознательно протянуть руку истинному избраннику своего сердца.
Мередит следит за всеми последовательными фазисами нравственного испытания девушки, рисует ее в минуты подъема сил и в периоды полного упадка духа, когда она готова купить покой даже путем унижения и подчинения; незаметно для внешнего мира разыгрывается драма её души, и романист сосредоточивает все наше внимание на этом скрытом самоанализе Клары, её надеждах и сомнениях, и главным образом на исследовании источников её собственных стремлений и чувств. В борьбе за освобождение против Клары стоит не только её жених, настаивающий на святости данного ею слова, но тирании общества, руководимого традициями в суждениях о поступках людей. Характеристика английского общества, играющего в романе роль греческого хора, показывает как глубоко Мередит вникнул в национальные особенности своих соотечественников, как всесторонне он умеет освещать выводимые им типы. Неподвижность нравственного критерия, всепоглощающая наклонность к жизненному комфорту, особое благодушное доброжелательство в ближним на почве внутреннего равнодушие, – эти элементы общественной жизни английской «gentry» иллюстрированы Мередитом в целом ряде интересных эпизодических фигур. Д-р Миддльтон, с его любовью в книгам и к старому портвейну, и м-сс Монстюарт, с её царственной осанкой и готовыми фразами, наклеиваемыми подобно этикетам, принадлежать к самым удачным сатирическим изображениям английского характера, а великосветские кумушки, принимающие близко в сердцу женитьбу Виллоубея, как общественный вопрос первостепенной важности, дополняют живую, остроумную картину жизни в английском поместье.
В противоположность Кларе, сумевшей отстоять победу личности над обстоятельствами жизни и собственной слабостью, в романе выведен другой женский характер, Летиции Дэль, жертвы непосредственных влечений сердца. Это этюд женской души с её вековой покорностью, готовностью в самозабвению, всепрощению во имя любви. Она не знает борьбы, потому что не ищет победы; любовь к Виллоубею, составляющая основу её душевной жизни, делает ее игрушкой в его руках, и она покорно, безропотно переходит от светлых надежд в полному отречению от всякого счастья; психология пассивного чувства, способного на величайшие страдания и великого только в безграничности своего терпения, своего самозабвения в культе любимого человека, делает из Летиции поэтическую, трогательную фигуру «des Ewig-Weiblichen». Но жизнь не щадит этих жертв собственной слабости, и Мередит, защитник неумолимых законов жизни, показывает на примере Летиции пагубность переживаний романтических привязанностей, не оправдываемых разумом. Наказание, которое судьба готовит Летиции, – естественный результат её ослепления; сосредоточив всю свою душевную жизнь на исключительном культе и безграничной идеализации одного человека, какую ужасающую пустоту должна была почувствовать она в минуту просветления! И по особой иронии судьбы в этот роковой момент она чувствует себя вынужденной согласиться на брак с тем же человеком, который был недосягаемым божеством её юности. Постаревшая, уставшая страдать, понявшая истинную сущность характера Виллоубея, она все-таки становится его женой, открыто заявляя ему, что делает это из практических соображений, ради его богатства и престижа в обществе. Этот трагизм разбитой жизни Летиции оттеняет нравственное торжество Клары и выдвигает основную идею романа – апологию интеллектуального совершенствования, спасающего от власти инстинктов и страстей.
Центральной фигурой «Эгоиста» по широте замысла является антагонист Клары, сэр Виллоубей Паттерн. Для философской подкладки романа он имеет значение стихийной силы, грозящей поглотить душу, не вооруженную чутким самосознанием и критическим разумом; с психологической точки зрения это мощное воплощение одного из самых коренных элементов человеческой натуры, эгоизма, стремящегося к неограниченному владычеству над окружающими. В обычной жизни эгоизм смягчается нивелирующим влиянием обстоятельств, необходимостью работать и неизбежностью страданий. Изображенный же в лице могущественного лорда, пользующегося всеми преимуществами своего ранга и своих блестящих природных качеств, эгоизм разростается до грандиозных размеров, внушающих не антипатию, а ужас губительностью своего влияния, безграничностью своих требований. Сэр Виллоубей Паттерн – величественная фигура, полная пафоса в неудержимости своего эгоизма, преклонении пред своим собственным превосходством и, вместе с тем, ревнивой боязни утратить свое первенство в глазах других. Чуткое самолюбие заставляет его ежеминутно испытывать прочность почвы, на которой построено здание этого самолюбия, заручаться опорой на случай опасности; так, сделавшись женихом Клары, он стремится сохранить любовь Летиции; то же чувство диктует ему его бесконечные речи Кларе о прочности связывающего их слова. Он тщательно хранит маску джентльменства, скрывающую его опасения за нарушение его безмятежного благополучия и более всего за унижение в глазах света; но именно вследствие тщательности своего притворства и неуверенности в прочности своей власти Виллоубей выдает себя. Основной элемент его души, холодный, рассчетливый эгоизм, прорывается наружу, порвав все преграды, и губит искусного дипломата, так долго сохранявшего свой престиж в глазах общества. При помощи отчаянных усилий ему удается войти из передряги, сохранив внешнее достоинство в общественном мнении, но его самолюбие терпит непоправимое поражение, и эгоист таким образом сам делается жертвой своей passion-maitresse.
* * *
Два другие романа Мередита продолжают развивать теорию автора о борьбе индивидуальной личности с обществом. В «Diana of the Crossways» героиня, блестящая красавица и талантливая романистка, побеждает предубеждение общества против независимых женщин, сбрасывающих гнет замужней жизни во имя нравственной свободы; но, выйдя победительницей из этого конфликта при помощи своего блестящего ума, она переживает другую, более интимную драму, в которой настоятельные требования реальной жизни сталкиваются с внушениями сердца; в разрешении этой психологической задачи Мередит обнаружил изумительное понимание женской души, показывая, как, под влиянием случайных обстоятельств и минутной слабости духа, любящая и чистая душой женщина способна совершить нравственное преступление, не отдавая себе отчета в его последствиях.
В «Diana of the Crossways» общая философская подкладка отходит на второй план пред психологическим интересом, возбуждаемым характером героини. Без всяких предвзятых суждений о нравственном долге, не стремясь ни оправдать, ни осудить поведение Дианы, Мередит ограничивается тщательным анализом натуры, в которой качества ума играют первенствующую роль, подавляя голос сердца. Рисуя её жизнь шаг за шагом, автор заставляет читателя проникнуться, мало-помалу, неотразимостью своей героини, подпасть под обаяние её неистощимого ирландского юмора, блеска её разговора, смелости её суждений. Диана – воплощение ума и остроумия, и это делает ее любимой героиней самого автора; он влагает в её уста самые меткие из своих эпиграмм, заставляет ее превозносить разум, как основной принцип жизни, и служить самым блестящим подтверждением своих принципов. Но при всем своем уме Диана менее всего холодная и жесткая натура; когда ее охватывает в первый раз в жизни истинная страсть, она умеет глубоко и беззаветно любить и страдать. Любовь делается пробным камнем её характера; сумевшая устоять в борьбе против враждебно настроенного общества, она оказывается беспомощной по отношению к любимому человеку. Страсть является в ней со всеми обычными спутниками, сомнениями, ревностью, вспышками оскорбленного самолюбия, и её нравственные силы ослабевают, угнетенные к тому же тяжестью внешних условий жизни, грозящим ей разорением. В один из тяжких моментов полного упадка духа, возбужденная против любимого ею человека, влиятельного парламентского деятеля, она отправляется в редакцию одной из крупных газет и продает, за известную сумму денег, сообщенную ей другом политическую тайну. В момент совершенного ею предательства она не сознает, что окончательно губит доверившегося ей человека, – ей кажется, что она доставит ему только крупную неприятность. Когда же обнаруживается непоправимость причиненного ею зла, она сама заявляет бывшему другу о своем поступке, не ищет никаких оправданий и – исчезает с горизонта. Читатель чувствует вместе с пострадавшим Перси, что поступок Дианы чудовищен и не имеет оправдания, но она все-таки остается по-прежнему обаятельной, чистой Дианой, неспособной пасть душой; она подвержена только тем ослеплениям чувств, которые приводят к дурным поступкам, не затрогивая самых основ душевной жизни. Это впечатление, оставляемое характером Дианы, является следствием психологических приемов Мередита, его уменья приобщить читателя к внутреннему миру мотивов, руководящих поступками, и заинтересовать его в самом процессе духовного развития человека; самые поступки возбуждают при этом меньший интерес, будучи лишь безразличными результатами того, что важнее всего в душе человека – основных элементов его душевной жизни.
Во втором из упомянутых выше романов – «Один из наших победителей» (One of our conquerors) – Мередит входит к рассмотрение вопроса об условной нравственности, господствующей в значительной части английского общества. Это одно из наименее понятных произведений Мередита, вследствие того, что самая фабула романа и психологический анализ событий и характеров совершенно затерян в лабиринте философских отступлений, полемике против идей, о которых приходится только догадываться, так как они не изложены, и т. п. Почва, на которой в этом романе происходит столкновение личности с тиранией общества – многократно возбуждавшийся вопрос о законном браке. Виктор Раднор и Натали скрывают от всех, и главным образом от своей семнадцатилетней дочери, незаконность их брака; они надеются, что первая жена Виктора, еле живая, богомольная старуха, покорится, наконец, силе обстоятельств и согласится на развод. М-сс Раднор, однако, неумолима, и жизнь Виктора и Натали превращается в невыносимое сплетение притворства и постоянных опасений. Они богаты, живут открытой светской жизнью, Натали чарует общество своим артистическим пением, Виктор – привлекательностью своего открытого нрава, дочь их слывет первоклассной красавицей и даровитой музыкантшей. Но среди этого блеска жизнь Натали – сплошное мученичество: она сознает себя виновной в глазах общества и перед м-сс Раднор, и видит свое наказание в легкомыслии мужа, который заставляет ее жить среди лжи и рассчитывает на близкую смерть своей законной жены, чтобы устранить ложность их положения. Чуткая совесть Натали переживает мучительный кризис, когда дочь узнает родительскую тайну и это расстраивает её брак с молодым лордом. Хотя сама девушка рада этому разрыву и с готовностью отдает руку другому человеку, которого она любит, Натали не может справиться с нравственными страданиями и отравляется за несколько часов до того, как Виктору приносят известие о смерти его законной жены. Представленная в этом виде психология Натали утрачивает характер сознательной борьбы против общества. Натали вполне солидарна с осуждающим ее обществом, и только обстоятельства сделали ее жертвой вместо того, чтобы уделить ей место в светском трибунале. История её трогательна, но трагизм её жизни – искусственный, вытекающий из добровольного подчинения предрассудкам и потому менее глубоко захватывающий основы жизни, чем другие из указанных нами романов. Много интересного, однако, представляют рамки действия в «One of our conquerors» – деловой Лондон, типы журналистов, крупных и мелких промышленников, и т. д.
Большинство остальных произведений Мередита принадлежит к категории обычных психологических романов, не выходящих из рамок реального изображения жизни, а потому главный интерес этого писателя заключается в выше разобранных нами романах, где наиболее сказывается оригинальность романиста. Романы эти не лишены недостатков, отвлечены и написаны умом, а не сердцем; каждой строчкой художника чувствуется мудрствующий мыслитель, но этот мыслитель говорит очень глубокие истины, и если с ним не всегда можно согласиться, то его всегда интересно выслушать. Головное творчество Мередита и своеобразность его психологического метода обеспечивают ему первенствующее место в современной английской беллетристике и полны интереса также и для иностранных читателей.
notes
Сноски
1
Rich. Le Galienne. George Meredith: Some characteristics… With а bibliography by J. Lane. Li. 1890.