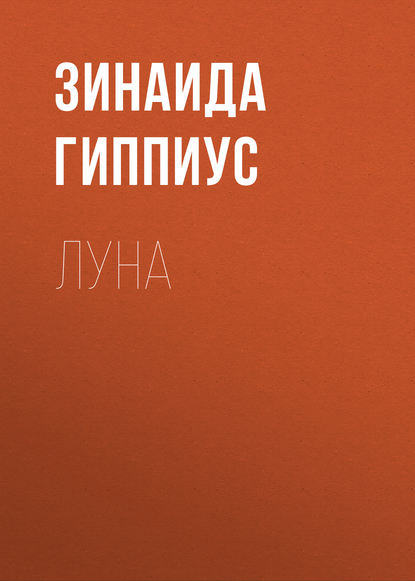По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Луна
Год написания книги
1898
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нет, нет, никакой тут нет аллегории. Это так… вышло. Видите, как с вами трудно. Да бросим это. Я для настоящей луны приехал, но вам, конечно, этого не следовало говорить. И ничего я не знал. А завтра, если так, уеду. Все равно. Прощайте.
Он вырвал свое пальто из рук Фомушки и быстро зашагал по Пьяцетте. Фомушка с открытым ртом смотрел вслед его высокой, слегка сутуловатой, удаляющейся фигуре. Он ничего не понимал.
А с Пьяццы неслись медленные звуки последнего марша и уходили в небеса, которые сделались черно-синими, высокими и торжественными.
II
После позднего обеда хотя и за отдельным столиком, но в той же шумной столовой отеля, где сверкал и гудел табльдот, – Вальцев поднялся в третий этаж, к себе. Он не был богат, но к деньгам очень беспечен, не швырял их, но искренно не ценил. И если выбирал себе какую-нибудь вещь или жилище, то любил, чтобы все ему приходилось по вкусу. Приспособлялся он очень плохо, в не нравящемся ему почему-нибудь месте долго страдал, терял сон и, наконец, решался уступить себе и уехать или переехать.
Здесь ему посчастливилось найти помещение, сразу ему приятное. Он даже не спросил, сколько оно стоит, а стоило оно наверно очень дорого. Было две комнаты. Одна – громадная, удлиненная, с четырьмя окнами на широкой стороне, с двумя на узкой и с крытым балконом на углу. Вся комната была угловая и фасадом, четырьмя окнами, выходила на Большой Канал, а двумя боковыми – в узенький водяной переулочек, всегда тенистый. Оттуда веяло душной сыростью. В переулочек же смотрели и окна прилегающей маленькой спальни. Вальцев, впрочем, ее не любил.
Стеклянная люстра висела на потолке, такая вся нежная и прозрачная, что, казалось, она ничего не весит. В обоих концах продолговатой комнаты было два больших зеркала, тоже со стеклянными, узорными рамами. Зеркала нескончаемо углубляли комнату, повторяя каждое в себе и ее, и ее повторение в противоположном зеркале, и опять обратно. Эти зеркала и понравились Степану Марковичу. Степан Маркович боялся одиночества. Он ничего так не боялся, как одиночества, а между тем он всегда, с самого раннего возраста, жил в одиночестве, незаметно привязался к нему, привык, точно к родному человеку, и любил его, – любил и боялся вместе. Каждый вечер, возвращаясь от обеда, он ходил вот так, по своей длинноватой комнате, устланной темным и толстым ковром. В те минуты, когда одиночество особенно пугало и давило Вальцева – он любил вдруг увидать собственное отражение в зеркале, в реке, даже в окне дома или магазина: ему сейчас же становилось легче, он сам не знал, почему. И теперь, здесь, в тихий вечерний час, ему нравилось ходить так, от одной глубины к другой. Ему навстречу двигалось его отражение, его собственная фигура, но он засматривал дальше – и видел другую фигуру, тоже свою, другое отражение, меньшее, которое в то самое время удалялось. Он знал, что это обман, но ему нравилось двигаться мерно и правильно между этими, так же мерно и верно двигающимися, призраками. Ему меньше казалось, что он один.
Степан Маркович не солгал Фомушке, сказав, что он приехал в Венецию для луны. В середине января он был в Вене, оттуда через несколько дней собирался выехать в Палермо, когда получилось, то ужасное письмо. Письмо это не перевернуло, не переделало его душу только потому, что над ней уже всякая жизненная темнота была безвластна. Но письмо оглушило его, заставило страдать горячо и остро, не размышляя. Он не уехал из Вены, он почти не замечал, где он живет, и дни, однообразные, пустынные, полные одним ощущением боли, – летели, как ветер. Он опомнился, когда ему стало гораздо легче. И не то, что забылось, а как-то улеглось, все на свои прежние места, совсем как раньше. Он взял письмо и перечитал почти спокойно. Елена сообщала ему, очень грубо, до естественности грубо, чтобы он ее не ждал в Палермо, что приехать она не может, да и не хочет. Что муж, вероятно, поедет за границу, в Париж, но она остается в Москве, где ей очень хорошо. Он, Вальцев, ее утомил своей серьезностью, да и не чувствует она к нему ничего решительно, так что лучше всего расстаться, порвать всякие отношения. Были даже злые и неумные намеки, что какие-то новые знакомства привязывают ее к Москве… Вообще, все письмо было неумное, нехорошее.
Вальцев любил Елену уже несколько лет. Высокая, угловатая, худая, с тяжким узлом красновато-черных волос, с неожиданно светлыми, большими, бесцветными глазами на смуглом лице, – они казались пустыми, ее глаза, – Елена понравилась Вальцеву. В ней была та ложная загадочность, которую находят в женщинах. Сначала она ему понравилась, потом он ее полюбил. И когда полюбил – она перестала ему нравиться. То есть он перестал думать – нравится ли она ему. Он открыл в собственной душе что-то такое глубокое и сильное, чему удивлялся. Точно в темной комнате зажгли огонь. Он смотрел и на огонь, и на все кругом, что ему стало видно от огня.
Елена была несчастлива с мужем и не любила его. Он тоже не любил ее, вечно изменял, даже не раз покидал ее. Но у нее было упорное решение – каприз или гордость – остаться ему верной. Вальцев знал – и покорялся. Она знала о его любви и мучила его. Так шли годы. Вероятно, Вальцев ей надоел, или она серьезно увлеклась кем-нибудь, или просто это было неизбежно рано или поздно при ее характере, но Степан Маркович получил в Вене письмо, которым она резко и холодно обрывала отношения.
То, что в письме были какие-то намеки с бессмысленным расчетом все-таки возбудить ревность – казалось уже совсем мелким. Но Степан Маркович ничем не оскорбился. Ну, пусть она дрянная и пошлая женщина. Это очень больно, и очень жалко ее. Но разве что-нибудь изменилось? То, что у него в душе, не мелко и не пошло. Бог вошел и поселился у него в душе. Неужели она, чем бы то ни было, – такая, как она, – может разрушить, оскорбить или хоть коснуться глубины? Ни она, и никто другой не властны оскорбить Бога. Только сам человек, носящий в себе Бога, может Его оскорбить.
Был уже конец февраля, когда Вальцев, проходя светлыми сумерками по Ринг-Штрассе, вдруг поднял глаза и увидал, низко в небесах, серп народившегося месяца. Месяц был узок, как нить, и робко золотился, собираясь закатиться. Вальцев посмотрел-посмотрел, подумал – и решил, что он завтра вечером будет в Венеции. И точно, следующую ночь он уже провел в нежной тишине этого воздушного города.
Несколько лет тому назад, в самом начале своей любви к Елене, Степан Маркович прожил один две недели в Венеции, и тогда уже понял все о луне окончательно и совершенно. Она с детства поражала его своей печальной строгостью, и ему казалось, что между нею и его душою есть особенная связь. И в тот раз, в Венеции, он понял, откуда эта связь. Во всей природе только луна – одинока. Звездам так весело переглядываться в темную, летнюю ночь. Реки часто приносят одному морю привет от другого. Горы теснятся дружной семьей. Солнце – одно, правда, но оно так полно собою и так все собою наполняет, что на него и смотреть нельзя. Кроме того, оно всему родное, все его любить, принимает, радуется ему, и оно всех любит, и знает, что его нельзя не любить. Ему и отражаться не нужно, и не умеет оно отражаться. Степан Маркович не очень любил самодовольное и победное солнце. А луна ему казалась похожей на него. Ей холодно и строго-печально, когда она стоит одна, бледная, светлая, среди черно-синих, пустых, слишком просторных, небес. Звезды стираются, точно отступают, и кажется, что там, наверху, – стужа, тишина и оцепенение.
Но луна любит воду. Она смотрится и в ручей, и в колодезь, и в море. Она видит себя и обманом перестает быть одинокой. Луна любит Венецию с ее вторыми небесами, опрокинутыми на дно бесчисленных каналов. Вода тиха и воздушна. И всякий водяной переулочек, если луна вздумает заглянуть в него, – покорно возвратит ей ее образ, так же, как и широкие воды Лидо.
Вальцеву было отрадно смотреть тогда на милую луну и ее бесконечные повторения, он забирался куда-нибудь повыше и смотрел оттуда на золотисто-синие волны каналов. В душе его, в те далекие дни, хотя и рождалась любовь, но одиночество, неприкосновенное, было с ним навечно.
И, увидев теперь в Вене лунный серп, Вальцев пожелал опять поехать в Венецию, опять следить за ростом и склоном луны в ее любимом месте.
Тяжелые занавеси были сдвинуты – слишком юный месяц давно закатился – и Степан Маркович медленно ходил по своей комнате между двух зеркал. Пламя свечей волнисто колебалось. И там, в зеркалах, эти волнистые колебания уходили в бесконечность на бесконечном ряде отраженных свечей.
Вдруг Вальцев вздрогнул и остановился. Свечи встрепенулись сильнее и замерли. Зеркало повторило его лицо, сразу побледневшее, со сдвинутыми бровями.
Как он забыл? Ведь он обещал завтра уехать.
Куда? Зачем? Фомушка не просил его уехать, он сам вызвался. И почему уехать? Разве нельзя просто не пойти к ним, не видеть Мери, забыть… Нет, нельзя. Все равно, жалость везде будет мучить, эта неизлечимая жалость к чужому страданью – но теперь уехать надо. И он уедет.
Решив, Вальцев позвонил и предупредил, чтобы ему приготовили счет. Он едет… с каким поездом? Куда? Ну, хоть в Неаполь, в два часа дня. Там, в Неаполе, все-таки есть море…
III
На другой день, часов в одиннадцать, когда Вальцев кончил кофе и хотел приняться за укладыванье чемодана, в дверь его громадной комнаты постучали. Днем эта комната глядела торжественно и мрачно. Зеркала потускли и стерлись. Хотя день был солнечный, в окна входил теневой, холодный свет, лучи не попадали сюда утром.
– Herein![2 - Войдите! (нем.)] – крикнул Вальцев по привычке иметь дело с немецкой прислугой этого отеля.
Дверь тихо-тихо приотворилась и в комнату, с робостью, слегка вытянув вперед шею и озираясь, вошла дама. Дама была хорошо одета, в темном и простом платье, не очень молода. Она молча смотрела на Вальцева, не решаясь заговорить. Вальцев, не узнавая ее, прищурил близорукие глаза и шагнул навстречу.
– Степан Маркович… – несмело проговорила гостья, протягивая Вальцеву обе руки.
Вальцев узнал, схватил ее руки и сжал их крепко.
– Вы? Поликсена Дмитриевна… Не ждал вас совсем. Пеликсена Дмитриевна хотела что-то ответить, сказать – и вдруг глухо, неожиданно разрыдалась.
Вальцев, в смущении, усадил ее на диван, принес воды, говорил какой-то вздор, не зная, что ему делать.
– Это ничего, – произнесла, наконец, гостья, пересиливая себя и вытирая сразу покрасневшее лицо. – Я такая нервная стала в последнее время. Просто даже стыдно. Вот и теперь мне совестно перед вами.
– Нет, не надо передо мною, – сказал Вальцев таким голосом, что ей сразу стало легче. – Это не стыдно. Это значит, что человеку очень плохо на сердце, если он один крепится, а увидит другого и так, сразу, без слов, заплачет. Вы милая, вы хорошая, Поликсена Дмитриевна. Я вас давно насквозь знаю. Ведь вы меня считаете другом?
Поликсена Дмитриевна улыбнулась. У нее точно было милое лицо, и такое открытое, что, казалось, ее трудно и не знать насквозь. Она была сильная брюнетка, над верхней губой у нее темнели даже маленькие усики, но черные глаза ее, все черты полного, смуглого лица были проникнуты не-изяснимой добротой и суетливостью материнской любви. Такие женщины родятся только для материнства. Они до пятнадцати лет играют в куклы, обожают щенят, плохо учатся. Они дурные жены и, в сущности, даже не очень хорошие матери, потому что любовь их безумна, они слабы, экзальтированны и самоотверженны. Если такая женщина не выходит замуж и не привязывается к кому-нибудь особенно, к приемышу, к собачонке – из нее может выработаться и просто хороший человек со слабым и широким сердцем.
– Я такая глупая, – продолжала Поликсена Дмитриевна, улыбаясь. – Ну, чего я расплакалась? Конечно, вы мне друг. Иначе разве я бы пришла? Мне Фомушка сказал вчера, что он… что вы… Правда, что вы хотите уехать? – резко прервала она себя.
– Да… Я хотел в два часа. В Неаполь.
Поликсена вдруг обернулась к нему, сложив молящим жестом свои полные, смуглые ручки.
– Степан Маркович! Ради всего святого! Может быть, вы один, вы один спасете… Нет, что я говорю вздор. Я не то, не затем… Скажите мне, умоляю вас, только всю правду скажите, как у вас было с Мери?
Вальцев встал и прошелся по комнате. На лицо его легла мрачная тень. Поликсена следила за ним глазами.
– Разве она вам не сказала? – произнес он тихо, останавливаясь. – Ну, все равно, я вам тоже скажу, я знаю, вы ей как мать, да и скрывать от вас ничего не хочу. Вам, верно, это нужно, если вы спрашиваете. Тогда, прошлым летом… у вас в Липках. Я, вы знаете, для Калининых там жил… – Он перевел дух и продолжал: – У меня было много свободного времени. Вы сами просили меня заниматься с Мери, читать. Девочка милая, я смотрел на нее, как на дочь. Она так слушала все, что я говорил ей, так понимала… Но никогда я не говорил с ней, как с равной, у меня мысли не было, ведь я старик. И вдруг, накануне моего отъезда, в аллее, вечером… Она пришла такая странная… И вдруг плачет, рыдает, говорит, что любит меня и никогда не разлюбит. Мне казалось, что я брежу. Я пытался уговорить ее, но напрасно. Тогда я сказал прямо, что люблю другую – и навсегда. Она сразу присмирела, взглянула на меня и пошла прочь, тихо-тихо. Мне стало страшно, я хотел окликнуть ее и не посмел. Мне было тяжело и жалко, потому что я сразу ей поверил, такие слова у нее были – я не спал всю ночь и уехал рано, раньше Калининых. Потом я слышал, что она больна. Я получал письма, но не отвечал, и не читал писем. Жалкие такие, бедненькие письма, на розовых бумажках, они и теперь у меня целы. Я их не распечатывал, но сжечь не мог, не было сил, точно ребенка обидеть. Вот, никто не виноват, я знаю, что не виноват, а между тем, мне кажется, что я виноват. И все мы страдаем. Но ведь она… Скажите, Поликсена Дмитриевна, ведь она теперь… Ей теперь лучше?..
Поликсена покачала головой.
– Нет, Степан Маркович, не лучше. Странно это все, как Божье наказанье, а между тем так. Люблю я девочку мою больше жизни и ее несчастьем втрое страдаю. Я давно забыла, что мы сестры, она мне, как дочь. Ведь вежду нами около двадцати лет разницы. Она мне и сестра-то не родная, только по отцу. Я вам никогда не говорила, Степан Маркович, отец мой был странный человек. Двадцати лет от роду женился на горничной, простой деревенской девушке, малороссиянке. Я свою мать и не помню, я у дяди воспитывалась. Фомушку другому дяде отдали, пьянчужка был… Отец все за границей живал, и дурные слухи о нем приходили. Потом, слышим, увез монахиню молоденькую из монастыря, где-то в южной Италии, женился. Думали, не вернется, а тут-то он и вернулся – и меня к себе взял. Мачеха моя была моложе меня, красивая, глаза так и горят, только больная и своенравная. Как родилась Мери – она и не поправилась. Отец опять уехал за границу, умер там, все состояние мне одной оставил (знал, что никого не обижу) – а я девочку мою очень полюбила…
На глаза ее набегали слезы. Вальцев ходил по комнате и слушал. Ему хотелось, чтобы она скорее кончила.
– Милая Поликсена Дмитриевна, нам обоим тяжело… Но, подумайте, что же я могу? Это ребенок, Бог даст, она забудет, поправится…
– Нет, Степан Маркович, она не забудет. Вы сами знаете, что нет. И не поправится она. Я в Берлине ее возила к докторам. Нашли что-то у нее в сердце. Могла бы, говорят, и долго прожить, но она в таком состоянии… Степан Маркович! – вдруг выговорила она пронзительным шепотом и опять сложила руки: – Пойдите к ней!
Степан Маркович сел в кресло против Поликсены Дмитриевны и произнес:
– Зачем я пойду? Ей это хуже.
– Нет, нет, не хуже! Она ничего не хочет от вас. Ведь она все знает – она только видеть вас хочет! Я от нее, Степан Маркович! Она молит вас прийти. Неужели вы откажете… умирающей?
Вальцев провел по глазам своей худой рукой. Ему было трудно говорить.
– Не знаю… как это выразить, Поликсена Дмитриевна. У меня жалость… широкая, как любовь. Но ведь ей она не нужна. Ей нужно…
– О, ничего! Неужели вы не видите, не верите! – вскрикнула Поликсена почти радостно. – Пусть только будет у вас эта жалость… про какую вы сказали. Так вы придете?
– Приду, – медленно сказал Вальцев.