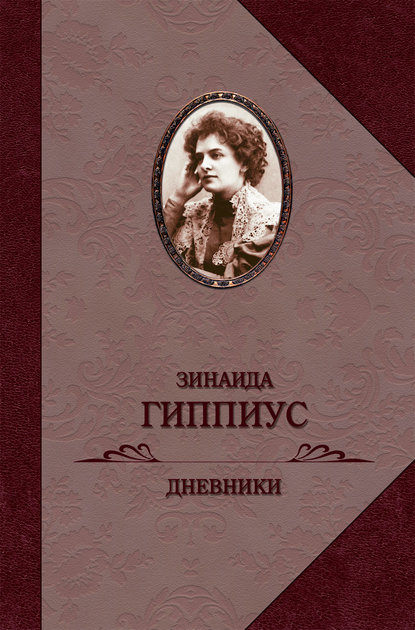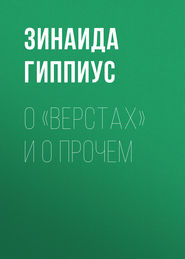По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дневники
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Когда распустили Думу (за блок и московский съезд), она громко прокричала «ура» и тихо разошлась. Лозунг депутатов был: «Сохраняйте спокойствие». И сами сохранили его, и помогли, при содействии правительства, другим в этом занятии. Пока что – хлыщ и провокатор Хвостов (новый министр) задействовал, черносотенцы съехались с уволенными (в Государственном совете сидящими) министрами, «объединенное дворянство» со своей стороны «припало к самодержцу».
На съезде митрополит объявил: не только царь – помазанник, но «соизволением Божиим поставленные министры тоже имеют на себе от Духа Свята» (Хвостов, например, ну и прочие).
Таково, мол, «учение Церкви». Своего рода декларация.
В указе о разгоне Думы было определено, что ее вновь соберут «не позже ноября». Однако вот не желают. Хвостов смеется: это «каприз»! Отложим лучше.
Блокисты не знают, куда девать глаза. Хранят свое спокойствие, хотя на сердце-то скребет…
…Без утра пробил час вечерний
И гаснет серая заря…
Вы отданы на посмех черни
Коварной волею Царя…
Воистину на посмех. И то ли еще будет!
Войне конца-края не видать. Германия уже съела, при помощи «коварной» Болгарии – новой союзницы, – Сербию; совсем. Ездят прямо из Берлина в Константинополь. Вот, неославянофилы, ваш Царь-Град, получайте. Закидали шапками?
У нас, и у союзников, на всех фронтах – окостенение. Во всяком случае мы ничего не знаем. Газет почти нельзя читать. Пустота и вялое вранье.
Царь катается по фронту со своим мальчиком и принимает знаки верноподданства. Туда, сюда – и опять в Царское, к престарелому своему Горемыкину.
Смутно помню этого Горемыкина в давние времена у баронессы Икскуль. Он там неизбежно и безлично присутствовал, на всех вечерах, и назывался «серым другом». Теперь уж он «белый», а не серый.
Впрочем, Николай вовсе не к этому белому дяде рвется в Царское. Там ведь Гришенька, кой, в свободные от блуда и пьянства часы, управляет Россией, сменяет министров и указует линию. В прочее время Россия ждет… пребывая в покое.
Сто раз мы имели случай лицезреть этого прохвоста; быть может, это упущение с исторической, с литературной, с какой еще угодно точки зрения, однако доводы разума были слабее моей брезгливости. А любопытство… тоже действовало вяло, так как этого сорта «старцев» немало мы перевидали. Этот – что называется «в случае», попал во дворец, а Щетинин, например, только тем от Гришки и отличается, что «неудачник», к царям не попал. Остальное – детально того же стиля, разве вот Щетинин «с теориями» поверх практики (ахинею несет и безграмотно ее записывает, а Гришка ни бе ни ме окончательно). Гришка начался в те же времена, как и Щетинин, но последний пошел «по демократии» и не успел, до провала, зацепиться (хоть и закидывал удочки в высшие слои); Гришка же, смышленая шельма, никого вокруг не собирал, в одиночку «там и сям» нюхал. То – пропадал, то – опять всплывал. Наконец, наступив на одного лаврского архимандрита (настоящего монаха, имевшего некое, малое, царское благоволение), как на ступеньку, ступеньку продавил, а к «царям» подтянулся. После летнего, перед войной, покушения на него безносой бабы[19 - Хиония (Феония) Гусева, царицынская портниха, прихожанка священника Илиодора (Труфанова). В июне 1914 года в селе Покровское Тобольской губернии напала с ножом на Распутина, считая его виновником опалы своего духовного отца.] особенно утвердился.
Да, вот годы, как безграмотный буквально, пьяный и болезненно-развратный мужик по своему произволу распоряжается делами государства Российского. И теперь, в это особенное время – особенно. Хвостов ненавидит его, а потому думаю, что Хвостов недолговечен. Ненавидит же просто из зависти. Но тот его перетянет. Остальные министры все побывали у Гришки на поклоне и кланялись, целуя край его хламиды. (Это не «художественный образ», а факт: иногда Гришка выходит к посетителю в белом балахоне, значит – надо к балахону прикладываться.)
Экая, прости Господи, сумасшедшая страна. И бедный Милюков тут думает «действовать» – в своих европейских манжетах.
Что это, идеализм, слепота, упрямство?
О, наши «реальные» политики!
24 ноября
Вот именной указ опять отложил Думу. И срок созыва уже не указан, а «пока не будет готов в комиссиях бюджет».
Все передовицы сегодня белы как снег. В «Речи», впрочем, остались кусочки, то там, то сям, отрывочные, что если, дескать, так, то мы (милюковцы и блокисты) готовы, за нами дело не станет, мы поторопимся с бюджетом, вот и все.
Теперь уже очевидно: любые шаги общества, интеллигенции, депутатов, умеренных партий и т. д. по избранному ими пути «спокойной оппозиции» должны покрывать их гораздо большим позором, чем отсутствие всяких шагов. Смирение так смирение.
Сложить руки и не мешать событиям. А события будут. Неумолимо будут, если Россия не пересидела свое время, не перегноилась, не перепрела в крепостничестве. Возможно ведь и это.
Только вот: если поле все-таки будет вспахано, и хорошо, – нашим «политикам» нельзя будет сказать: «И мы пахали». Если же такая борозда пройдет, что все поле вверх тормашками перевернется, тогда… тогда, увы, не сможет сказать наша «парламентарская умеренность»: «А мы не виноваты». Потому что виноваты. Отнюдь не в плохом делании, а в никаком. Ведь только они сейчас могут что-то делать. И делают – «Ничего».
Разве не вина?
Плеханов и другие заграничники вредны становятся (мало, ибо значения не имеют). Но они вполне невинны: оттуда не видать. Ничего. Ровно ничего.
Кажется, там разделение по линии войны. Борису[20 - Савинкову.] я перестала отвечать, бесполезно сквозь такую цензуру. По-видимому, он увлечен войной (еще бы, во Франции!), хотя в «Призыве» не участвует. «Призыв» – это тамошний журнал стоящих за войну русских социалистов. Я его не знаю, но верю тут Керенскому, который им возмущен. Керенский приблизительно на моей позиции стоит не только по отношению к войне, но, главное, по отношению к данному внутреннему положению военной России. Он не умнее тамошних эмигрантов, но он здесь, а потому он видит, что здесь такое. А эмигранты слепы. Я даже боюсь, что все эмигранты слепы, всех толков, и «призывисты», и не призывисты. По-разному, но в равной степени. Ибо и противо-призывисты, отрицающие войну, тоже путного ничего не говорят, отрицают просто и глупо, вне времени и пространства. А такого узкого и близкого положения, что при этом правительстве Россия прилично с войной не развяжется, – не понимают вовсе, и, конечно, ничего дальнейшего, что из этой аксиомы вытекает.
Депутат – грузин Чхенкели, уж на что немудрящий, а и тот великолепно понимает, и на этом именно стоит. Интересно, что он, грузин, утверждает это положение, как самый горячий русский патриот (подлинный); стоит, прежде всего, на любви к России. «Если б, – говорит, – я мог верить, что Россия не погибнет в войне, оставаясь при Царе, теперь… Но я не верю; ведь я вижу. Ведь все равно…»
Да, вот тут важно: а вдруг – все равно будет… что?
Керенский уверяет, что болен. Он часто к нам забегает. Мои юные поэты, студенты и другие постепенно преображаются, являясь в защитках. Кого взяли в солдаты, кого в юнкера, кто приспособился к лазарету. Все там будем. Живы еще гимназисты и барышни.
Много есть чего сказать о более «штатском» (об Андрее Белом, Боре Бугаеве, например, погибающем в Швейцарии у Штейнера), но как-то не говорится. И я все пишу почти газетно, что не будет интересно.
Газетное. Как бы не так. Газеты… пишут о театре. Даже Б.Суворину запретили писать без предварительной цензуры и оштрафовали за вчерашнюю заметку на 3 тысячи. Большею частью газеты белы как полотно. Молчание. Мороз крепкий (15°[21 - Здесь и далее температура приводится по шкале Реомюра (1 градус = 1,25 градуса Цельсия).] с ветром). «Чертоград» замерз. Ледяной покой… и даже без «капризов».
Хвостов, стиснув зубы, «охраняет» Гришку. Впрочем, черт их разберет, кто кого охраняет. У Гришки охрана, у Хвостова своя, хвостовские наблюдатели наблюдают за тришкиными, тришкины – за хвостовскими.
26 января 1916
Только сегодня объявил Николай II, что Думу дозволяет на 9 февраля. Белый дядя Горемыкин с почетом ушел на днях, взяли Штюрмера Бориса. Знаем эту цацу по Ярославлю, где он был губернатором в 1902 году. В тот год мы с Дмитрием ездили за Волгу, к староверам и сектантам, «во град Китеж», на Святое озеро. Были и в Ярославле, где Штюрмер нас «по-европейски» принимал. На обратном пути у него же видели приехавшего Иоанна Кронштадтского, очень было примечательно. К несчастью, моя статья обо всем этом путешествии написана была в жесточайших цензурных условиях (двойной цензуры), а записную книжку я потеряла.
Впрочем, не об этом речь, а о Штюрмере, о котором… почти нечего сказать. Внутренне – охранитель не без жестокости, но без творчества и яркости; внешне – щеголяющий (или щеголявший) своей «культурностью» перед писателями церемониймейстер. Впрочем, выставлял и свое «русофильство» (он из немцев), и церковную религиозность. Всегда имел тайную склонность к темным личностям.
Его премьерство не произвело впечатления на фундаментально «успокоенное» общество. Да и в самом деле! Не все ли равно? И Хвостов, и Штюрмер, – да мало ли их, премьеров и не-премьеров, – было и будет? Не знают, что и с разрешенной Думой теперь делать. После ужина – горчица.
Война – в статике. У нас (Рига – Двинск) и на западе. Балканы германцы уже прикончили. Греция замерла. Англичане ушли из Дарданелл.
Хлеба в Германии жидко, и она пошла бы на мир при данном ее блестящем положении. Но мир сейчас был бы столь же бессмыслен, как и продолжение войны. Замечательно: никому нет никуда выхода. И не предвидится.
При этом плохо везде. Истощение и неустройство.
У нас особенно худо. Нынешняя зима впятеро тяжелее и дороже прошлогодней. Рядом – постыдная роскошь наживателей.
…Интеллигенция как-то осела, завяла, не столь тормошится. Думское «успокоение» подействовало и на нее. Керенский все время болен, белый как бумага, уверяет, что у него «туберкулез». Однако не успокаивается, где-то скачет. К сожалению, я сейчас не знаю, что делается в подпольных партийных кругах. Но по некоторым признакам видно, что ничего значительного. Если там ведется какая-нибудь пропаганда, то она, по стиснутости, особого влияния не может иметь. В данный момент, по крайней мере. И с другой стороны, благодаря стиснутости и подпольности, она ведется неразумно, несознательно. Безответственно безответственными…
Уже выдвинул Штюрмер сразу двух своих мерзавцев: Гурлянда и Манасевича. Стыдно сказать, что знаешь их. А я знаю обоих. С Гурляндом сразу резко столкнулась в споре за губернаторским столом в Ярославле. А Манасевича видела тоже, за обедом у одной парижской дамы. Но об охранническо-провокаторской деятельности последнего мы были предупреждены, я уже не вступала с ним в споры, а любопытно наблюдала его и слушала… с какой-то «бурцевской» точки зрения…
Теперь охраннику доверен важный пост…
Несчастная страна, вот…
3 февраля
На днях уехала К. опять за границу. Вечером, перед ее отъездом (она у нас ночевала), приехал Керенский.
С того весеннего знакомства, когда мы взяли Керенского в автомобиль и похитили на «Зеленое кольцо», – Керенский с К. уже много видались, и в Москве, где она жила, и здесь.
Керенский приехал поздно, с какого-то собрания, почти без голоса (и вообще-то он больной). Мы сидели вчетвером (Дмитрий уже лег спать). Я отпаивала Керенского бутылкой какого-то завалящего вина.
Сразу образовались две партии, а бедная К. сделалась объектом, за который они боролись.
На съезде митрополит объявил: не только царь – помазанник, но «соизволением Божиим поставленные министры тоже имеют на себе от Духа Свята» (Хвостов, например, ну и прочие).
Таково, мол, «учение Церкви». Своего рода декларация.
В указе о разгоне Думы было определено, что ее вновь соберут «не позже ноября». Однако вот не желают. Хвостов смеется: это «каприз»! Отложим лучше.
Блокисты не знают, куда девать глаза. Хранят свое спокойствие, хотя на сердце-то скребет…
…Без утра пробил час вечерний
И гаснет серая заря…
Вы отданы на посмех черни
Коварной волею Царя…
Воистину на посмех. И то ли еще будет!
Войне конца-края не видать. Германия уже съела, при помощи «коварной» Болгарии – новой союзницы, – Сербию; совсем. Ездят прямо из Берлина в Константинополь. Вот, неославянофилы, ваш Царь-Град, получайте. Закидали шапками?
У нас, и у союзников, на всех фронтах – окостенение. Во всяком случае мы ничего не знаем. Газет почти нельзя читать. Пустота и вялое вранье.
Царь катается по фронту со своим мальчиком и принимает знаки верноподданства. Туда, сюда – и опять в Царское, к престарелому своему Горемыкину.
Смутно помню этого Горемыкина в давние времена у баронессы Икскуль. Он там неизбежно и безлично присутствовал, на всех вечерах, и назывался «серым другом». Теперь уж он «белый», а не серый.
Впрочем, Николай вовсе не к этому белому дяде рвется в Царское. Там ведь Гришенька, кой, в свободные от блуда и пьянства часы, управляет Россией, сменяет министров и указует линию. В прочее время Россия ждет… пребывая в покое.
Сто раз мы имели случай лицезреть этого прохвоста; быть может, это упущение с исторической, с литературной, с какой еще угодно точки зрения, однако доводы разума были слабее моей брезгливости. А любопытство… тоже действовало вяло, так как этого сорта «старцев» немало мы перевидали. Этот – что называется «в случае», попал во дворец, а Щетинин, например, только тем от Гришки и отличается, что «неудачник», к царям не попал. Остальное – детально того же стиля, разве вот Щетинин «с теориями» поверх практики (ахинею несет и безграмотно ее записывает, а Гришка ни бе ни ме окончательно). Гришка начался в те же времена, как и Щетинин, но последний пошел «по демократии» и не успел, до провала, зацепиться (хоть и закидывал удочки в высшие слои); Гришка же, смышленая шельма, никого вокруг не собирал, в одиночку «там и сям» нюхал. То – пропадал, то – опять всплывал. Наконец, наступив на одного лаврского архимандрита (настоящего монаха, имевшего некое, малое, царское благоволение), как на ступеньку, ступеньку продавил, а к «царям» подтянулся. После летнего, перед войной, покушения на него безносой бабы[19 - Хиония (Феония) Гусева, царицынская портниха, прихожанка священника Илиодора (Труфанова). В июне 1914 года в селе Покровское Тобольской губернии напала с ножом на Распутина, считая его виновником опалы своего духовного отца.] особенно утвердился.
Да, вот годы, как безграмотный буквально, пьяный и болезненно-развратный мужик по своему произволу распоряжается делами государства Российского. И теперь, в это особенное время – особенно. Хвостов ненавидит его, а потому думаю, что Хвостов недолговечен. Ненавидит же просто из зависти. Но тот его перетянет. Остальные министры все побывали у Гришки на поклоне и кланялись, целуя край его хламиды. (Это не «художественный образ», а факт: иногда Гришка выходит к посетителю в белом балахоне, значит – надо к балахону прикладываться.)
Экая, прости Господи, сумасшедшая страна. И бедный Милюков тут думает «действовать» – в своих европейских манжетах.
Что это, идеализм, слепота, упрямство?
О, наши «реальные» политики!
24 ноября
Вот именной указ опять отложил Думу. И срок созыва уже не указан, а «пока не будет готов в комиссиях бюджет».
Все передовицы сегодня белы как снег. В «Речи», впрочем, остались кусочки, то там, то сям, отрывочные, что если, дескать, так, то мы (милюковцы и блокисты) готовы, за нами дело не станет, мы поторопимся с бюджетом, вот и все.
Теперь уже очевидно: любые шаги общества, интеллигенции, депутатов, умеренных партий и т. д. по избранному ими пути «спокойной оппозиции» должны покрывать их гораздо большим позором, чем отсутствие всяких шагов. Смирение так смирение.
Сложить руки и не мешать событиям. А события будут. Неумолимо будут, если Россия не пересидела свое время, не перегноилась, не перепрела в крепостничестве. Возможно ведь и это.
Только вот: если поле все-таки будет вспахано, и хорошо, – нашим «политикам» нельзя будет сказать: «И мы пахали». Если же такая борозда пройдет, что все поле вверх тормашками перевернется, тогда… тогда, увы, не сможет сказать наша «парламентарская умеренность»: «А мы не виноваты». Потому что виноваты. Отнюдь не в плохом делании, а в никаком. Ведь только они сейчас могут что-то делать. И делают – «Ничего».
Разве не вина?
Плеханов и другие заграничники вредны становятся (мало, ибо значения не имеют). Но они вполне невинны: оттуда не видать. Ничего. Ровно ничего.
Кажется, там разделение по линии войны. Борису[20 - Савинкову.] я перестала отвечать, бесполезно сквозь такую цензуру. По-видимому, он увлечен войной (еще бы, во Франции!), хотя в «Призыве» не участвует. «Призыв» – это тамошний журнал стоящих за войну русских социалистов. Я его не знаю, но верю тут Керенскому, который им возмущен. Керенский приблизительно на моей позиции стоит не только по отношению к войне, но, главное, по отношению к данному внутреннему положению военной России. Он не умнее тамошних эмигрантов, но он здесь, а потому он видит, что здесь такое. А эмигранты слепы. Я даже боюсь, что все эмигранты слепы, всех толков, и «призывисты», и не призывисты. По-разному, но в равной степени. Ибо и противо-призывисты, отрицающие войну, тоже путного ничего не говорят, отрицают просто и глупо, вне времени и пространства. А такого узкого и близкого положения, что при этом правительстве Россия прилично с войной не развяжется, – не понимают вовсе, и, конечно, ничего дальнейшего, что из этой аксиомы вытекает.
Депутат – грузин Чхенкели, уж на что немудрящий, а и тот великолепно понимает, и на этом именно стоит. Интересно, что он, грузин, утверждает это положение, как самый горячий русский патриот (подлинный); стоит, прежде всего, на любви к России. «Если б, – говорит, – я мог верить, что Россия не погибнет в войне, оставаясь при Царе, теперь… Но я не верю; ведь я вижу. Ведь все равно…»
Да, вот тут важно: а вдруг – все равно будет… что?
Керенский уверяет, что болен. Он часто к нам забегает. Мои юные поэты, студенты и другие постепенно преображаются, являясь в защитках. Кого взяли в солдаты, кого в юнкера, кто приспособился к лазарету. Все там будем. Живы еще гимназисты и барышни.
Много есть чего сказать о более «штатском» (об Андрее Белом, Боре Бугаеве, например, погибающем в Швейцарии у Штейнера), но как-то не говорится. И я все пишу почти газетно, что не будет интересно.
Газетное. Как бы не так. Газеты… пишут о театре. Даже Б.Суворину запретили писать без предварительной цензуры и оштрафовали за вчерашнюю заметку на 3 тысячи. Большею частью газеты белы как полотно. Молчание. Мороз крепкий (15°[21 - Здесь и далее температура приводится по шкале Реомюра (1 градус = 1,25 градуса Цельсия).] с ветром). «Чертоград» замерз. Ледяной покой… и даже без «капризов».
Хвостов, стиснув зубы, «охраняет» Гришку. Впрочем, черт их разберет, кто кого охраняет. У Гришки охрана, у Хвостова своя, хвостовские наблюдатели наблюдают за тришкиными, тришкины – за хвостовскими.
26 января 1916
Только сегодня объявил Николай II, что Думу дозволяет на 9 февраля. Белый дядя Горемыкин с почетом ушел на днях, взяли Штюрмера Бориса. Знаем эту цацу по Ярославлю, где он был губернатором в 1902 году. В тот год мы с Дмитрием ездили за Волгу, к староверам и сектантам, «во град Китеж», на Святое озеро. Были и в Ярославле, где Штюрмер нас «по-европейски» принимал. На обратном пути у него же видели приехавшего Иоанна Кронштадтского, очень было примечательно. К несчастью, моя статья обо всем этом путешествии написана была в жесточайших цензурных условиях (двойной цензуры), а записную книжку я потеряла.
Впрочем, не об этом речь, а о Штюрмере, о котором… почти нечего сказать. Внутренне – охранитель не без жестокости, но без творчества и яркости; внешне – щеголяющий (или щеголявший) своей «культурностью» перед писателями церемониймейстер. Впрочем, выставлял и свое «русофильство» (он из немцев), и церковную религиозность. Всегда имел тайную склонность к темным личностям.
Его премьерство не произвело впечатления на фундаментально «успокоенное» общество. Да и в самом деле! Не все ли равно? И Хвостов, и Штюрмер, – да мало ли их, премьеров и не-премьеров, – было и будет? Не знают, что и с разрешенной Думой теперь делать. После ужина – горчица.
Война – в статике. У нас (Рига – Двинск) и на западе. Балканы германцы уже прикончили. Греция замерла. Англичане ушли из Дарданелл.
Хлеба в Германии жидко, и она пошла бы на мир при данном ее блестящем положении. Но мир сейчас был бы столь же бессмыслен, как и продолжение войны. Замечательно: никому нет никуда выхода. И не предвидится.
При этом плохо везде. Истощение и неустройство.
У нас особенно худо. Нынешняя зима впятеро тяжелее и дороже прошлогодней. Рядом – постыдная роскошь наживателей.
…Интеллигенция как-то осела, завяла, не столь тормошится. Думское «успокоение» подействовало и на нее. Керенский все время болен, белый как бумага, уверяет, что у него «туберкулез». Однако не успокаивается, где-то скачет. К сожалению, я сейчас не знаю, что делается в подпольных партийных кругах. Но по некоторым признакам видно, что ничего значительного. Если там ведется какая-нибудь пропаганда, то она, по стиснутости, особого влияния не может иметь. В данный момент, по крайней мере. И с другой стороны, благодаря стиснутости и подпольности, она ведется неразумно, несознательно. Безответственно безответственными…
Уже выдвинул Штюрмер сразу двух своих мерзавцев: Гурлянда и Манасевича. Стыдно сказать, что знаешь их. А я знаю обоих. С Гурляндом сразу резко столкнулась в споре за губернаторским столом в Ярославле. А Манасевича видела тоже, за обедом у одной парижской дамы. Но об охранническо-провокаторской деятельности последнего мы были предупреждены, я уже не вступала с ним в споры, а любопытно наблюдала его и слушала… с какой-то «бурцевской» точки зрения…
Теперь охраннику доверен важный пост…
Несчастная страна, вот…
3 февраля
На днях уехала К. опять за границу. Вечером, перед ее отъездом (она у нас ночевала), приехал Керенский.
С того весеннего знакомства, когда мы взяли Керенского в автомобиль и похитили на «Зеленое кольцо», – Керенский с К. уже много видались, и в Москве, где она жила, и здесь.
Керенский приехал поздно, с какого-то собрания, почти без голоса (и вообще-то он больной). Мы сидели вчетвером (Дмитрий уже лег спать). Я отпаивала Керенского бутылкой какого-то завалящего вина.
Сразу образовались две партии, а бедная К. сделалась объектом, за который они боролись.