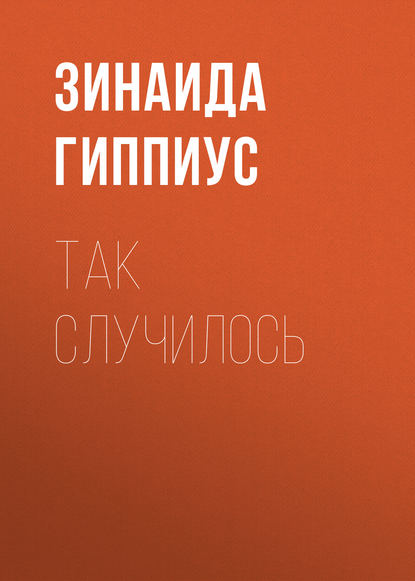По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Так случилось
Год написания книги
1935
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Зинаида Николаевна Гиппиус
«Уже в сумерки, – позвонили. Я отворил дверь и с недоумением посмотрел на незнакомую даму в темном.
– Не узнаете? – тихо сказал она. – Я Нератова. Кузина.
Нератовы – знакомая семья, где я бывал, изредка. Но посетительницу я все-таки не узнавал…»
Зинаида Гиппиус
Так случилось
Уже в сумерки, – позвонили. Я отворил дверь и с недоумением посмотрел на незнакомую даму в темном.
– Не узнаете? – тихо сказал она. – Я Нератова. Кузина.
Нератовы – знакомая семья, где я бывал, изредка. Но посетительницу я все-таки не узнавал.
– Я так, случайно к вам… Я Ольга Петровна.
Тут мне припомнилось, что у Нератовых живет их дальняя родственница. Мне даже рассказывали, что она приехала в Петербург учиться пению. Но, вместо консерватории, поступила в банк, и так и осталась в Петербурге. Незаметная, уже не молодая девушка. Я с ней слова никогда не сказал. Можно было удивиться визиту! Провел ее, однако, в кабинет. Когда зажег лампу и взглянул гостье в лицо, – оно меня поразило. То же лицо, – я его уже вспомнил, – бледное, смуглое, в юности, верно, красивое, но увядшее, с тенью над резко очерченными губами, – это лицо, теперь, было совершенно мертвое. Никогда не видал я такого лица у живого человека. Черные глаза были матовые, как у большой мертвой птицы. Я не знал, что сказать, но она сама тотчас заговорила, ровным, – тоже будто мертвым, – голосом.
– Случайно зашла к вам, по дороге. Увидела дом, вспомнила и зашла. Вы мне самый посторонний человек, как и я вам. Человек вообще. Кто-то. «Кому-то» мне вдруг и понадобилось сказать, что через полчаса я умру. Совсем. Должно быть, так бывает, когда знаешь, что наверно один и сейчас один умрешь.
Она улыбнулась, – лучше бы не улыбалась: оскалилась, раздвинув губы. Я молчал.
– Сказать «кому-то» – это почти никому, но надо все сказать: ведь уж заботы нет ни о чем. Мой жених… он три года был моим женихом. В нашу любовь я положила всю жизнь. Неделю тому назад вдруг написал, что, хотя и не признавался, но давно уж не любит меня, а любит молодую девушку, Марусю Рязанцеву. Надеется, что наше обручение как было тайным, так и останется. Я называю имена, потому что какое теперь имеет значение, что меня зовут Ольгой, его невесту Марусей Рязанцевой, а того, кого люблю, Алексеем Ден?
Она опять улыбнулась – оскалилась, а я пришел в некоторое остолбенение. Не от банальной любовной истории, конечно, в которую меня неприятно впутывали, а от того, что Алексея Ден, – Лелю Ден, – я знал; одно время мы были даже приятелями. И теперь изредка встречал, – не у Нератовых: что там делать блестящему гвардейскому офицеру, известному общему баловню и красавцу? И он – жених этой старой девы, Ольги Петровны? Уж не бредит ли она? Всю историю выдумала, в нее поверила, и сейчас на границе безумия. Однако, что Леля ухаживает за Марусей, я уже слышал, и Марусю видал, в каком-то артистическом кружке: девица-модерн, тогдашнего, предвоенного времени: живая, смелая, избалованная. Мне она не нравилась, была в ней какая-то фальшивка, но Лелю я понимал. Вот насчет Ольги Петровны не понимал. Она, между тем, продолжала свое:
– Не велел писать ему, но я написала, о свиданьи просила, чтоб он мне это живым голосом сказал; что мне так нужно. Вернул письмо, с припиской: «А мне не нужно. Не пиши, больше не отвечу». Но я еще раз написала; мне, главное, чтоб он никак меня не боялся. Я ничего ему худого не желаю и не сделаю, и к Марусе нет у меня зла. Да и себе самой дурного я не хочу. Никто не повинен, что я умерла. Случилось. А случилось – мое дело одно еще, маленькое, – докончить. Думала, как? Фонтанка лучше всего, выбора ведь и не много. А там есть одно местечко… К нему и шла; к вам – по дороге: тоже так случилось, чтоб кому-то сказать. Сказала – теперь пойду.
Поднялась сразу, словно на пружинах. Но тут я, полунеожиданно для себя самого, схватил ее за руку, дернул опять на стул и начал грубо на нее кричать.
– Сидите! Я ваши глупые ламентации слушал, извольте и вы меня послушать! Потом можете убираться ко всем чертям. Коли правда, что Лелька Ден хотел на вас жениться, а не навообразили вы все это себе, – молодец он, что вовремя отъехал! Потому что вы шантажистка, да! Я знаю, что говорю!
Но, по совести, не очень знал, и отчего так кричу на нее – тоже не совсем знал. В конце концов, эта нератовская родственница, эта Ольга Петровна, с ее судьбой, была мне глубоко безразлична. Но действовала, должно быть, невыносимая неприятность мертвого лица, такая невыносимая, что где уж тут сдержаться. Кстати и мысль мелькнула: если передо мной истеричка, – с ними надо строго. И я продолжал орать:
– Скажите пожалуйста! Такая любовь у нее, что чуть не по ней – готово, умерла от любви! В Фонтанку идет, «доканчиваться»! Как оригинально! Черта вы там любили, только не Лелю и не другого кого, – себя, себя в первую голову! Я Лельку не сужу; каков ни на есть; но вы, ежели не врете, не навыдумывали, а вправду были его невестой, – за что вы на его плечи себя, утопленницу, наложить хотите, – таскай всю жизнь! Это любовь? Любовь?
Она покорно не двигалась. Смотрела на меня широко раскрытыми, черными глазами. И мне показались они уже не такими матовыми: что-то вроде испуганного внимания в них было, и лицо от этого изменилось. Чуть заметно изменилось, но мне стало легче, и я невольно снизил тон.
– Все повторяете: случилось. Вот это, мол, случилось, вот так случилось. Да много мы понимаем, что такое с нами случается, что завтра случится? Если б вы на месте умерли, ну, можно бы сказать, что это с вами случилось. А то, не угодно ли, будто случилась смерть, да надо еще случай доканчивать, самовольно в Фонтанку лезть! И все потому, что вы, вы, Ольга Петровна, гвардейскому офицеру не нужны оказались…
– Вы его знаете… Лелю?
– Да-с, знаю. И, поверьте, он в тысячу раз приятнее мне, понятнее гораздо. А вы… да делайте, что хотите, не красуйтесь только собственной любовью: права не имеете! Конечно, если вы больны, если все наврали… Ведь дико же: вы и Леля Ден! Ведь он вас лет на 5-6 моложе.
– Я правду, нет, я правду… – сказал она, вдруг всхлипнув, положила голову на согнутую руку, на стол, и заплакала. Не истерически заплакала, – тихо, горько, и все старалась, другой рукой, не подымая лица, вытащить из жалкой сумочки платок. А мне от этих слез стало отдохновенно, почти весело. Я уж не думал, что она «наврала». Но это все равно. А вот мертвечины этой перед собой я больше не увижу! Так не плачут те, кому осталось себя «доканчивать».
Ничуть, однако, не разжалобившись, я не перестал ей твердить, повторять примитивные вещи о любви, выбирая то, что на нее больше действовало. Не постеснялся высказать и несколько горьких истин о ней самой: пусть знает, что претендовать на вечную Лелину любовь не очень ей кстати… Хорошенько не помню уж, что говорил: получепуху, полуправду, – по наитию.
А кончили мы так: свободу ее стеснять не хочу, но предлагаю, если она при своем решении, подумав, останется, посоветовать обойтись без Фонтанки: ведь это уж недопустимо, ведь она поняла, что нельзя утопленницу на человека наваливать? Вместе поразмыслим, как сделать, чтоб он никогда ничего не узнал; я помогу.
Говорил я это честно, однако честно прибавил, что, по-моему, смерти с ней не случилось, доканчивать нечего и что она, как я вижу, сейчас и сама это понимает.
– Весь вопрос: любите ли вы его? Чувствуете любовь, значит живы. Нет – другое дело.
– Люблю, – тихонько сказал она. – Да, я понимаю… кажется, понимаю. Я не знаю. А вы мне верите? Верите, что сейчас не пойду… туда?
– Твердо верю. Будете упорствовать, я от слова не отказываюсь, совет дам, на свободу вашу не посягну, даже хоть и на своеволие ваше. А до тех пор… верю, что по глупому своеволию ничего не сделаете.
И она ушла.
Я оставался еще в Петербурге, но больше ее не видел.
Потом я уехал на несколько месяцев. А потом – война, и дальше, дальше… Я потерял из виду почти всех, кого знал, даже тех, кто был несравненно мне ближе Лели и какой-то Ольги Петровны. Этих я, потеряв, и забыл совсем. Ни разу, кажется, не вспомнил.
* * *
Светло-серый, зимний, парижский день. Я шел по одной из бесчисленных новых улочек в районе Мюэтт, где всегда так тихо, пустынно, безветренно и пахнет цементом от недоконченных домов.
Я шел даже не по тротуару, – прямо по дороге, потому что и направо, и налево была стройка. Шел не торопясь, однако идущих впереди незаметно обогнал и был уже шагах в пяти от них, когда вдруг услышал свое имя. Остановился, обернулся к окликнувшей меня старухе. Таких старух и стариков я встречал в этих местах на каждом шагу. Идут-ползут по двое, мало различимые, только либо она за него держится, либо он за нее. За мою старуху, крепкую, бодрую, жилистую, явно держался ее спутник: он горбился и слегка волочил ногу.
– Здравствуйте, – сказала старуха почти весело. – Узнала-таки вас! Не сразу, да ведь сколько воды утекло! Я Ольга Петровна. Забыли Петербург? Кирочную, где квартира ваша была? Я-то помню!.. А это Леля. Леля, что ж ты давнего приятеля не узнаешь?
Он поднял сухое лицо, обросшее жесткой серой бородой, и протянул мне руку. А у меня в голове, как в синема, все завертелось назад, назад… да неужели? Неужели это Леля? А беловолосая дама, которая так оживленно мне что-то рассказывает, блестя темными глазами, и совсем не замечает моего удивления, – неужели та самая Ольга Петровна, случайная моя посетительница с мертвым лицом?
– Проводите нас, вот тут, за углом, лавочка наша: новенькая. Прогорают нынче многие, а мы ничего, понемножку. Конечно, я больше, но и он тоже. Здоровье только у него, ну да что ж, после всего, после всех этих ранений. Теперь, слава Богу, может пожить спокойно. Так хорошо случилось.
– Все ты… – произнес старик и с привычной нежностью поглядел на свою старуху.
Я проводил их до чистенькой лавочки, где лежали, в окне, огурцы, колбаса, пирожки.
– Заходите как-нибудь, – приглашала Ольга Петровна. – Вот я вам порасскажу! Чего только с ним, да со мной, не было!
Но я уже и так, на пути к лавочке, понял главное. Понял, что любовь у Ольги Петровны была настоящая и что любовь эта была нужна.