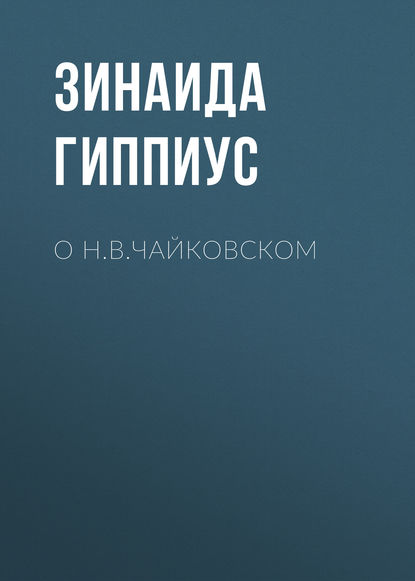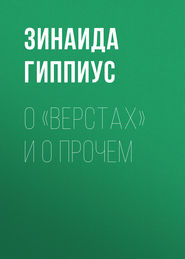По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
О Н.В.Чайковском
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
О Н.В.Чайковском
Зинаида Николаевна Гиппиус
«Моей речи, произнесенной 7 мая, в Париже, на собрании в память Н. В. Чайковского, я предпосылаю несколько слов. Они касаются и самого собрания, и статьи Д. Философова «Своеобразная богобоязнь». Статья эта, по существу очень справедливая, – в отношении к данному собранию не совсем точна. Это и неудивительно: автор берет собрание по газетным отчетам, которые все поверхностны, сбиты, и сути речей нисколько не передают…»
Зинаида Гиппиус
О Н.В.Чайковском
Предварительное замечание
Моей речи, произнесенной 7 мая, в Париже, на собрании в память Н. В. Чайковского, я предпосылаю несколько слов. Они касаются и самого собрания, и статьи Д. Философова «Своеобразная богобоязнь». Статья эта, по существу очень справедливая, – в отношении к данному собранию не совсем точна. Это и неудивительно: автор берет собрание по газетным отчетам, которые все поверхностны, сбиты, и сути речей нисколько не передают.
Конечно, старая, традиционная, архаическая «богобоязнь» еще жива. Еще сказывается наше «демократическое» воспитание. А воспитание, для среднего человека, сильнее всяких последующих переживаний и событий. Всю жизнь повторять, что «религия – реакция», – недюжинная душевная сила нужна, чтобы вдруг приняться за серьезный пересмотр этого положения. Чаще встречаются люди (и теперь особенно часто), которые обладают просто запасом гражданского мужества; такой, очень искренний, человек, оставляя положение не пересмотренным, все-таки идет к религии, «хотя она и реакция». Я, по совести, не знаю, как отнестись к этому явлению. Уж не лучше ли старый атеизм и слепая богобоязнь? Ибо идти к религии, принимать религию, как «реакцию», – значит и действительно найти в ней реакцию. Найти настоящую «религию-реакцию».
Было бы несправедливо, однако, не отметить и некоторый общий сдвиг в нашей демократической интеллигенции. Слово «религия» уже не звучит таким безоговорочным «жупелом», как звучала раньше. Богобоязнь, прежде гордая и обязательная, ныне сделалась стыдлива. Является сознание, что она… не совсем «культурна». И если кое-кто скрывает эту богобоязнь из нового страха – прослыть «некультурным», другие, действительно культурные люди, не становясь религиозными, к позиции религиозной свое отношение изменили. Таков, например, П. Н. Милюков, который даже печатно отказывался от положения: «религия – реакция».
Но традиция дает себя знать тем, что в области религии представители нашей интеллигенции остаются крайне неосведомленными, и в тех случаях, когда им с этой областью приходится сталкиваться (а случаи учащаются), – неосведомленность ведет иногда к примитивным недоразумениям.
Нечто вроде такого недоразумения вышло и на поминках Н. В. Чайковского. Оно прошло незамеченным и в газетных отчетах не отразилось, а между тем значения не лишено.
Обойти молчанием область религии, говоря о Чайковском, было невозможно. Упомянуть о «вере» этого заслуженного народника и революционера, как о «старческой блажи», П. Н. Милюков, конечно, не мог (да и никто этого не говорил, а Милюков, ручаюсь, так и не думал). Но в своей речи он, касаясь, со всей осторожностью, данной стороны, подчеркнул, однако, любовь Чайковского к жизни, к реальности, к материи, из чего, к нашему удивлению, вывел, что «потустороннее его не интересовало». Если бы так, то Чайковского, очевидно, нельзя было бы и назвать «религиозным» человеком; какая уж религия при полном равнодушии к потустороннему? Но тут повинен общий интеллигентский взгляд на религию: она во всяком случае нечто такое, что непременно отрывает от земных интересов, от земной любви, отрицает материю и плоть мира, все «посюстороннее» во имя «потустороннего». А так как Чайковский, действительно, жил и горел любовью к земному миру, к людям, – то не следует ли из этого, что «потусторонним» он не интересовался?
Мне и Мережковскому, как многим присутствовавшим на собрании, были ясны причины недоразумения. Да и факт, что у Чайковского был интерес к «потустороннему», не подлежал сомнению. Мережковский обратился к президиуму с просьбой дать ему слово для некоторой необходимой поправки, но президиум, в лице Н. Д. Авксентьева, отказал ему, находя, что это будет иметь вид полемики, а полемика для данного собрания нежелательна.
Я касаюсь инцидента не для того, чтобы оспаривать соображения президиума, которые имели свои основания, но чтобы сделать поправку к газетным отчетам, где протест Мережковского был отнесен к этой части речи Милюкова, где он говорил о «поколениях». Это было не характерно; и очень характерно, напротив, что в нашей демократической интеллигенции, даже среди наиболее культурных ее представителей, уже отказавшихся от формулы «религия – реакция», уже освободившихся от «богобоязни», – все-таки держится старый упрощенный взгляд на религию: Бог – значит рвись в небеса, а до земли тебе нет дела; дух – значит отрицай плоть и на материю не заглядывайся.
Чайковский был воплощенным отрицанием такого взгляда. Но что он ни делал, что он ни говорил, – никем в полноте он понят и принят не был. Принимавшие его дела – не видели его духа; а близкие, казалось бы, духу его – не принимали его дел. На панихиде, в парижской церкви, тоже произошел маленький, незаметный и очень характерный инцидент: кто-то представителей или представительниц православия известного уклона довольно громко заметил по адресу собравшихся на панихиду демократов: «Вот пришли революционеры». Замечание было сделано таким тоном, что даже вызвало одного из религиозных демократов на довольно резкую реплику.
Боюсь, что непонимание Чайковского с этой стороны, со стороны лиц, мнящих и называющих себя «религиозными» и «христианами», – гораздо хуже демократической «богобоязни», о которой говорит Философов и которая, как я утверждаю, в нашей интеллигенции мало-помалу исчезает. Следы ее – недостаточная информированность в вопросах религии, – вещь естественная, понятная и, в сущности, невинная; со временем исчезнет, конечно, и она.
Я не сомневаюсь, что Н. В. Чайковского будут вспоминать все с большей и с большей ясностью; образ этого человека поможет понять еще не понимаемую, неразрывную, реальную, религиозную, связь плоти и духа.
Н. В. Чайковский
Николай Васильевич Чайковский… Трудно говорить о нем, вспоминать о нем, как о мертвом. Я, по крайней мере, не могу. Этот человек мне близок. И близок в своей сущности, – в той области, о которой и вообще-то говорить трудно: это – область религии.
Однако религиозное исповедание Чайковского есть то, что освещает весь его образ, и увидеть его нельзя, не увидев этой главной точки или не считаясь с нею.
Я говорю не о религиозном миросозерцаньи, а именно о религиозном исповедании. Это две вещи разные. У Чайковского исповеданье – было его кровью и плотью, было неотделимо от существа его, было реальностью всей его жизни. О нем пусто сказать пустые слова: «Носил Бога в душе». Нет, не в душе, – в сознательной человеческой цельности его – обитал Бог. И не отвлеченный Бог, а тот, имя которого он сам называл: Отец, Слово, Дух – в нераздельности.
Веками слышали люди: «Слово стало плотью…» или: «Так возлюбил Бог мир, что Сына своего отдал…» Чайковский не только слышал, но и услышал, и взял это в себя, поняв как-то непостижимо-реально. Отсюда, из реальности понимания, и вся его любовь к человеку и миру, весь путь, вся материя его жизни и деятельности. Высокую ценность ее признают, но называют, как придется: моральной, прекрасной, гуманной, идеалистичной… Говорят о лучах, но не видят, откуда лучи. Не знают, что без источника света не было бы и лучей.
К незнающие, только их тепло чувствующим, Чайковский был беспредельно терпим и милосерден. Он ведь и сам не сразу пришел к полному, определенному осознанию своей веры и к ее исповеданию. Неправильно, однако, называть его путь исканием истины. Истина была с ним всегда, верно ведущая, а искал он лишь того, чтобы ее, осязаемую, ощутимую, – увидеть глазами, назвать земным словом. И нашел, и твердо верил, что если он нашел – значит, найдут и другие. От «других» он не отделял себя: все – как он, все – «ближние». Он, естественно, не думая об этом, любил ближнего, как самого себя.
Оттого и был терпим к непонимающим, без «проповедничества». Проповедник всегда немножко насильник: слушайте меня! Вы не знаете – я знаю! Чайковский знал; но, веря, что в свое время другие тоже узнают, – лишь помогал им, утверждал в них то, что они, уже понимали, в чем, по его мнению, были уже на верном пути. Не навязывал человеку Бога. С каждым говорил его языком. Брал в меру его «возраста». Не высшее ли это милосердие?
Но он был и строг; был и непреклонен. Непреклонен к злу, а строг с теми, кого считал и называл «братьями», с теми, кто говорил, что видит ту же истину, пришел к тому же исповеданию. К ним он был требователен, как к самому себе, и малейшее действие или слово, если оно казалось ему отступлением в сторону, вызывало в нем огорчение и суровую отповедь.
У меня много писем Чайковского. Я прочту два из них, уже последнего времени. Они ярко отражают эту строгость к духовно-близким, – в данном случае ко мне, – так же ярко отражая и его собственную, главную, сущность.
Но сначала два слова пояснения.
Лето 25 года, последнее лето своей жизни, Чайковский проводил в Медоне, под Парижем. Мы, как всегда, переписывались. Перед тем, как ответить на одно из моих писем, Н. В. прочел стихотворение, тогда мною напечатанное, «Молчи, молчи»…[1 - Стихотворение это, на собрании не приведенное, мож. б., для ясности последующего, не будет лишним привести здесь.Молчи. Молчи. Не говори с людьми.Не подымай с души покрова.Все люди на земле, – пойми! пойми!Ни одного не стоят слова.Не плачь. Не плачь.Блажен, кто от людейСвои печали вольно скроет.Весь этот мир одной слезы твоей –Да и ничьей слезы – не стоит.Таись. Стыдясь страданья твоего.Иди – и проходи спокойно.Ни слов, ни слез, ни вздоха – ничегоЗемля и люди недостойны.].
И вот его письмо от 1 августа 1925 г.
«…Спасибо на теплом слове. Совершенно искренно хотел бы ответить вам тем же. Но, к сожалению, должно быть, я не понимаю (сбоку: так думает NN, восхищенный и формой и содержанием) ваших мыслей, вложенных в ваши прекрасные по форме, на мой взгляд – сатанинские (или, если угодно, байроно-тютчевские) стихи в 23 т. „Совр. Зап.“, – по содержанию.
По-вашему: „ни слов, ни слез, ни вздоха, – ничего – земля и люди недостойны…“. А кто же их достоин, по-вашему? „Небо и Дух“, что ли? Но ведь Они в ваших слезах и вздохах, а тем более в словах, не нуждаются. А тем, кто в них действительно нуждается, и кому, согласно Нагорной Проповеди, они предназначаются, вы гордо и легкомысленно отказываете. Только сатана может учить этому, а не последователь Христа.
И дальше: как можно в реальной жизни отделять Дух от Материи? и особенно в реальном человеке. Вон 2000 лет тому назад Воплощенный в Христе Дух победил материю, и тем открыл людям путь к воскресенью. А через 2000 лет усилий и культуры людской материя победила Дух, хотя бы нескольких поколений (материализм, марксизм, большевизм и т. п.).
И теперь нам, грешным, приходится искать Синтеза этой борьбы, объединения этих двух извечных начал… в чем же? Не в одухотворенном ли человеке, не во Втором ли Пришествии Бога к людям, с тем, чтобы уж навсегда остаться с ними, вселившись в них для жизни на одухотворенной земле?
А вы и этих людей, и эту землю объявляете недостойными ваших духовных вожделений…
Не понимаю и протестую!
Не поздно ли возвращаться к остаткам байронизма для того, чтобы в обольстительной форме смущать „малых сих“, склонных становиться в позы сатаны из-за своих неудач в жизни. (В реальной-то жизни он, сатана, такими пустяками не занимается, а пользуясь удобным моментом смущения духа событиями, кричит: „Грабь награбленное!“) Кто же этот „Я“, от имени которого вы говорите?..
Мой этюд о „Счастье“ не напечатан, а ходит по рукам в рукописи. Я уже давно его не видел. А писать для печати у меня нет навыка, да нет и дерзости, ибо моя плохая память и недостаточность образовательного багажа часто сажают меня в „калоши“. Моя сила в интуиции, а ее одной для печати мало. Вот я
пищу для друзей.
Целую вас. Ваш…».
В моем ответе, не в виде оправдания, а в виде пояснения, говорилось, что у всех людей бывают в жизни разные моменты, бывают и моменты сомнения… Они мелькают – и проходят. Но у человека со склонностью писать стихи, т. е. запечатлевать моменты, бывает, порою, запечатлен и этот, темный…
Но, конечно, Н. В. был прав. В данном стихотворении, может быть, и нет того сатанизма, который там усмотрела его взволнованная душа, но я говорю о правде по существу. Не всякий «запечатленный» момент подлежит обнародованию. Это не цензура, а, в сознании ответственности, – свободное самоограничение. Его глубоко понимал Чайковский.
Вот его следующее письмо, уже из Англии, от 15 авг.
«…Очень рад нашей духовной близости и от души благодарю вас за вашу искренность, что избавило меня от лишней занозы в душе.
Из вашего объясненья я понял одно, что я совершенный профан в деле поэтического творчества. Стихов я, действительно, никогда не писал, исключая двух-трех пустяков. И для меня и сейчас непонятно, как это возможно творить в такой совершенной форме с таким чуждым своему духовному существу содержанием? Да, и у меня, конечно, бывают упадочные настроения, когда свет меркнет, вокруг пустота и впереди ничего ясного и захватывающего. Но это меня не только не увлекает до творчества, а, напротив, обессиливает и угнетает. Откуда же у вас берется такая подлая гармония ритма и звука с отрицательным настроением?..».
Пропускаю несколько строк, касающихся моей статьи о Вл. Соловьеве, русской интеллигенции и нашей «близости в вопросах духа и религии»… Вот конец:
«Я сюда приехал на полтора месяца, т. е. до конца сентября, когда надеюсь вернуться в Париж, если мое полупарализованное состояние удастся выправить. Если же оно превратится в настоящий паралич или останется без перемены, мне возвращаться не придется, а считать свою активную жизнь оконченной. Дай Бог сохранить способность хоть продолжать свои воспоминания. Сейчас могу ходить только очень медленно и на короткие расстояния, и не могу делать руками никаких усилий, – даже писание этого письма утомляет и требует отдыхов. От души обнимаю вас. Ваш…».
Письмо написано уже гораздо более слабым почерком, нежели предыдущее. Н. В. относился к смерти с совершенной простотой. Часто встречаются люди, которые говорят, что не боятся смерти. Но видеть человека с такой ощутимой, действительной небоязнью смерти – мне не приходилось. И это – при полной, молодой, любви к жизни, которую Чайковский вовсе не идеализировал. Назвать его «идеалистом» так же мало, как назвать моралистом. Сила, помогавшая ему соединять бесстрашие перед смертью с любовью к земле, к земной жизни, – была уверенная вера в неистребимость бытия истинного, в вечность жизни преображенного мира и человека-личности; вера, что «людям открыт путь к воскресенью…».
Чайковский был новый религиозный человек. Не потому, что исповедовал новую религию, а потому что принял ее, исповедовал ее, по-новому – реально, так, как примет ее лишь грядущее, новое человечество.
Не проповедник. Но для всякой живой души – его жизнь, его образ, сам он, в целостности своей – наилучшая проповедь религии Отца-Слова-Духа, которую он называл религией «Счастья».
Николай Васильевич Чайковский умер? Какая неправда! Если мы сами, сейчас, не мертвы, то не можем мы не чувствовать, что, вот, он здесь, – живой среди живых.
notes
Зинаида Николаевна Гиппиус
«Моей речи, произнесенной 7 мая, в Париже, на собрании в память Н. В. Чайковского, я предпосылаю несколько слов. Они касаются и самого собрания, и статьи Д. Философова «Своеобразная богобоязнь». Статья эта, по существу очень справедливая, – в отношении к данному собранию не совсем точна. Это и неудивительно: автор берет собрание по газетным отчетам, которые все поверхностны, сбиты, и сути речей нисколько не передают…»
Зинаида Гиппиус
О Н.В.Чайковском
Предварительное замечание
Моей речи, произнесенной 7 мая, в Париже, на собрании в память Н. В. Чайковского, я предпосылаю несколько слов. Они касаются и самого собрания, и статьи Д. Философова «Своеобразная богобоязнь». Статья эта, по существу очень справедливая, – в отношении к данному собранию не совсем точна. Это и неудивительно: автор берет собрание по газетным отчетам, которые все поверхностны, сбиты, и сути речей нисколько не передают.
Конечно, старая, традиционная, архаическая «богобоязнь» еще жива. Еще сказывается наше «демократическое» воспитание. А воспитание, для среднего человека, сильнее всяких последующих переживаний и событий. Всю жизнь повторять, что «религия – реакция», – недюжинная душевная сила нужна, чтобы вдруг приняться за серьезный пересмотр этого положения. Чаще встречаются люди (и теперь особенно часто), которые обладают просто запасом гражданского мужества; такой, очень искренний, человек, оставляя положение не пересмотренным, все-таки идет к религии, «хотя она и реакция». Я, по совести, не знаю, как отнестись к этому явлению. Уж не лучше ли старый атеизм и слепая богобоязнь? Ибо идти к религии, принимать религию, как «реакцию», – значит и действительно найти в ней реакцию. Найти настоящую «религию-реакцию».
Было бы несправедливо, однако, не отметить и некоторый общий сдвиг в нашей демократической интеллигенции. Слово «религия» уже не звучит таким безоговорочным «жупелом», как звучала раньше. Богобоязнь, прежде гордая и обязательная, ныне сделалась стыдлива. Является сознание, что она… не совсем «культурна». И если кое-кто скрывает эту богобоязнь из нового страха – прослыть «некультурным», другие, действительно культурные люди, не становясь религиозными, к позиции религиозной свое отношение изменили. Таков, например, П. Н. Милюков, который даже печатно отказывался от положения: «религия – реакция».
Но традиция дает себя знать тем, что в области религии представители нашей интеллигенции остаются крайне неосведомленными, и в тех случаях, когда им с этой областью приходится сталкиваться (а случаи учащаются), – неосведомленность ведет иногда к примитивным недоразумениям.
Нечто вроде такого недоразумения вышло и на поминках Н. В. Чайковского. Оно прошло незамеченным и в газетных отчетах не отразилось, а между тем значения не лишено.
Обойти молчанием область религии, говоря о Чайковском, было невозможно. Упомянуть о «вере» этого заслуженного народника и революционера, как о «старческой блажи», П. Н. Милюков, конечно, не мог (да и никто этого не говорил, а Милюков, ручаюсь, так и не думал). Но в своей речи он, касаясь, со всей осторожностью, данной стороны, подчеркнул, однако, любовь Чайковского к жизни, к реальности, к материи, из чего, к нашему удивлению, вывел, что «потустороннее его не интересовало». Если бы так, то Чайковского, очевидно, нельзя было бы и назвать «религиозным» человеком; какая уж религия при полном равнодушии к потустороннему? Но тут повинен общий интеллигентский взгляд на религию: она во всяком случае нечто такое, что непременно отрывает от земных интересов, от земной любви, отрицает материю и плоть мира, все «посюстороннее» во имя «потустороннего». А так как Чайковский, действительно, жил и горел любовью к земному миру, к людям, – то не следует ли из этого, что «потусторонним» он не интересовался?
Мне и Мережковскому, как многим присутствовавшим на собрании, были ясны причины недоразумения. Да и факт, что у Чайковского был интерес к «потустороннему», не подлежал сомнению. Мережковский обратился к президиуму с просьбой дать ему слово для некоторой необходимой поправки, но президиум, в лице Н. Д. Авксентьева, отказал ему, находя, что это будет иметь вид полемики, а полемика для данного собрания нежелательна.
Я касаюсь инцидента не для того, чтобы оспаривать соображения президиума, которые имели свои основания, но чтобы сделать поправку к газетным отчетам, где протест Мережковского был отнесен к этой части речи Милюкова, где он говорил о «поколениях». Это было не характерно; и очень характерно, напротив, что в нашей демократической интеллигенции, даже среди наиболее культурных ее представителей, уже отказавшихся от формулы «религия – реакция», уже освободившихся от «богобоязни», – все-таки держится старый упрощенный взгляд на религию: Бог – значит рвись в небеса, а до земли тебе нет дела; дух – значит отрицай плоть и на материю не заглядывайся.
Чайковский был воплощенным отрицанием такого взгляда. Но что он ни делал, что он ни говорил, – никем в полноте он понят и принят не был. Принимавшие его дела – не видели его духа; а близкие, казалось бы, духу его – не принимали его дел. На панихиде, в парижской церкви, тоже произошел маленький, незаметный и очень характерный инцидент: кто-то представителей или представительниц православия известного уклона довольно громко заметил по адресу собравшихся на панихиду демократов: «Вот пришли революционеры». Замечание было сделано таким тоном, что даже вызвало одного из религиозных демократов на довольно резкую реплику.
Боюсь, что непонимание Чайковского с этой стороны, со стороны лиц, мнящих и называющих себя «религиозными» и «христианами», – гораздо хуже демократической «богобоязни», о которой говорит Философов и которая, как я утверждаю, в нашей интеллигенции мало-помалу исчезает. Следы ее – недостаточная информированность в вопросах религии, – вещь естественная, понятная и, в сущности, невинная; со временем исчезнет, конечно, и она.
Я не сомневаюсь, что Н. В. Чайковского будут вспоминать все с большей и с большей ясностью; образ этого человека поможет понять еще не понимаемую, неразрывную, реальную, религиозную, связь плоти и духа.
Н. В. Чайковский
Николай Васильевич Чайковский… Трудно говорить о нем, вспоминать о нем, как о мертвом. Я, по крайней мере, не могу. Этот человек мне близок. И близок в своей сущности, – в той области, о которой и вообще-то говорить трудно: это – область религии.
Однако религиозное исповедание Чайковского есть то, что освещает весь его образ, и увидеть его нельзя, не увидев этой главной точки или не считаясь с нею.
Я говорю не о религиозном миросозерцаньи, а именно о религиозном исповедании. Это две вещи разные. У Чайковского исповеданье – было его кровью и плотью, было неотделимо от существа его, было реальностью всей его жизни. О нем пусто сказать пустые слова: «Носил Бога в душе». Нет, не в душе, – в сознательной человеческой цельности его – обитал Бог. И не отвлеченный Бог, а тот, имя которого он сам называл: Отец, Слово, Дух – в нераздельности.
Веками слышали люди: «Слово стало плотью…» или: «Так возлюбил Бог мир, что Сына своего отдал…» Чайковский не только слышал, но и услышал, и взял это в себя, поняв как-то непостижимо-реально. Отсюда, из реальности понимания, и вся его любовь к человеку и миру, весь путь, вся материя его жизни и деятельности. Высокую ценность ее признают, но называют, как придется: моральной, прекрасной, гуманной, идеалистичной… Говорят о лучах, но не видят, откуда лучи. Не знают, что без источника света не было бы и лучей.
К незнающие, только их тепло чувствующим, Чайковский был беспредельно терпим и милосерден. Он ведь и сам не сразу пришел к полному, определенному осознанию своей веры и к ее исповеданию. Неправильно, однако, называть его путь исканием истины. Истина была с ним всегда, верно ведущая, а искал он лишь того, чтобы ее, осязаемую, ощутимую, – увидеть глазами, назвать земным словом. И нашел, и твердо верил, что если он нашел – значит, найдут и другие. От «других» он не отделял себя: все – как он, все – «ближние». Он, естественно, не думая об этом, любил ближнего, как самого себя.
Оттого и был терпим к непонимающим, без «проповедничества». Проповедник всегда немножко насильник: слушайте меня! Вы не знаете – я знаю! Чайковский знал; но, веря, что в свое время другие тоже узнают, – лишь помогал им, утверждал в них то, что они, уже понимали, в чем, по его мнению, были уже на верном пути. Не навязывал человеку Бога. С каждым говорил его языком. Брал в меру его «возраста». Не высшее ли это милосердие?
Но он был и строг; был и непреклонен. Непреклонен к злу, а строг с теми, кого считал и называл «братьями», с теми, кто говорил, что видит ту же истину, пришел к тому же исповеданию. К ним он был требователен, как к самому себе, и малейшее действие или слово, если оно казалось ему отступлением в сторону, вызывало в нем огорчение и суровую отповедь.
У меня много писем Чайковского. Я прочту два из них, уже последнего времени. Они ярко отражают эту строгость к духовно-близким, – в данном случае ко мне, – так же ярко отражая и его собственную, главную, сущность.
Но сначала два слова пояснения.
Лето 25 года, последнее лето своей жизни, Чайковский проводил в Медоне, под Парижем. Мы, как всегда, переписывались. Перед тем, как ответить на одно из моих писем, Н. В. прочел стихотворение, тогда мною напечатанное, «Молчи, молчи»…[1 - Стихотворение это, на собрании не приведенное, мож. б., для ясности последующего, не будет лишним привести здесь.Молчи. Молчи. Не говори с людьми.Не подымай с души покрова.Все люди на земле, – пойми! пойми!Ни одного не стоят слова.Не плачь. Не плачь.Блажен, кто от людейСвои печали вольно скроет.Весь этот мир одной слезы твоей –Да и ничьей слезы – не стоит.Таись. Стыдясь страданья твоего.Иди – и проходи спокойно.Ни слов, ни слез, ни вздоха – ничегоЗемля и люди недостойны.].
И вот его письмо от 1 августа 1925 г.
«…Спасибо на теплом слове. Совершенно искренно хотел бы ответить вам тем же. Но, к сожалению, должно быть, я не понимаю (сбоку: так думает NN, восхищенный и формой и содержанием) ваших мыслей, вложенных в ваши прекрасные по форме, на мой взгляд – сатанинские (или, если угодно, байроно-тютчевские) стихи в 23 т. „Совр. Зап.“, – по содержанию.
По-вашему: „ни слов, ни слез, ни вздоха, – ничего – земля и люди недостойны…“. А кто же их достоин, по-вашему? „Небо и Дух“, что ли? Но ведь Они в ваших слезах и вздохах, а тем более в словах, не нуждаются. А тем, кто в них действительно нуждается, и кому, согласно Нагорной Проповеди, они предназначаются, вы гордо и легкомысленно отказываете. Только сатана может учить этому, а не последователь Христа.
И дальше: как можно в реальной жизни отделять Дух от Материи? и особенно в реальном человеке. Вон 2000 лет тому назад Воплощенный в Христе Дух победил материю, и тем открыл людям путь к воскресенью. А через 2000 лет усилий и культуры людской материя победила Дух, хотя бы нескольких поколений (материализм, марксизм, большевизм и т. п.).
И теперь нам, грешным, приходится искать Синтеза этой борьбы, объединения этих двух извечных начал… в чем же? Не в одухотворенном ли человеке, не во Втором ли Пришествии Бога к людям, с тем, чтобы уж навсегда остаться с ними, вселившись в них для жизни на одухотворенной земле?
А вы и этих людей, и эту землю объявляете недостойными ваших духовных вожделений…
Не понимаю и протестую!
Не поздно ли возвращаться к остаткам байронизма для того, чтобы в обольстительной форме смущать „малых сих“, склонных становиться в позы сатаны из-за своих неудач в жизни. (В реальной-то жизни он, сатана, такими пустяками не занимается, а пользуясь удобным моментом смущения духа событиями, кричит: „Грабь награбленное!“) Кто же этот „Я“, от имени которого вы говорите?..
Мой этюд о „Счастье“ не напечатан, а ходит по рукам в рукописи. Я уже давно его не видел. А писать для печати у меня нет навыка, да нет и дерзости, ибо моя плохая память и недостаточность образовательного багажа часто сажают меня в „калоши“. Моя сила в интуиции, а ее одной для печати мало. Вот я
пищу для друзей.
Целую вас. Ваш…».
В моем ответе, не в виде оправдания, а в виде пояснения, говорилось, что у всех людей бывают в жизни разные моменты, бывают и моменты сомнения… Они мелькают – и проходят. Но у человека со склонностью писать стихи, т. е. запечатлевать моменты, бывает, порою, запечатлен и этот, темный…
Но, конечно, Н. В. был прав. В данном стихотворении, может быть, и нет того сатанизма, который там усмотрела его взволнованная душа, но я говорю о правде по существу. Не всякий «запечатленный» момент подлежит обнародованию. Это не цензура, а, в сознании ответственности, – свободное самоограничение. Его глубоко понимал Чайковский.
Вот его следующее письмо, уже из Англии, от 15 авг.
«…Очень рад нашей духовной близости и от души благодарю вас за вашу искренность, что избавило меня от лишней занозы в душе.
Из вашего объясненья я понял одно, что я совершенный профан в деле поэтического творчества. Стихов я, действительно, никогда не писал, исключая двух-трех пустяков. И для меня и сейчас непонятно, как это возможно творить в такой совершенной форме с таким чуждым своему духовному существу содержанием? Да, и у меня, конечно, бывают упадочные настроения, когда свет меркнет, вокруг пустота и впереди ничего ясного и захватывающего. Но это меня не только не увлекает до творчества, а, напротив, обессиливает и угнетает. Откуда же у вас берется такая подлая гармония ритма и звука с отрицательным настроением?..».
Пропускаю несколько строк, касающихся моей статьи о Вл. Соловьеве, русской интеллигенции и нашей «близости в вопросах духа и религии»… Вот конец:
«Я сюда приехал на полтора месяца, т. е. до конца сентября, когда надеюсь вернуться в Париж, если мое полупарализованное состояние удастся выправить. Если же оно превратится в настоящий паралич или останется без перемены, мне возвращаться не придется, а считать свою активную жизнь оконченной. Дай Бог сохранить способность хоть продолжать свои воспоминания. Сейчас могу ходить только очень медленно и на короткие расстояния, и не могу делать руками никаких усилий, – даже писание этого письма утомляет и требует отдыхов. От души обнимаю вас. Ваш…».
Письмо написано уже гораздо более слабым почерком, нежели предыдущее. Н. В. относился к смерти с совершенной простотой. Часто встречаются люди, которые говорят, что не боятся смерти. Но видеть человека с такой ощутимой, действительной небоязнью смерти – мне не приходилось. И это – при полной, молодой, любви к жизни, которую Чайковский вовсе не идеализировал. Назвать его «идеалистом» так же мало, как назвать моралистом. Сила, помогавшая ему соединять бесстрашие перед смертью с любовью к земле, к земной жизни, – была уверенная вера в неистребимость бытия истинного, в вечность жизни преображенного мира и человека-личности; вера, что «людям открыт путь к воскресенью…».
Чайковский был новый религиозный человек. Не потому, что исповедовал новую религию, а потому что принял ее, исповедовал ее, по-новому – реально, так, как примет ее лишь грядущее, новое человечество.
Не проповедник. Но для всякой живой души – его жизнь, его образ, сам он, в целостности своей – наилучшая проповедь религии Отца-Слова-Духа, которую он называл религией «Счастья».
Николай Васильевич Чайковский умер? Какая неправда! Если мы сами, сейчас, не мертвы, то не можем мы не чувствовать, что, вот, он здесь, – живой среди живых.
notes