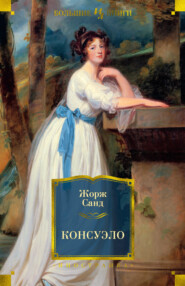По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Странствующий подмастерье
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Когда два соперничающих союза обосновываются в каком-нибудь городе, им редко удается сохранить между собой мир. Малейшее нарушение молчаливого соглашения о перемирии приводит к бурным столкновениям. Каждая из сторон пользуется любым поводом (или же выдумывает его), чтобы оспорить право конкурирующих подмастерьев жить и работать в данном городе; раздоры эти иной раз длятся годами, сопровождаясь кровавыми побоищами. В конце концов, если стороны оказываются равными по силе, упорству и неуступчивости и все словесные прения и драки ни к чему не приводят, остается последнее средство – разыграть город, точнее монополию подмастерьев данного союза селиться и работать в нем. Так сто десять лет тому назад (это факт исторический) город Лион разыгрывался между каменотесами Общества Соломона, прозванными чужими подмастерьями, иначе – волками, и каменотесами Общества мастера Жака, иначе – прохожими подмастерьями, или оборотнями, причем выиграли чужаки. В течение столетия соглашение свято соблюдалось: ни один прохожий подмастерье не появлялся за это время в их «владениях». Но по прошествии ста лет изгнанные вновь стали селиться в Лионе, считая, что имеют на это полное право ввиду истечения срока соглашения. Дети Соломоновы придерживались другого мнения; их существующее положение весьма устраивало, и они утверждали, что, поскольку уже целое столетие владеют городом, имеют бесспорное право владеть им и в дальнейшем. Последовали переговоры, которые ни к чему не привели, начались кровавые столкновения, в дело вмешались власти, участники боев были разогнаны. Некоторые из них проявили чудеса храбрости, за что попали в тюрьму и даже на каторгу. Но хотя французское законодательство не признает и отнюдь не склонно поддерживать подобные масонские организации рабочих, власти оказались бессильными положить конец этим распрям. Ныне дело передано негласным судам компаньонажа, и есть основания опасаться, что еще не один доблестный воитель из странствующих подмастерьев прольет свою кровь и пожертвует свободой. Впрочем, не так давно отдельные подмастерья, люди просвещенные и смелые, задумали важное дело – слить все соперничающие общества в единый союз. Будем надеяться, что благородные их попытки не пропадут втуне, что им удастся одержать верх над предрассудками и принцип братства восторжествует.
Нам остается теперь добавить лишь несколько слов о том, каким образом еще и в наши дни решаются подобные споры. Решаются они не жеребьевкой или бросанием костей, а соревнованием в мастерстве. Каждая сторона изготовляет какую-нибудь пробную вещь, наподобие тех, которые в старинных цехах назывались шедевром. Общеизвестно, что в старину, в пору братств или корпораций, звание мастера можно было получить, только представив такую пробную работу на суд старейшин и знатоков, призванных установить право соискателя на это звание. Гофман в своей новелле «Мартин-бочар» (которую сам с полным на то основанием мог бы назвать своим шедевром) воспел этот прекрасный период в жизни ученика, поэтически изобразив все этапы его – представление к званию мастера, работу над шедевром, церемонию принятия в мастера и прочее. В наши дни, когда звание это уже не завоевывается путем соревнования, а легко может быть получено каждым, к подобному соревнованию прибегают только в тех случаях, когда нет другой возможности разрешить спор двух соперничающих обществ и дело доходит до разыгрывания города. В таком случае объявляют конкурс. Каждая сторона выбирает среди наиболее искусных своих подмастерьев одного или нескольких наилучших, которые с рвением принимаются за дело, готовясь сокрушить своих соперников высоким совершенством того изделия, которое решено сделать предметом соревнования. В жюри избираются лучшие мастера как с той, так и с другой стороны, а то и вовсе ни в каком союзе не состоящие, или подмастерья, уже вышедшие из товарищества, но пользующиеся репутацией неподкупных и чаще всего особенно искусные в данном ремесле. Приговор жюри обжалованию не подлежит. Какое бы он ни вызывал недовольство, каким бы тайным ропотом ни был встречен, побежденный союз обязан подчиниться и все члены его должны покинуть город на более или менее долгий и заранее обусловленный срок.
Вот такого рода переломный, решающий момент и переживали существовавшие в Блуа союзы ремесленников к тому времени, когда Пьер Гюгенен и Амори подходили к городу.
Чужим подмастерьям, или гаво, появившимся в городе всего несколько лет тому назад, приходилось вести беспрерывную борьбу с союзами, обосновавшимися здесь прежде, выдерживая при этом натиск не только со стороны столяров-деворанов, но еще и плотников-дриллей, иначе – детей отца Субиза. Уже имело место несколько столкновений в разных концах города; перед лицом двойной опасности гаво решили прибегнуть к состязанию, чтобы обезопасить себя от столяров; даже в случае поражения они получили бы хоть на время конкурса передышку в этой непрекращающейся войне. Что касается плотников, то гаво надеялись держать их пока на расстоянии, сохраняя свое достоинство и не ввязываясь в ссоры с ними. Амори, слывший среди гаво искуснейшим столяром, шел теперь в Блуа, по приглашению совета своего общества. Радость и страх обуревали его: ведь вместе с другими знаменитыми подмастерьями ему предстояло помериться силами с отборнейшими столярами деворанов.
Обо всем этом не без гордости поведал он своему другу, однако тут же с подкупающей скромностью добавил:
– Одно удивляет меня во всем этом, дружище Вильпрё: я-то приглашение получил, а тебя, что же, обошли? Но ведь если есть среди нас, столяров, человек, превзошедший всех остальных по всем решительно статьям, то это уж никак не я, а, разумеется, ты, Чертежник!
– В этих лестных для меня словах я вижу лишь свидетельство великодушной твоей дружбы, – ответил Пьер. – Но будь я даже столь безрассуден, чтобы поверить, будто и в самом деле обладаю достоинствами, которые ты мне приписываешь, я и тогда не имел бы основания сетовать, что обо мне забыли. Ибо, признаюсь тебе, этого я хотел и никогда бы по собственной воле не напомнил о себе. Когда после четырех лет странствий я решил вернуться домой, то сделал все, что мог, чтобы уход мой не был замечен в нашем союзе. Я не устраивал торжественного прощания, а просто выполнил все свои обязательства, за все сполна расплатился и в одно прекрасное утро взял и ушел. Не думаю, чтобы кто-нибудь обиделся на меня за это. Меня могут обвинить в своенравии, но в неблагодарности никто не упрекнет. Мне не терпелось поскорее покончить с этим тревожным существованием, я жаждал вернуться в родные края, и все, что могло задержать меня хоть на день, казалось мне тогда насилием надо мной. Вот два месяца, как я работаю у своего отца, и никому из старых друзей не давал еще знать о себе.
– Даже мне! – с упреком заметил Амори.
– Я надеялся на Провидение, и недаром, как видишь, – оно вновь свело нас. С тобой я рад бы вовек не расставаться, и, согласись ты сейчас отправиться со мной в Вильпрё, я был бы самым счастливым человеком. Но писать тебе я не мог. Не всегда письмо к другу способно облегчить страдания. Напротив, бывают нравственные переживания, которыми трудно делиться именно с тем, кто особенно тебе дорог. И сам впадешь в уныние, и на него нагонишь тоску. Да и как мог бы я писать тебе о своей печали, когда и сам не понимаю ее причин! Ты заподозрил бы меня, пожалуй, в том же, в чем заподозрил Швейцарец. Дружеские излияния требуют встречи. Никогда письмо не заменит свидания…
– Все это так, – отозвался Амори, – и молчание твое мне понятно; но печаль, явившаяся причиной его, все более и более удивляет меня. Я всегда знал, что ты рассудителен, серьезен, скромен, что ты чуждаешься шума и суеты, но при этом ты умел быть таким душевным, доброжелательным и пылким в дружбе. Откуда эта нынешняя твоя нелюдимость и то странное безразличие, которое ты проявляешь к делам нашего союза? Может, с тобой поступили несправедливо? Ты же знаешь, в подобных случаях потерпевший вправе требовать защиты. Собирается совет, выслушивает тебя, и старейшина восстанавливает справедливость.
– Нет, никто не обижал меня, – ответил Пьер, – и своих товарищей подмастерьев я вспоминаю только добром. Почти всех, с кем приходилось мне иметь дело, я искренно уважаю, а некоторых горячо люблю. И союз наш кажется мне самым достойным из всех и самым лучшим по своим порядкам. Ведь раньше, чем вступать в него, я некоторое время приглядывался к установлениям других союзов, к их обычаям. Мне показалось, что у них подмастерья менее свободны, чем у нас, и более отсталы в своих понятиях. Поэтому я и предпочел наш союз. Возможно, что это была моя ошибка, но тогда, вставая под его бело-голубое знамя, я делал это от чистого сердца. У нас хоть нет всех этих перекличек и подвываний, и если единые законы компаньонажа порой и вынуждают нас драться с подмастерьями других обществ, все же всякие взаимные подстрекательства, которые там насаждаются и возводятся в священный принцип, весь этот фанатизм, чужды, мне кажется, духу нашего союза. Но если ты хочешь знать истинные причины тайной моей тоски, я открою тебе свое сердце. Мне не хотелось охлаждать твое воодушевление, колебать ту безграничную веру в свой союз, которая призвана быть двигателем жизни каждого подмастерья. Но придется признаться тебе – вера эта во мне пошатнулась. Увы, это так. Священный дух корпорации постепенно угасает во мне. По мере того как я знакомлюсь с подлинной историей народов, легенда о храме Соломоновом начинает представляться мне просто детской сказкой, грубым вымыслом. Все яснее становится мне, что у всех нас, рабочих, одна, общая судьба, и все более диким и пагубным кажется варварский обычай создавать между нами различия, делить на какие-то касты, на враждебные лагери. Неужели мало нам исконных наших врагов, тех, кто наживается на нашем труде? Зачем нам еще и самим истреблять друг друга? Нас душит алчность богачей; нас унижает бессмысленная кичливость дворян; попы, подлые их сообщники, обрекают нас до скончания века тащить на израненных наших плечах тяжкий крест, подобный тому, который нес на плечах своих Спаситель и чьим изображением украшают они ныне парчовые и шелковые свои одежды. Так неужели мало нам этих обид и мы недостаточно еще несчастны? Мы низведены до положения парий общества; зачем же насаждать нам и в собственной нашей среде нелепое, преступное это неравенство? Мы издеваемся над аристократами, над их притязаниями, их гербами, ливреями их лакеев, мы презрительно смеемся над их родословными, а чем отличаемся мы от них? Мы спорим о том, чей союз старше, глупо кичимся древностью происхождения, а стоит только образоваться какому-нибудь новому обществу, как мы объявляем его незаконным, и нет тех оскорблений, тех бранных слов, тех язвительных куплетов, которые мы не обрушили бы на него. Во всех концах Франции мы преследуем себе подобных, оспаривая друг у друга право носить на груди эмблему своего ремесла – циркуль и угольник, как будто всякий работающий в поте лица не вправе носить на груди знаки своей профессии! Цвет ленты, место, куда ее прикалывают, форма серьги – вот те важнейшие вопросы, из-за которых разжигается ненависть и льется кровь несчастных ремесленников. Как подумаю об этом, не знаю – то ли смеяться, то ли плакать от стыда…
Молодой проповедник не в силах был продолжать далее эту пламенную свою речь. Сердце его переполняло благородное негодование, и у него не хватало слов выразить его. Он остановился, волнение теснило ему грудь, лоб пылал.
– Ах, Амори, Амори! – глухо вскричал он, сжимая руку друга. – Ты хотел узнать, что терзает меня? Я открыл тебе причину своих страданий; мне кажется, ты должен понять меня. Нет, я не безумец, не пустой фантазер, не честолюбец, не предатель. Но я люблю людей моего сословия и несчастен оттого, что они ненавидят друг друга.
О, беспристрастный критик (или, как говаривали мы когда-то, благосклонный читатель), не будь слишком строг к робкому переводчику, пытающемуся донести до тебя слова рабочего! Человек этот говорит совсем другим языком, чем ты, и повествователю, взявшемуся передать его мысли, поневоле приходится искажать своеобразную эту речь, ее пленительную шероховатость, поэтическую ее неумеренность. Быть может, ты обвинишь этого неловкого посредника в том, что он приписывает своим героям мысли и чувства, им якобы не свойственные. На этот упрек он ответит тебе кратко: «Познай их». Покинь те вершины, где муза изящной словесности так давно уже обитает вдалеке от большинства человечества. Спустись туда, откуда так охотно черпает свои темы комическая поэзия, в этот излюбленный источник комедии и карикатуры. Вглядись в серьезные лица этих мыслящих, духовно богатых людей, которых ты все еще считаешь темными и грубыми, и ты найдешь среди них немало Пьеров Гюгененов. Вглядись, вглядись внимательно, умоляю тебя, и не спеши выносить несправедливый приговор, осуждающий этих людей на вечное прозябание в невежестве и злобе! Узнай их недостатки и пороки, ибо они есть у них, не стану скрывать это от тебя. Но познай и величие их и их добродетель. И от общения с ними ты сам почувствуешь себя таким чистым и добрым, каким не был уже давным-давно.
Простота души – вот что поистине восхитительно в народе, та святая простота, которую мы, увы, утратили с тех пор, как придаем столь непомерно большое значение форме наших мыслей. Для народа всякая мысль, в какой бы форме она ни предстала ему, есть нечто новое; будь истина выражена даже самыми банальными словами, все равно она исторгает у него слезы восторга и упования. О, благородное младенчество души, источник роковых заблуждений, пленительных иллюзий, героизма, самоотвержения, позор тому, кто пользуется тобой в корыстных целях! И да будет благословен тот, кто, избавив народ от невежества, поможет ему достичь возмужалости, не лишая при этом детского его целомудрия!
Благодаря той особой душевной чистоте, которая так свойственна людям с неискушенным умом, Пьер Гюгенен всегда легко находил понимание у мыслящих людей своего круга, и потому слова его не рассердили Коринфца и не вызвали в нем желания спорить. Молча слушал он его. Затем, пожимая ему руку, сказал:
– Ах, Пьер, Пьер, ты разбираешься во всем этом лучше меня, и мне нечего тебе ответить. Только мне грустно, как и тебе, и я, право, не знаю, как помочь нам обоим…
Глава X
Чтобы обнаружить в далеком прошлом причины вражды, лежащей в основе тех раздоров между рабочими обществами, на которые сетовал Пьер Гюгенен, понадобились бы длительные исторические розыски. Впрочем, здесь все неясно. Рабочие, если им что-нибудь на этот счет и известно, тщательно это скрывают, но я весьма подозреваю, что они знают об этом не больше нас. Что означает, например, вся эта история с убийством Хирама во время постройки храма в Иерусалиме[24 - …история с убийством Хирама во время постройки храма в Иерусалиме… – Хирам – царь города Тира на восточном побережье Средиземного моря. Он поставлял Соломону лес и посылал к нему строителей и ремесленников. Легенда отождествила его с Хирамом-медником, работавшим на строительстве храма и убитым, по одной версии, – завистниками, по другой – недовольными подмастерьями.], являющимся предметом непрекращающихся кровавых раздоров между двумя старейшими обществами – Обществом Соломона и Обществом мастера Жака, иначе говоря – между гаво и деворанами, или, еще иначе, между Союзом долга и Союзом долга и свободы, история, которую большинство рабочих склонны принимать совершенно всерьез и отнюдь не в символическом смысле. Одно общество обвиняет другое в кровавом этом преступлении, каждое стремится обелить себя, и в знак своей непричастности к нему во время торжественных церемоний каждого из обществ все участники его надевают перчатки. Люди подстрекают друг друга, избивают, калечат, убивают, мстя за убийство Хирама, возглавлявшего некогда постройку храма в Иерусалиме и убитого несколькими жестокими, завистливыми рабочими, которые затем спрятали его труп под грудой щебня. В основе всего этого лежит, должно быть, подлинное историческое событие, а может быть, это и вымысел, притом не лишенный поэзии, в котором выражена как бы квинтэссенция истории народа – его прошлого и будущего.
Но так же, как это свойственно и народам в пору их младенчества, рабочие понимают эту легенду буквально, ибо они настоящие дети, столь же легковерные, с теми же необузданными инстинктами, теми же добрыми, чистыми порывами, которые присущи ребенку. Да, моя дорогая, любезная моя читательница, народ – это исполин-младенец, который, чувствуя, как теснят его широкую грудь жизненные силы, встал на ножки и делает первые свои еще неверные шаги по краю бездны. Кому суждено сорваться вниз – нам или ему? Сударыня, сударыня, торопитесь, спешите еще покрасоваться, пощеголять своими бриллиантами: не ровен час, окажется, что они обагрены кровью Хирама, и кто знает, не придется ли вам тогда спрятать их подальше или отбросить прочь.
Несколько образованных и начитанных рабочих (а что среди них есть такие, это я могу засвидетельствовать) глубокомысленно пытались проникнуть в эту тайну. Одни связывают происхождение своего общества с гибелью храмовников[25 - …с гибелью храмовников… – Военный и религиозный орден храмовников был создан в 1118 г. для завоевания Святой земли. Оказывал значительное влияние на государственные дела в Европе XII и XIII вв. Стремясь подорвать могущество ордена и завладеть его казной, французский король Филипп Красивый добился от римского папы запрещения ордена (1312) и предал его членов суду, по приговору которого множество храмовников погибло на костре.], а пресловутый мастер Жак, главный плотник царя Соломона, по их словам, не кто иной, как великий магистр Жак де Моле – этот мученик, сожженный на костре злым и жадным королем по имени Филипп. По мнению других, корни неутихающей этой вражды уходят в еще более далекое прошлое, и в основе ее лежит якобы та ненависть, которую разоренные и преследуемые альбигойцы[26 - Альбигойцы – члены религиозной секты, распространившейся в XI в. на юге Франции и проповедовавшей враждебное римской церкви религиозное и нравственное учение. В начале XIII в. по велению римского папы против альбигойцев был предпринят крестовый поход, опустошивший весь юг страны.], прибрежные жители пиренейских гавов – горных рек (отсюда и название гаво), питали к северным палачам и инквизиторам-доминиканцам[27 - Доминиканцы – члены религиозного ордена, основанного в начале XII в. для борьбы против альбигойской ереси.], изгонявшим их из Южной Франции. Нам же ничего не мешает предположить, что все эти жестоко подавленные восстания – вальденсов[28 - Вальденсы – члены религиозной секты, возникшей в XII в. на юге Франции и подвергавшейся непрестанным гонениям вплоть до XVI в. Вальденсы проповедовали всеобщее равенство и возврат к истинно христианским нравственным нормам, утраченным католической церковью.], пастуралей[29 - Пастурали – участники крестьянского религиозно-социального движения в центральной Франции в XIII в.], протестантов и кальвинистов[30 - Кальвинисты – последователи Жана Кальвина (1509–1564), основателя одной из протестантских доктрин во Франции.], являвшихся в той или иной мере приверженцами и последователями учения о «вечном Евангелии»[31 - …являвшихся… приверженцами и последователями учения о «вечном Евангелии»… – Учением о «вечном Евангелии» называли учение одного из предшественников Реформации, монаха Иоахима (XII в.), которое должно было заменить Священное Писание и стать для человечества окончательным законом.] и в разное время обильно поливших своей кровью равнины и дороги Франции, оставили после себя немало горьких воспоминаний и непрощенных обид, которые, переходя из поколения в поколение, дошли и до наших дней. Настоящая причина вражды забыта, утрачена, неузнаваемо преображена в смутной веренице преданий, но ненависть жива и поныне. Незачем ездить на Корсику – трагическая поэзия вендетты[32 - Вендетта – кровная месть у корсиканцев.] здесь, рядом с вами, в вашем собственном доме. Каменщик, воздвигнувший ваше жилище, – исконный враг плотника, возведшего стропила; какой-нибудь тайный знак, слово, взгляд – и вот уже кровь брызнула на этот камень, символ их древнего происхождения, мистическую основу их прав.
Существуют два общества, происхождение которых относится якобы еще к незапамятным временам. Мы только что назвали их[3 - См. книгу о компаньонаже Агриколя Пердигье, по прозвищу Авиньонец Благонравный. (Примеч. автора.)]. Из этих двух обществ, а быть может, из одного из них, выделилось враждебное им обоим третье – Общество единения, или Общество независимых, иначе называемое еще Обществом бунтовщиков. Оно было основано в 1830 году в Бордо учениками, восставшими против своих подмастерьев, а также присоединившимися к ним «мятежными» учениками Лиона, Марселя и Нанта. Есть еще четвертое – Общество отца Субиза, причисляющее себя к деворанам. Итак, существуют четыре основных общества, или четыре Союза долга, каждый из которых включает в себя несколько ремесленных цехов. Наряду с ними существуют еще и другие, более позднего происхождения, довольно многочисленные, которые всеми правдами и неправдами стремятся влиться в одно из названных четырех обществ, причем некоторых охотно принимают, другие же встречают жесточайший отпор.
Для того чтобы дать хотя бы самое приблизительное представление о всех этих обществах, их происхождении, их притязаниях, их уставах, порядках, обычаях и взаимоотношениях, понадобилось бы написать целую книгу. Одни общества как-то связаны между собой. Так, например, Дети отца Субиза, так же как и Дети мастера Жака, гордо относят себя к Союзу долга, хотя нельзя сказать, чтобы они особенно ладили между собой. Бывает, что между двумя обществами существует исконная вражда. Цеха одного и того же союза находятся порой в самых различных отношениях между собой – одни поддерживают друг друга, другие живут в смертельной вражде. Вообще вновь образовавшиеся общества, как правило, встречают высокомерное сопротивление старых, и свое право гражданства в компаньонаже им приходится завоевывать ценою крови. Каждый союз имеет свой устав. Согласно одним уставам, кандидат в подмастерья проходит только две степени испытания, согласно другим – их должно быть три, а то и четыре. Таким образом, положение одного кандидата может быть благоприятным, а другого – чрезвычайно трудным, в зависимости от того, деспотический или свободолюбивый дух царит в том обществе, которое принимает его в подмастерья. И все эти враждующие между собой группы ремесленников со своими различными уставами и обычаями образуют общее понятие – Сообщество странствующих подмастерьев.
Каждое общество имеет свои города, где всякий относящийся к нему подмастерье может остановиться, совершенствоваться в своем ремесле или работать, рассчитывая при этом на помощь, поддержку и содействие местного товарищества подмастерьев, обозначаемого единым названием «общество». Срок пребывания в городе того или иного подмастерья определяется как личными его нуждами, так и интересами всего товарищества, и если подмастерьев оказывается слишком много, чтобы все могли прокормиться, те, которые прибыли ранее, должны покинуть город, уступая место тому, кто пришел позднее.
Есть города, в которых может одновременно находиться несколько союзов, есть такие, которые являются исключительной собственностью лишь одного союза, то ли вследствие давней традиции, то ли по особому соглашению, как это имело место в Лионе, которым один союз «владел» на протяжении столетия.
Все союзы, так же как и входящие в них объединения, имеют определенный круг деятельности, которая, если подходить к ней с точки зрения высших принципов, носит характер весьма гуманный и благородный. Сюда относится наем ремесленника, то есть церемония допущения его к работе, взимание расписки, которой товарищество ручается за его честность; посредничество между хозяином и подмастерьем, устройство проводов – церемония братского прощания с теми, кто покидает город, забота о больных, предание умерших земле, празднества в честь святого покровителя данного общества и ряд других обычаев, приблизительно одинаковых во всем компаньонаже. Различия только внешние – в произносимых формулах, в званиях, знаках, цвете знамени, песнях и т. д.
В провинции с компаньонажем связано подавляющее большинство ремесленников. Лишь очень небольшая их часть не видит в нем для себя пользы и не стремится приобщиться к нему. Так происходит в отсталых деревнях центральной Франции, где ремесло, как правило, передается по наследству и сын или племянник естественно становится учеником отца или дяди. Когда судьба юноши, таким образом, с самого начала предопределена, у него редко появляется стремление отправиться совершенствоваться в своем ремесле. В компаньонаже здесь, таким образом, нет особой нужды, и хождение по Франции в этих краях не принято.
Некоторые ремесленные цеха, прежде входившие в тот или иной союз, ныне потеряли с ним всякую связь: перестав нуждаться в его помощи и защите, они сочли ненужным для себя и его устав[4 - В них невозможно стало и дальше придерживаться обычаев, восходящих еще к далекому Средневековью; новых кандидатов отпугивали варварские обряды, которые стремились сохранить приверженцы старого. (Примеч. автора.)]. Общность политических взглядов – вот что в этих случаях объединяет ремесленников, быть может, и более образованных, но, пожалуй, уже и не столь сплоченных между собой. В Париже значение компаньонажа все более сходит на нет, и перед лицом новых разнообразных задач и интересов его общества постепенно теряют связь между собой. Ни одно из них не в состоянии было бы взять в свои руки всю работу. К тому же скептический дух, рожденный более высокой ступенью цивилизации, заставляет расставаться со старинными порядками компаньонажа, хотя, быть может, и преждевременно; ибо не существует еще братского союза, объединяющего всех рабочих, который способен был бы заменить собой эти отдельные общества. Тем не менее исконная вражда нередко дает себя здесь знать еще и в наши дни. Плотники, принадлежащие к свободным подмастерьям, селятся на левом берегу Сены, их противники, прохожие подмастерья, – на правом. Между ними существует уговор – работать только на том берегу, где находится их жилище. Тем не менее они то и дело дерутся между собой, да и другие товарищества не всегда живут в ладу друг с другом. Но вообще говоря, компаньонаж с его властью над ремесленниками, со всеми его накаленными страстями здесь, в Париже, как бы рассеивается и поглощается тем великим движением, которое в независимом и неуклонном своем стремлении вперед увлекает за собой все и всех. В провинции же он сохранил еще свое значение, и множество молодых людей, которых влечет на этот путь предприимчивый характер, любовь к прогрессу, желание бежать невежества, нищеты и одиночества, обретают в компаньонаже мастерство, воинственный пыл, дух единения и привычку к организации. Это благородные разведчики, передовой отряд великой армии тружеников, бродячие художники ремесел, отважные мамертинцы[33 - Мамертинцы – наемные войска сиракузского царя Агафокла, которые в начале III в. до н. э. образовали в Сицилии разбойничью общину.] легендарного Рима. Одних на эту стезю толкает отсутствие семьи и необходимость заработать себе на обзаведение, других – желание сбросить путы семейного деспотизма. Изменение обстоятельств, несчастная любовь, естественное желание обрести самостоятельность, а более всего потребность видеть мир, жить и дышать – вот что ежегодно приводит на дороги страны лучшую и самую горячую часть молодежи. Хождение по Франции, этот поход странствующих рыцарей ремесла, это паломничество смельчаков в поисках удачи – поэтический этап в жизни ремесленника. Тот, у кого нет ни кола ни двора, отправляется искать свое счастье под покровительством усыновляющей его отныне заботливой семьи, которая уж не оставит сына до самой кончины, а после смерти проводит в последний путь. Тот же, кому от рождения обеспечено приличное положение в родной стороне, ищет выхода неистраченным силам юности, жаждет познать радости этого кипучего существования. Ему еще предстоит вернуться в отчий дом, остепениться, зажить домоседом, работая, как и все его ближние, от зари до зари. И, может, за всю его жизнь не выпадет ему больше ни года, ни месяца, ни даже недели такой привольной жизни. Так надо же хоть на какое-то время дать выход тому смутному томлению, что гонит его вон из дома, – надо попутешествовать! Потом он возвратится, вновь возьмет отцовский напильник или молот, но по крайней мере у него будет что вспоминать – он повидает белый свет и сможет рассказывать друзьям и детям, как велика и прекрасна Франция, – ведь он всю ее обошел в бытность свою странствующим подмастерьем!
Это отступление было, мне кажется, необходимо, чтобы сделать более понятным мой рассказ. А теперь, любезные читатели и вы, добрые подмастерья, позвольте мне устремиться вслед за моими героями, которые ведь не остались стоять, подобно мне, на дороге, ведущей к Блуа.
Глава XI
На башенных часах собора пробило уже десять, когда они подошли к Блуа. Хорошо отдохнув в «Колыбели мудрости», они прошли весь путь при свете звезд, тихо разговаривая и не чувствуя никакой усталости. Теперь они направлялись к Матери своего союза.
Матерью называется корчма, где живут, питаются и устраивают свои сборища подмастерья одного и того же союза. Хозяйка такой корчмы тоже называется Матерью, а если это хозяин, то и его, даже если он холостяк, тоже так величают, и нередко случается, что подмастерья, играя словами, обращаясь к какому-нибудь почтенному корчмарю, называют его папаша Мать.
Амори Коринфец не был в Блуа уже около года. Еще в пути Пьер заметил, что, по мере того как они приближаются к городу, друг его становится все рассеяннее. Когда же они вошли в город, Амори стал проявлять столь явные признаки беспокойства, что Пьер даже удивился.
– Что с тобой? – спросил он. – То ты мчишься вперед, и за тобой не угнаться, то ползешь так медленно, что приходится останавливаться и ждать. На каждом шагу ты спотыкаешься. То ли тебе не терпится поскорее дойти, то ли, напротив, ты боишься этого.
– Не спрашивай меня ни о чем, милый мой Вильпрё, – отвечал ему Коринфец. – Да, ты не ошибся. Я волнуюсь, но почему – сказать не могу. Ты знаешь, от тебя я ничего никогда не скрывал; может быть, когда-нибудь я открою тебе эту тайну, но время для этого пока еще не настало.
Пьер ни о чем не стал его расспрашивать, и несколькими минутами позже они уже входили в корчму, расположенную в предместье города, на левом берегу Луары. Здесь все было по-прежнему – всюду царили чистота и порядок. Подмастерья узнали хозяйскую собачонку, из дверей выглянула знакомая служанка. Только хозяин корчмы не вышел им навстречу, чтобы по-братски обнять, как это бывало прежде.
– А где же друг Савиньен? – неуверенно спросил Амори.
Но вместо ответа служанка сделала ему знак замолчать, показывая глазами на маленькую девочку, которая, стоя на коленях у очага, молилась на сон грядущий. Амори, решив, что служанка просит его не мешать детской молитве, молча склонился над маленькой Манеттой и только слегка коснулся губами крупных завитков ее волос, выбившихся из-под стеганого чепчика… И, увидев, с какой тоской и нежностью он смотрит на девочку, Пьер начал догадываться, о какой тайне говорил его друг.
– Господин Вильпрё, – сказала между тем служанка, отведя Пьера в сторону, – не надо при малютке говорить о покойном хозяине, бедняжка каждый раз слезами заливается! И двух недель ведь еще нет, как мы схоронили господина Савиньена. Бедная хозяйка! Все глаза выплакала.
Не успела она произнести эти слова, как дверь растворилась и на пороге в глубоком трауре, в черном чепчике, появилась вдова покойного Савиньена, та, которую подмастерья величали Матерью. Это была женщина лет двадцати восьми, прекрасная, словно Рафаэлева мадонна, с выражением спокойствия и благородной кротости на тонком лице. Недавно пережитое глубокое горе придавало ее взгляду выражение какой-то самоотверженной стойкости, и от этого весь облик ее казался еще более трогательным.
Она несла на руках второе свое дитя, полураздетого и уже уснувшего мальчугана, пухленького, свежего, словно утро, с золотистой, как янтарь, кудрявой головкой. Свет лампы падал прямо на Пьера Гюгенена, и потому Мать первым увидела его.
– Вильпрё, сын мой! – воскликнула она, и грустная, ласковая улыбка озарила ее лицо. – Добро пожаловать, вы, как всегда, желанный гость в нашем доме, но, увы, здесь осталась одна только Мать. А Савиньен, ваш отец, уже на небесах, у Господа Бога.
При первом же звуке ее голоса Коринфец стремительно повернулся к ней, и невольный крик вырвался из его груди при этих словах.
– Умер?! – вскричал он. – Савиньен умер? Так, значит, Савиньена[5 - В провинциях центральной Франции, где, как известно, не существует слово «госпожа» в применении к женщине из народа, замужнюю женщину принято называть именем ее мужа с женским окончанием; например, жена Рамоне – Рамонетта, жена Сильвена – Сильвена и т. д. (Примеч. автора.)] теперь вдова?
И в растерянности он опустился на стул.
При звуке его голоса грустное спокойствие Савиньены вдруг сменилось глубочайшим волнением. Поспешно передав Пьеру спящего ребенка, чтобы не уронить его, она сделала шаг к Коринфцу, но тут же, опомнившись, смущенная, растерянная, остановилась; а Коринфец, тоже уже готовый броситься к ней, вскочил, но снова упал на стул и спрятал лицо в кудри маленькой Манетты, которая, все еще стоя на коленях, горько заплакала, услышав имя своего отца.
Тогда Мать овладела собой и, подойдя к Коринфцу, сказала ему со спокойным достоинством:
– Видите, как плачет моя девочка. Она потеряла отца, а вы, Коринфец, вы потеряли друга.
– Будем плакать о нем вместе, – прошептал Амори, не смея ни взглянуть ей в лицо, ни дотронуться до протянутой ему руки.
– Не вместе, нет, – так же тихо ответила Савиньена, – но я слишком уважаю вас, чтобы усомниться в том, что это горе и для вас.