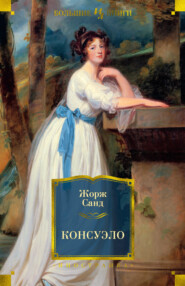По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Нанон. Метелла. Орко (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мне стало очень стыдно: ведь мальчик наверняка смеялся надо мной, а я, надо думать, была очень самолюбива, потому что не смогла сдержаться и расплакалась, – так непереносим был этот стыд.
Монашек удивился и заговорил со мной голосом столь же кротким, как его лицо:
– Ты плачешь, малышка? Какое же у тебя горе приключилось?
– Плачу я из-за моей овечки, – отвечала я. – Она забралась на ваш луг.
– Ну, тут она не потеряется. Раз она ест, значит, довольна.
– Она-то довольна, я понимаю, но только я на нее сердита – ведь она занимается грабежом.
– Как это – «занимается грабежом»?
– Ест чужое добро.
– Чужое добро! Ты сама не знаешь, малышка, что говоришь. Достояние монахов принадлежит всем людям на свете.
– Выходит, этот луг уже не монастырский? А я и не знала.
– Ты неверующая?
– Что вы! Каждый день читаю молитву.
– Ну, раз так, значит, ты каждое утро просишь у Бога хлеб твой насущный, а церковь наша богата и должна подавать всем, кто просит Господним именем. Ежели она не станет служить делам милосердия, зачем же она тогда надобна?
Я слушала разиня рот, не понимая, о чем он говорит: хотя валькрёзские монахи были не такие уж дурные люди, все же они пытались, как могли, защищать свое добро от расхищения, и был у них один такой монах – брат Фрюктюё, выполнявший обязанности эконома, который всякий раз, застав потравщиков на месте преступления, поднимал громкий крик и грозил страшными карами. С прутом в руках он гнался за ними, – правда, не очень далеко, потому что был слишком толстый, чтобы бегать быстро, – но все же его боялись и говорили, что он человек злой, хоть он никогда и мухи не обидел.
Я спросила у юноши, стерпит ли отец Фрюктюё, когда моя овца будет щипать его траву.
– Про это я ничего не знаю, – ответил тот, – знаю только, что трава эта не его.
– А чья же?
– Господня. Ведь это Господь растит ее на потребу всякой животине. Не веришь?
– Чего не знаю, того не знаю. Но только ваши слова мне очень на руку! Если бы бедняжка Розетта могла малость подкормиться у вас в этакую-то засуху, вы уж поверьте, лентяйкой я от этого не стала бы. Поднимется в горах трава, и я снова стану ее туда водить, правду вам говорю.
– Ладно, оставь ее тут и приходи за ней вечером.
– Вечером? Ой, нет, что вы! Увидят ее монахи и заберут, а дедушке придется идти вызволять ее, да еще упреки терпеть; он станет меня бранить и скажет, что я такая же дрянь, как и другие, а уж обиднее этого ничего для меня нет.
– Вижу, что воспитали тебя хорошо. А где он живет, твой дедушка?
– Вон там, повыше, самый маленький домик на полдороге к ущелью. Видите? Да вон он, подле тех трех толстых каштанов.
– Ну ладно, как твоя овечка наестся, я ее приведу.
– А вдруг монахи станут вас бранить?
– Они не станут меня бранить. Я им объясню, в чем заключается их долг.
– Вы у них учителем?
– Я? Вовсе нет. Я всего лишь ученик. Меня поручили им, чтобы они наставили меня и подготовили к постригу, когда я войду в возраст.
– А когда вы войдете в возраст?
– Года через два-три. Мне скоро шестнадцать.
– Значит, вы, как говорится, послушник?
– Еще нет, я здесь всего два дня.
– Должно быть, потому я вас никогда не видела. А из каких мест вы будете?
– Я здешний; ты слыхала о семействе и о замке Франквиль?
– Честное слово, не слыхала. Я только и знаю, что Валькрё. Ваши родители, верно, совсем бедные, коли отослали вас от себя?
– Мои родители очень богаты, но нас, детей, у них трое, а делить имущество они не хотят, берегут для старшего сына. За нас с сестрой внесут только вклады, чтобы каждый из нас вступил в предназначенную ему обитель.
– А сколько ей лет, вашей сестре?
– Одиннадцать, а тебе?
– Еще тринадцати не сравнялось.
– О, да ты рослая, сестра на целую голову ниже тебя.
– Вы, видно, любите сестру?
– Только ее я и люблю.
– Что вы! А отца с матерью?
– Я их едва знаю.
– А брата?
– Еще меньше.
– Как же так получилось?
– Родители хотели, чтобы мы с сестрой жили в деревне, а сами приезжали туда не часто, они с моим старшим братом живут в Париже. Но ты, должно быть, не слыхала про Париж, если и про Франквиль не знаешь.
– Париж – это где король?
– Верно.
Монашек удивился и заговорил со мной голосом столь же кротким, как его лицо:
– Ты плачешь, малышка? Какое же у тебя горе приключилось?
– Плачу я из-за моей овечки, – отвечала я. – Она забралась на ваш луг.
– Ну, тут она не потеряется. Раз она ест, значит, довольна.
– Она-то довольна, я понимаю, но только я на нее сердита – ведь она занимается грабежом.
– Как это – «занимается грабежом»?
– Ест чужое добро.
– Чужое добро! Ты сама не знаешь, малышка, что говоришь. Достояние монахов принадлежит всем людям на свете.
– Выходит, этот луг уже не монастырский? А я и не знала.
– Ты неверующая?
– Что вы! Каждый день читаю молитву.
– Ну, раз так, значит, ты каждое утро просишь у Бога хлеб твой насущный, а церковь наша богата и должна подавать всем, кто просит Господним именем. Ежели она не станет служить делам милосердия, зачем же она тогда надобна?
Я слушала разиня рот, не понимая, о чем он говорит: хотя валькрёзские монахи были не такие уж дурные люди, все же они пытались, как могли, защищать свое добро от расхищения, и был у них один такой монах – брат Фрюктюё, выполнявший обязанности эконома, который всякий раз, застав потравщиков на месте преступления, поднимал громкий крик и грозил страшными карами. С прутом в руках он гнался за ними, – правда, не очень далеко, потому что был слишком толстый, чтобы бегать быстро, – но все же его боялись и говорили, что он человек злой, хоть он никогда и мухи не обидел.
Я спросила у юноши, стерпит ли отец Фрюктюё, когда моя овца будет щипать его траву.
– Про это я ничего не знаю, – ответил тот, – знаю только, что трава эта не его.
– А чья же?
– Господня. Ведь это Господь растит ее на потребу всякой животине. Не веришь?
– Чего не знаю, того не знаю. Но только ваши слова мне очень на руку! Если бы бедняжка Розетта могла малость подкормиться у вас в этакую-то засуху, вы уж поверьте, лентяйкой я от этого не стала бы. Поднимется в горах трава, и я снова стану ее туда водить, правду вам говорю.
– Ладно, оставь ее тут и приходи за ней вечером.
– Вечером? Ой, нет, что вы! Увидят ее монахи и заберут, а дедушке придется идти вызволять ее, да еще упреки терпеть; он станет меня бранить и скажет, что я такая же дрянь, как и другие, а уж обиднее этого ничего для меня нет.
– Вижу, что воспитали тебя хорошо. А где он живет, твой дедушка?
– Вон там, повыше, самый маленький домик на полдороге к ущелью. Видите? Да вон он, подле тех трех толстых каштанов.
– Ну ладно, как твоя овечка наестся, я ее приведу.
– А вдруг монахи станут вас бранить?
– Они не станут меня бранить. Я им объясню, в чем заключается их долг.
– Вы у них учителем?
– Я? Вовсе нет. Я всего лишь ученик. Меня поручили им, чтобы они наставили меня и подготовили к постригу, когда я войду в возраст.
– А когда вы войдете в возраст?
– Года через два-три. Мне скоро шестнадцать.
– Значит, вы, как говорится, послушник?
– Еще нет, я здесь всего два дня.
– Должно быть, потому я вас никогда не видела. А из каких мест вы будете?
– Я здешний; ты слыхала о семействе и о замке Франквиль?
– Честное слово, не слыхала. Я только и знаю, что Валькрё. Ваши родители, верно, совсем бедные, коли отослали вас от себя?
– Мои родители очень богаты, но нас, детей, у них трое, а делить имущество они не хотят, берегут для старшего сына. За нас с сестрой внесут только вклады, чтобы каждый из нас вступил в предназначенную ему обитель.
– А сколько ей лет, вашей сестре?
– Одиннадцать, а тебе?
– Еще тринадцати не сравнялось.
– О, да ты рослая, сестра на целую голову ниже тебя.
– Вы, видно, любите сестру?
– Только ее я и люблю.
– Что вы! А отца с матерью?
– Я их едва знаю.
– А брата?
– Еще меньше.
– Как же так получилось?
– Родители хотели, чтобы мы с сестрой жили в деревне, а сами приезжали туда не часто, они с моим старшим братом живут в Париже. Но ты, должно быть, не слыхала про Париж, если и про Франквиль не знаешь.
– Париж – это где король?
– Верно.