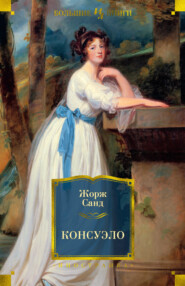По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мельник из Анжибо
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ее обаяние и красота привели Лемора в трепет. Он страстно прижал ее к сердцу. Но, быстро подавив в себе этот порыв, он отошел и, обойдя скамью, на которой она сидела, взволнованно продолжал:
– А если бы я потребовал у вас этой жертвы теперь, когда уже вашего мужа нет в живых и когда она, конечно, не будет такой ужасной… такой страшной?..
Госпожа де Бланшемон снова побледнела.
– Анри, – сказала она серьезно, – я была бы обижена и оскорблена до глубины души, если бы вы допустили такую мысль после того, как я предложила вам свою руку и вы как будто отвергли ее.
– Какое несчастье, что вы не понимаете меня и считаете негодяем, тогда как моя любовь самоотверженна до героизма!.. – ответил он с горечью. – Эти слова могут показаться вам высокопарными и вызвать улыбку обидной жалости. Но я… я говорю, как перед Богом, он видит мои страдания… они ужасны, быть может выше моих сил!
И слезы хлынули у него из глаз.
Горе молодого человека было так глубоко и искренне, что привело госпожу де Бланшемон в смятенье. Эти жгучие слезы, казалось, выражали бесповоротный отказ от счастья, вечное «прости» мечтам любви и юности.
– О мой Анри, мой милый! – воскликнула Марсель. – Какой удар готовите вы нам обоим? Зачем это отчаяние, когда моя жизнь в ваших руках, когда уже ничто не мешает нам принадлежать друг другу перед Богом и людьми? Быть может, вы видите препятствие в том, что у меня есть сын? Но разве вы недостаточно великодушны, чтобы уделить ему частицу того чувства, которое вы питаете ко мне? Неужели вам когда-нибудь придется упрекнуть себя в том, что мое дитя заброшено и несчастно?
– Ваш сын! – воскликнул Анри, подавляя рыдания. – Мой страх за судьбу вашего сына вызван причинами более серьезными. Меня пугает не то, что я не буду его любить. Я боюсь, что слишком полюблю его и не в силах буду видеть, как жизнь его пойдет по чуждому мне пути. Подчиняясь обычаям, общественному мнению, я буду принужден оставить его в высшем свете, тогда как мне хотелось бы вырвать его оттуда, хотя жизнь со мною и грозила бы ему бедностью и отчаянием… Нет, я не смог бы с эгоистическим равнодушием смотреть, как он будет превращаться в типического представителя своего класса, – нет, нет!.. И это, и другое – все в нашем положении является непреодолимой преградой. Думая о нашем будущем, я вижу только бессмысленную борьбу, вижу вас – несчастной, а себя – преступным… Это невозможно, Марсель, невозможно! Я слишком люблю вас, чтобы принять от вас такую жертву, тем более что вы не можете предвидеть ни ее размеров, ни ее последствий. Я вижу, что вы меня не знаете. Я вам кажусь мечтателем нерешительным и безвольным, а я – мечтатель упорный и неисправимый. Вы, наверное, не раз обвиняли меня в чрезмерной восторженности, вы думали, что достаточно одного вашего слова, чтобы я беспрекословно подчинился тем взглядам и понятиям, которые вы считаете разумными и правильными. О, мои страдания глубже, чем вы думаете, вы не можете представить себе сейчас всю силу моей любви! Впоследствии, со временем, вы в глубине души будете благодарить меня за то, что я предпочел страдать в одиночестве.
– Впоследствии? Почему? Когда же? Что вы хотите этим сказать?
– Я сказал вам – позже, когда вы очнетесь от этого мрачного наваждения, которое я навлек на вас, – когда вы возвратитесь к светской жизни и насладитесь ее легким и сладостным опьянением, когда вы утратите вашу ангельскую чистоту и спуститесь на землю.
– Да, да, когда я превращусь в черствую эгоистку и лесть развратит меня вконец! Вот что вы хотите сказать, вот что вы думаете обо мне! Вы в своей необузданной гордыне не верите, что я могу постичь ваши идеи и понять вашу душу. Словом, вы считаете, что я недостойна вас, Анри!
– То, что вы говорите, сударыня, жестоко, и нам незачем дольше вести этот спор. Позвольте мне удалиться, я вижу, что мы не в силах понять сейчас друг друга.
– Итак, вы покидаете меня?
– Нет, я не покину вас: вдали от вас я буду хранить в душе ваш образ и тайно вас боготворить. Я буду страдать вечно, надеясь, что вы забудете меня, раскаиваясь, что желал и искал вашей любви, утешаясь, что по крайней мере не обманул вас подло.
Госпожа де Бланшемон хотела встать, чтобы удержать Анри, но снова в изнеможении опустилась на скамью.
– Зачем же вы желали меня видеть? – спросила она холодно, устремив на него взгляд.
– Да, да, вы правы, упрекая меня. Это последняя низость с моей стороны; я сознавал это, но не мог побороть в себе желанья еще раз увидеть вас… Я думал, что вы изменились ко мне, на эту мысль меня навело ваше молчанье; я изнемогал от тоски и надеялся, что ваша холодность исцелит меня. Зачем я пришел? Зачем вы любите меня? Разве я не самый жестокий, самый неблагодарный, самый необузданный, самый преступный человек на свете? Но я хочу, чтобы вы видели меня именно таким, каков я есть, и убедились, что не стоит обо мне жалеть. Так будет лучше! И хорошо, что я пришел, не правда ли?
Анри говорил как в бреду; его строгое и благородное лицо исказилось; голос, приятный и ласковый, стал каким-то сдавленным, жестким и резал слух. Марсель видела, как он страдает, но ее собственные страдания были не менее жестоки, и она не знала, чем облегчить их общее горе. Она сидела бледная и безмолвная, судорожно сжав руки, безжизненная, словно изваяние. Уходя, он на мгновенье обернулся и, увидев недвижную Марсель, бросился к ее ногам и, рыдая, покрыл их поцелуями.
– Прощай, прекраснейшая и лучшая из женщин! Прощай, моя верная подруга, моя чистая любовь! Пусть другой, достойнейший, полюбит тебя так, как я люблю, но пусть эта новая любовь не принесет с собой горечи и отвращенья к жизни! Будь счастлива, твори добро, и да минует тебя тяжесть борьбы, на которую я обрек себя! И если в людях твоего круга сохранились еще остатки честности и человеколюбия, то да поможет тебе Господь вдохнуть в них живые силы и возродить их к новой жизни!
Сказав это, Анри поспешно вышел, не думая о том, что оставляет Марсель в отчаянии. Казалось, его преследовали фурии.
Госпожа де Бланшемон долго сидела, точно окаменев.
Вернувшись к себе, она до рассвета ходила по комнате, но не проронила ни одной слезы, ни одним вздохом не нарушила безмолвия ночи.
Было бы слишком смело утверждать, что эта двадцатидвухлетняя вдова, красивая, богатая, пользовавшаяся таким успехом в высшем свете благодаря своему обаянию, одаренной натуре и уму, не была унижена и возмущена тем, что молодой человек, без роду и племени, бедный, не имеющий никакого положения в обществе, отверг ее руку. Должно быть, в первые минуты в ней и заговорила оскорбленная гордость; однако вскоре возвышенные чувства ее благородной натуры внушили ей мысли более серьезные, и она впервые глубоко заглянула в свою жизнь и в жизнь своих близких. Она вспомнила все, что говорил ей Анри еще в то время, когда они любили друг друга без всякой надежды. Теперь ей казалось странным, что прежде она так легкомысленно относилась к убеждениям этого сурового юноши и считала их романтическими бреднями. Сейчас она судила о нем с тем спокойствием, которое овладевает человеком сильной воли в минуты самых бурных переживаний. Медленно проходила ночь, и, прислушиваясь к бою часов далеких колоколен, перекликавшихся в тишине уснувшего города своими серебряными звонами, Марсель мало-помалу обрела ту ясность сознания, какая осеняет страждущего человека после долгой ночи сосредоточенных размышлений. Воспитанная в других жизненных правилах, чем Лемор, она была, однако, как бы предназначена судьбой разделить любовь этого плебея и найти в ней прибежище от томительной скуки светской жизни. Это была одна из тех нежных и в то же время сильных душ, которые испытывают потребность жертвовать собою и не знают иного счастья, как делать других счастливыми. Не найдя радости в семейной жизни и наскучив светом, она с романтической доверчивостью молодой девушки отдалась этому чувству, создав из него религиозный культ. Будучи искренне верующей в юности, она еще больше полюбила Анри за то, что он глубоко уважал ее убеждения и преклонялся перед ее целомудрием. Самое ее благочестие поддерживало в ней восторженность этой любви, и едва только она получила свободу, ее охватило стремление освятить их союз нерасторжимыми узами брака. Она радостно мечтала, что пожертвует богатством, которым так дорожит свет, и предрассудками своего класса, которые никогда не влияли на ее суждения. Бедняжка думала, что совершает подвиг. И действительно, это было подвигом, потому что высший свет неминуемо заклеймил бы ее презрением или насмешкой. Она не предвидела, что гордый плебей сочтет ее жертву ничтожной и примет ее почти как оскорбление.
Ужас, страданье и протест Лемора вдруг открыли ей глаза на многое, и в ее смятенном сознании всплыло все то, что она знала – хотя еще и смутно – о социальном кризисе, переживаемом ее веком.
В нашу эпоху женщине доступны все самые высокие области мысли. Отныне всякая женщина, свободно, не боясь показаться смешной педанткой, может, сообразно с уровнем своего развития, читать любую литературу – газеты или романы, философские, политические или поэтические произведения, официальные речи или личные воспоминания – и по этой литературе изучать великую книгу современной жизни, книгу скорбную, многословную, противоречивую и вместе с тем глубокую и полную значения. Марсель, как и все мы, хорошо знала, что наше настоящее, больное и бессильное, ведет борьбу с прошлым, которое тянет его назад, и с будущим, зовущим его вперед. Она уже видела, как яркие молнии скрещивались над ее головой, она предчувствовала грозные бои, более или менее отдаленные. Она не была малодушна по природе, ее ничто не пугало, и она не закрывала глаза на действительность. Вечные стоны, жалобы, страхи и взаимные упреки ее престарелых родственников так наскучили ей, что всякие опасения стали ей ненавистны. Молодость не хочет проклинать пору своего цветения, – и эти пленительные годы дороги ей, какие бы бури их ни потрясали. Нежная и мужественная Марсель говорила себе, что можно весело смеяться даже в грозу и непогоду, укрывшись с любимым под сенью ветвей. Жестокая борьба материальных интересов казалась ей игрой. «Что для меня разорение, изгнанье, тюрьма! – думала она в то время, как со всех сторон над мнимыми баловнями века стягивались тучи. – Разве можно любовь изгнать из жизни? А я, благодаренье Богу, люблю человека незаметного, которому ничто не грозит».
Ей не приходило в голову, что эта глухая и скрытая борьба, продолжавшаяся несмотря на противодействие властей и явные неудачи, нанесет удар ее чувству. Но эта война идей и чувств зашла слишком далеко, и Марсель, оказавшись вовлеченной в нее, внезапно увидела, что иллюзии ее рассеялись, как сон. Это была борьба умственных и нравственных интересов между двумя различными классами, проникнутыми враждебными друг другу верованиями и страстями; и Марсель встретила в лице боготворившего ее человека непримиримого врага. Сначала ее испугало такое открытие, но постепенно она примирилась с этой мыслью, рисовавшей ей новые цели, еще более благородные и увлекательные, чем те, что занимали ее ум в течение последнего месяца. Она еще долго ходила по тихим и пустынным комнатам и, наконец, приняла решение, которое у всякого другого вызвало бы улыбку удивления и жалости.
Это произошло совсем недавно, какой-нибудь год тому назад.
II
Путешествие
Марсель де Бланшемон, выйдя замуж за двоюродного брата, сохранила и после брака свою девичью фамилию. Земельные угодья и замок де Бланшемон являлись частью ее родового имущества. Земля представляла значительную ценность, но замок, находившийся более ста лет в пользовании фермеров, уже давно был необитаем и превратился в такую развалину, что для восстановления его потребовались бы большие затраты. Мадемуазель де Бланшемон, рано осиротевшая, воспитывалась в одном из парижских монастырей; вышла она замуж очень юной, муж не посвящал ее в дела по управлению имением, и она никогда не была в замке своих предков. Собираясь покинуть Париж и уехать в деревню, где она надеялась найти те условия жизни, которые согласовались бы с принятым ею решением, она хотела начать свои странствования с посещения Бланшемона, чтобы затем поселиться в этом поместье, если оно будет отвечать ее намерениям. Она знала, в каком упадке находился замок, и именно поэтому прежде всего остановилась на нем. Ссылаясь на денежные затруднения, в которых она очутилась после смерти мужа, и на очевидный беспорядок в его делах, она объявила, что ей необходимо поехать в имение на несколько недель, хотя для нее и не была ясна ни настоящая цель, ни продолжительность поездки; она стремилась лишь расстаться с Парижем и с той жизнью, которую ей пришлось бы там вести.
К счастью для нее, в их семье не было никого, кто мог бы считать своей обязанностью сопровождать ее. Как единственная дочь, она была избавлена от опеки сестры или старшего брата. Престарелые родители ее мужа, испуганные долгами покойного сына, которые можно было выплатить лишь при разумном ведении дел, были удивлены и восхищены тем, что эта двадцатидвухлетняя женщина, до сих пор не проявлявшая никаких способностей и интереса к делам, решила взять все в свои руки и убедиться воочию в состоянии оставленного ей наследства. Однако они возражали против того, чтобы она ехала с ребенком одна, и предлагали ей взять с собой поверенного. Кроме того, дедушка и бабушка опасались, как бы путешествие в жаркую погоду не повлияло на здоровье их внука. Но Марсель уверяла стариков, что постоянное присутствие в дороге пожилого стряпчего будет ей только в тягость, что тамошние нотариусы и поверенные, хорошо знающие местные условия, дадут ей более точные сведения и более полезные советы, а расчеты с фермерами и возобновление арендных договоров – дело не трудное. Что же касается ребенка, то в Париже он совсем захирел, и деревенский воздух, солнце и прогулки принесут ему лишь пользу. Марсель внезапно ощутила в себе силы для борьбы с препятствиями, которые она предвидела и над которыми так много думала в бессонную ночь, описанную в предыдущей главе; в качестве главного довода она выдвинула обязанности, возлагаемые на нее ролью опекунши сына. Марсель заявила, что не вполне осведомлена о состоянии наследства, оставленного господином де Бланшемон; возможно, что он затребовал у фермеров крупные суммы вперед, взял большие ссуды под залог земель и т. д. Она настаивала, что ей необходимо лично удостовериться во всем и узнать, какими средствами может она располагать, чтобы не нарушить интересов сына и обеспечить его будущность. Она говорила об этом так разумно, – хотя в сущности все это очень мало беспокоило ее, – что к концу дня одержала верх; вся семья согласилась с ней и одобрила ее решение. Ее любовь к Анри сохранялась в глубокой тайне, и ни малейшее подозрение не нарушило покоя ее престарелых родственников.
Возбужденная непривычной деятельностью и воодушевлявшей ее надеждой, она и в следующую ночь спала не лучше, чем в ночь последнего свидания с Лемором. Ей снились какие-то странные сны, то радостные, то мучительные. С восходом солнца она уже совсем проснулась и, бросив рассеянный взгляд на убранство своей спальни, впервые была поражена окружавшей ее ненужной и разорительной роскошью: атласные обои, обилие удобной и мягкой мебели, дорогих и изысканных вещей, множество безделушек, блеск позолоты, драгоценный фарфор, деревянная скульптура и редкости – словом, все, что заполняет в наши дни будуар светской женщины.
«Хотела бы я знать, – подумала она, – почему мы так презираем содержанок? Они заставляют дарить им то, что мы покупаем себе сами. Они жертвуют своим целомудрием ради обладания такими мелочами, которые в глазах серьезной и разумной женщины не должны бы иметь никакой цены, но, однако, мы считаем их необходимыми. Они любят то же, что и мы, и, чтобы казаться такими же богатыми и счастливыми, идут на позор. Прежде чем осуждать их, нам следовало бы подать им пример простой и строгой жизни! А если сравнить наши нерасторжимые браки с их временными связями, то так ли уж бескорыстны девушки высшего общества? Разве не видим мы, что и в нашем кругу так же часто, как и среди продажных женщин, девушку-ребенка отдают старику, что красота оскверняется мерзостью порока, что ум подчинен глупости, – и все это ради бриллиантов, кареты, ради ложи у итальянцев! Бедные, отверженные девушки! Говорят, что вы тоже презираете нас, – и вы правы!
Между тем в прозрачной синеве рассвета, проникавшего сквозь занавеси, можно было уже различить пленительные очертания этого святилища, которое госпожа де Бланшемон так любила когда-то украшать, изощряя свой вкус. Она почти всегда жила отдельно от мужа, и ее прекрасная комната, дышавшая такой девической чистотой и свежестью, куда ни разу не осмелился проникнуть даже Анри, вызывала в ней только грустные и нежные воспоминания. Здесь, вдали от большого света, она мечтала над книгой, вдыхая аромат цветов несравненной красоты, которые вы можете увидеть только в Париже и которые составляют одну из радостей богатой женщины. Она внесла в этот уголок все то поэтическое чувство, каким была одарена; она убрала и украсила его для себя одной; она полюбила его, словно какую-то таинственную обитель, где в благоговейном раздумье и молитве забывала о горестях жизни и волнениях души.
Марсель окинула комнату долгим, нежным взглядом и мысленно произнесла вечное «прости» этим немым свидетелям ее сокровенной жизни, незримой, как жизнь цветка, на котором даже солнцу не найти пятна, но который все же прячет головку в листве, стремясь укрыться в тени, среди прохлады.
«Мой уединенный приют, украшения, которые я сама для тебя выбирала, – вы были мне отрадой, – думала она. Но я не смею больше любоваться вами: вы спутники богатства и праздности. Отныне я смотрю на вас, как на разлучников моих с Анри. Ваш вид вызывает во мне горечь и отвращение. Я хочу расстаться с вами, пока не овладела нами ненависть друг к другу, пока не перестала охранять меня суровая мадонна, пока я не возненавидела отражение свое в прозрачной глубине зеркал и цветы в роскошных вазах не перестали пленять меня своей красой и ароматом».
Она решила написать Анри. Но прежде чем приняться за письмо, Марсель тихо подошла к кроватке сына, чтобы поглядеть на спящее дитя и перекрестить его. Вид бледного личика, на котором уже отразилось раннее развитие ума в ущерб здоровью, вызвал в ней глубокое умиление. Ее душа устремилась к ребенку, и ей казалось, что он услышит ее во сне и поймет ее материнские чувства.
– Не тревожься, – говорила она, – я люблю его не больше, чем тебя. Не надо ревновать! Если бы он не был лучшим и достойнейшим из людей, я не желала бы дать его тебе в отцы. Спи, мой ангел, я люблю тебя горячо и преданно! Спи спокойно, ничто не разлучит нас!
Марсель заплакала облегчающими душу слезами и, вернувшись в свою комнату, написала Лемору следующие строки:
«Вы правы, я Вас понимаю. Но я хочу быть достойной Вас и добьюсь этого. Я уезжаю далеко. Не беспокойтесь обо мне и продолжайте меня любить. Через год, в этот же день, Вы получите от меня письмо. Устройте Вашу жизнь так, чтобы иметь возможность явиться на мой зов, куда бы я Вас ни позвала. Если Вы найдете, что я недостаточно прониклась Вашим учением, Вы мне дадите еще год… Год, два года, полные надежды, – ведь это почти счастье для двух существ, которые так долго любили друг друга, ни на что не надеясь».
Она послала это письмо рано утром. Но Лемора дома не было. Он уехал накануне вечером, неизвестно куда и на сколько времени, отказавшись от своей скромной квартиры. Однако посыльного уверили, что письмо будет доставлено одним из его друзей, которому он поручил ежедневно пересылать его почту.
Два дня спустя госпожа де Бланшемон с сыном, горничной и слугой проезжала в почтовой карете по пустынным местам Солони.
Отъехав на восемьдесят лье от Парижа, путники очутились почти в самом центре Франции и переночевали в одном из ближайших к Бланшемону городков. До замка оставалось еще пять-шесть лье, но, несмотря на то, что за последние годы было проведено несколько новых дорог, деревни сообщались между собой так плохо, что получить от населения точные указания, где находится то или другое из ближайших мест, было крайне трудно. Все знают дорогу в город или на ярмарку, куда приходится время от времени ездить по делам. Но скажите спасибо, если в какой-нибудь деревушке вам укажут дорогу к ферме, находящейся на расстоянии хотя бы одного лье. Дорог много, и все похожи одна на другую!
Слуги госпожи де Бланшемон проснулись на рассвете, чтобы приготовить все к отъезду, но ни хозяин постоялого двора, ни работники, ни проезжие крестьяне, которые не успели еще выспаться, не могли указать им путь к замку Бланшемон. Никто точно не знал, где находится это поместье. Один был родом из Мон-Люсона, другой знал Шато-Мейан, третий сто раз проезжал через Арданг и Ла-Шатр, но о Бланшемоне знали только понаслышке.
– Это земли доходные, – сказал один, – я знаком с тамошним фермером, но побывать там не довелось. Путь туда не близкий, добрых четыре лье от нас.
– Ну, еще бы! – заявил другой. – В прошлом году я даже видел на ярмарке в Бертену быков из Бланшемона и разговаривал с господином Бриколеном, фермером, вот как сейчас с вами говорю. Как же, как же! Я слыхал про Бланшемон, но как туда проехать – не скажу!
Служанка, как и все служанки постоялых дворов, совсем не знала здешних мест. Она попала сюда недавно.
Горничная и лакей госпожи де Бланшемон, которые привыкли сопровождать свою госпожу в великолепные поместья, известные более чем на двадцать лье вокруг и расположенные в местностях культурных, чувствовали себя словно в Сахаре. Лица у них вытянулись, и самолюбие невыносимо страдало оттого, что им приходится безуспешно спрашивать дорогу к замку, которому они оказывают честь своим посещением.
– Должно быть, лачуга какая-нибудь, берлога, – сказала Сюзетта Лапьеру с презрительной гримасой.