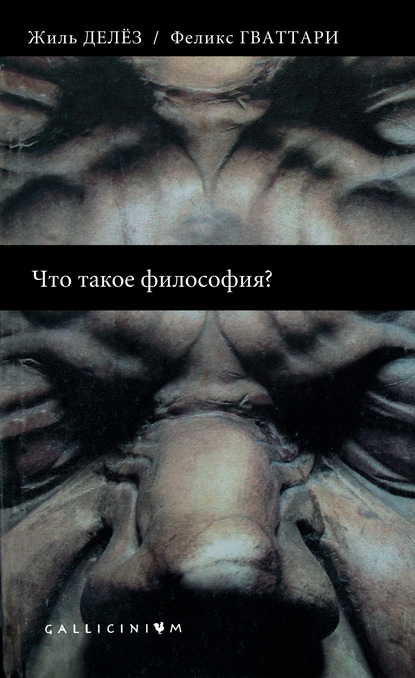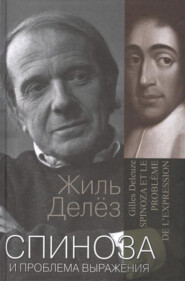По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Что такое философия
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Что такое философия
Жиль Делёз
Феликс Гваттари
Gallicinium
Совместная книга двух выдающихся французских мыслителей философа Жиля Делёза (1925–1995) и психоаналитика Феликса Гваттари (1930–1992) посвящена одной из самых сложных и вместе с тем традиционных для философского исследования тем: что такое философия? Модель философии, которую предлагают авторы, отдает предпочтение имманентности и пространству перед трансцендентностью и временем. Философия – творчество «концептов» работает в «плане имманенции» и этим отличается, в частности, от «мудрости» и религии, апеллирующих к трансцендентным реальностям. Философское мышление мышление пространственное, и потому основные его жесты «детерриториализация» и «ретерриториализация».
Для преподавателей философии, а также для студентов и аспирантов, специализирующихся в области общественных наук. Представляет интерес для специалистов философов, социологов, филологов, искусствоведов и широкого круга интеллектуалов.
Делез Жиль, Гваттари Феликс
Что такое философия
GALLICINIUM
Gilles DELEUZE
Fеlix GUATTARI
Quеst-ce que la philosophie?
LES ЕDITIONS DE MINUIT
1991
Перевод с французского С. Н. Зенкина
© С.Н. Зенкин, перевод, послесловие, 1998
© Les Еditions de Minuit, 1991
© Издательство «Институт экспериментальной социологии», 1998
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2013
Введение
Такой вот вопрос…
Пожалуй, вопросом «что такое философия» можно задаваться лишь в позднюю пору, когда наступает старость, а с нею и время говорить конкретно. Действительно, библиография по нашей проблеме весьма скудна. Это такой вопрос, которым задаются, скрывая беспокойство, ближе к полуночи, когда больше спрашивать уже не о чем. Его ставили и раньше, все время, но слишком уж косвенно или уклончиво, слишком искусственно, слишком абстрактно, излагая этот вопрос походя и свысока, не давая ему слишком глубоко себя зацепить. Недоставало трезвости. Слишком хотелось заниматься философией, а о том, что же это такое, спрашивали себя разве что упражняясь в изящном слоге; не доходили до той не-изящности слога, когда наконец можно спросить – так что же это за штука, которой я занимался всю жизнь? Бывает, что в старости человеку даруется не вечная молодость, но, напротив, высшая свобода, момент чистой необходимости, словно миг благодати между жизнью и смертью, и тогда все части машины действуют согласно, чтобы запустить в грядущее стрелу, которая пролетит сквозь столетия; так было с Тицианом, Тернером, Моне[1 - Ср.: L’Cuvre ultime, de Cеzanne ? Dubuffet, Fondation Maeght, предисловие Жана-Луи Пра.]. Тернер в старости приобрел или же завоевал себе право вести искусство живописи путем пустынным и без возврата, и то было не что иное, как последний вопрос. «Жизнь Ранее», пожалуй, знаменует собой одновременно старость Шатобриана и начало современной литературы[2 - Barbеris, Chateaubriand, Ed. Larousse: «"Ранее” – это книга о старости как недостижимой ценности, книга против старости, против ее власти; это книга о крушении целого мира, в которой утверждается одна лишь власть письма».]. В кино мы тоже порой видим, как человек получает щедрый дар в последнюю пору жизни, – когда, например, Ивенс сам хохочет со своей ведьмой среди буйных порывов ветра. Так и в философии: кантовская «Критика способности суждения» – произведение старчески буйное, и его наследники вечно за ним не поспевают: здесь все способности ума выходят за свои пределы, за те самые пределы, которые Кант столь тщательно фиксировал в своих книгах зрелой поры.
Мы не можем притязать на такой уровень. Просто нам тоже пришло время задаться вопросом, что такое философия. Мы и раньше все время его ставили, и у нас был на него неизменный ответ: философия – это искусство формировать, изобретать, изготавливать концепты. Но ответ должен быть не просто восприимчив к вопросу, – нужно, чтобы им еще и определялись момент и ситуация вопроса, его обстоятельства, пейзажи и персонажи, его условия и неизвестные величины. Нужно суметь задать этот вопрос «по-дружески», словно доверительное признание, или же бросить его в лицо врагу, словно вызов, а притом еще и дойти до некоей сумрачной поры, когда и другу не очень-то верят. До той поры, когда говорят: «Это так, только не знаю, хорошо ли я это высказал, довольно ли был убедителен». И тут замечают, что хорошо высказать и кого-то убедить значит немного, потому что в любом случае сейчас-то это так.
Как мы увидим, концепты нуждаются в концептуальных персонажах, которые способствуют их определению. Одним из таких персонажей является друг; говорят даже, что в нем сказывается греческое происхождение философии – в других цивилизациях были Мудрецы, а греки являют нам таких вот «друзей», которые не просто более скромные мудрецы. Как утверждают, именно греки окончательно зафиксировали смерть Мудреца и заменили его философами, друзьями мудрости, которые ищут ее, но формально ею не обладают[3 - Koj?ve, «Tyrannie et sagesse», p. 235 (in Lеo Strauss, De la tyrannie, Gallimard).]. Однако между философом и мудрецом различие не просто в степени, словно по некоторой шкале: скорее дело в том, что древний восточный мудрец мыслил Фигурами, философ же изобрел Концепты и начал мыслить ими. Вся мудрость сильно изменилась. Поэтому так трудно выяснить, что же значит «друг», даже у греков и особенно у них. Быть может, словом «друг» обозначается некая интимность мастерства, как бы любовь мастера к материалу и потенциальная зависимость от него, как у столяра с деревом, – хороший столяр потенциально зависит от дерева, значит, он друг дерева? Это важный вопрос, поскольку в философии под «другом» понимается уже не внешний персонаж, пример или же эмпирическое обстоятельство, а нечто внутренне присутствующее в мысли, условие самой ее возможности, живая категория, элемент трансцендентального опыта. Благодаря философии греки решительно изменили положение друга, который оказался соотнесен уже не с иным человеком, а с неким Существом, Объектностью, Целостностью. Он друг Платону, но еще более друг мудрости, истине или концепту, он Филалет и Теофил… Философ разбирается в концептах и даже при их нехватке знает, какие из них нежизнеспособны, произвольны или неконсистентны, не способны продержаться и минуты, а какие, напротив, сделаны добротно и даже несут в себе память о тревогах и опасностях творчества.
Что же значит «друг», когда он становится концептуальным персонажем, то есть предпосылкой мышления? Может, это влюбленный – да, пожалуй, скорее влюбленный? Ведь благодаря другу мысль вновь обретает жизненную связь с Другим, которая, казалось, исключена из чистого мышления. А может, здесь имеется в виду еще кто-то иной, не друг и не влюбленный? Ведь если философ – это друг мудрости или же влюбленный в нее, значит, он претендует на нее, будучи скорее в потенциальном стремлении, чем в действительном обладании. Тогда, стало быть, друг – это еще и претендент, а то, чьим другом он себя называет, – это Вещь, на которую обращено притязание, а вовсе не кто-то третий; тот-то, напротив, становится соперником. Получается, что в дружестве столько же состязательного недоверия к сопернику, сколько любовного стремления к предмету желаний. Стоит дружеству обратиться к сущностям, как двое друзей оказываются претендентом и соперником (впрочем, кто же их разберет?). Такова первая особенность, благодаря которой философия представляется нам явлением древнегреческой цивилизации, совпадающим с культурным вкладом городов-полисов: в них сформировались общества друзей или равных, но зато между ними и внутри каждого из них стимулировались отношения соперничества, во всех областях сталкивались друг с другом претенденты – в любви, играх, судах, в государственном управлении, в политике, даже в поэзии, чьей предпосылкой оказывается не друг, а претендент и соперник (диалектика, которую Платон характеризует как «амфисбетесис»). Соперничество свободных людей, атлетизм, возведенный в общий принцип – агон[4 - См., например, у Ксенофонта, «Государственное устройство Спарты», IV, 5. Эти аспекты греческого полиса специально анализируются у Детьена и Вернана.]. Дружество же призвано примирять целостность сущности с соперничеством претендентов. Не слишком ли тяжелая задача?
Друг, влюбленный, претендент, соперник – это трансцендентальные характеристики, которые, однако, не теряют своего интенсивно-одушевленного существования в лице одного или нескольких персонажей. И когда в наши дни Морис Бланшо – один из немногих мыслителей, рассматривающих смысл слова «друг» в философии, – вновь задается этим внутренним вопросом о предпосылках мысли как таковой, то он вводит в лоно чистой Мыслимости новых концептуальных персонажей – уже отнюдь не греческих, пришедших из других мест, переживших словно некую катастрофу, которая влечет их к новым жизненным отношениям, возводимым в ранг априорных характеров: это уклончивость, утомленность, даже какая-то подавленность друзей, превращающая самое дружество с мыслью о концепте в бесконечную недоверчивость и терпеливость[5 - О связи дружества с возможностью мышления в современном мире см.: Blanchot, L’amitiе et L’entretien infini (диалог двух утомленных), Gallimard. A также: Mascolo, Autour d’un effort de mеmoire, Ed. Nadeau.]. Список концептуальных персонажей никогда не бывает закрыт и тем самым играет важную роль в развитии и переменах философии; необходимо понять это разнообразие, не сводя его к единству – впрочем, и так уже сложному – греческого философа.
Философ – друг концепта, он находится в потенциальной зависимости от концепта. Это значит, что философия – не просто искусство формировать, изобретать или же изготавливать концепты, ибо концепты – это не обязательно формы, находки или продукты. Точнее будет сказать, что философия – дисциплина, состоящая в творчестве концептов. Стало быть, друг оказывается другом своих собственных творений? Или же действительность концепта отсылает к потенциям друга, сливая в одно целое творца и его двойника? Творить все новые концепты – таков предмет философии. Поскольку концепт должен быть сотворен, он связан с философом как с человеком, который обладает им в потенции, у которого есть для этого потенция и мастерство. На это нельзя возражать, что о «творчестве» обычно говорят применительно к чувственным вещам и к искусствам, – искусство философа сообщает существование также и умственным сущностям, а философские концепты тоже суть «sensibilia». Собственно, науки, искусства и философии имеют равно творческий характер, просто только философия способна творить концепты в строгом смысле слова. Концепты не ждут нас уже готовыми, наподобие небесных тел. У концептов не бывает небес. Их должно изобретать, изготавливать или, скорее, творить, и без подписи сотворившего они ничто. Ницше так характеризовал задачу философии: «Философы должны не просто принимать данные им концепты, чтобы чистить их и наводить на них лоск; следует прежде всего самим их производить, творить, утверждать и убеждать людей ими пользоваться. До сих пор, в общем и целом, каждый доверял своим концептам, словно это волшебное приданое, полученное из столь же волшебного мира», – но такую доверчивость следует заменить недоверчивостью, и философ особенно должен не доверять именно концептам, коль скоро он не сам их сотворил (об этом хорошо знал Платон, хотя и учил противоположному…)[6 - Nietzsche, Posthumes 1884–1885, Cuvres philosophiques XI, Gallimard, p. 215–216 (об «искусстве недоверия»).]. Платон говорил, что следует созерцать Идеи, но сперва он должен был сам создать концепт Идеи. Чего стоит философ, если о нем можно сказать: он не создал ни одного концепта, он не создал сам своих концептов?
Теперь, по крайней мере, мы видим, чем не является философия: она не есть ни созерцание, ни рефлексия, ни коммуникация, пусть даже она, бывало, и считала себя то одним, то другим из них, в силу способности каждой дисциплины порождать свои собственные иллюзии и укрываться за ею же специально наведенным туманом. Философия – не созерцание, так как созерцания суть сами же вещи, рассматриваемые в ходе творения соответствующих концептов. Философия – не рефлексия, так как никому не нужна философия, чтобы о чем-то размышлять; объявляя философию искусством размышления, ее скорее умаляют, чем возвышают, ибо чистые математики вовсе не дожидались философии, чтобы размышлять о математике, как и художники – о живописи или музыке; говорить же, будто при этом они становятся философами, – скверная шутка, настолько неотъемлемо их рефлексия принадлежит их собственному творчеству. Философия не обретает окончательного прибежища и в коммуникации, которая потенциально работает только с мнениями, дабы сотворить в итоге «консенсус», а не концепт. Идея дружеской беседы в духе западной демократии никогда не производила ни малейшего концепта; она, может, и берет свое начало у греков, да только сами греки настолько ей не доверяли, настолько сурово с ней обращались, что у них концепт звучал скорее одиноким голосом птицы, парящей над полем сражения и останками уничтоженных мнений (пьяных гостей на пиру). Философия не занята ни созерцанием, ни рефлексией, ни коммуникацией, хоть ей и приходится создавать концепты для этих активных или пассивных состояний. Созерцание, рефлексия и коммуникация – это не дисциплины, а машины, с помощью которых в любых дисциплинах образуются Универсалии. Универсалии созерцания, а затем Универсалии рефлексии, – таковы две иллюзии, через которые уже прошла философия в своих мечтах о господстве над другими дисциплинами (объективный идеализм и субъективный идеализм), и ей доставит ничуть не больше чести, если она начнет представлять себя в роли новых Афин и отыгрываться Универсалиями коммуникации, долженствующими-де доставить нам правиладля воображаемого господства над рынком и масс-медиа (интерсубъективный идеализм). Творчество всегда единично, и концепт как собственно философское творение всегда есть нечто единичное. Первейший принцип философии состоит в том, что Универсалии ничего не объясняют, они сами подлежат объяснению.
Познавать самого себя – учиться мыслить – поступать так, как если бы ничто не было самоочевидно, – удивляться, «изумляться бытию сущего»… во всех этих и многих других характеристиках философии формируются интересные, хотя в конечном счете и надоедающие человеческие позиции, однако в них не утверждается, даже с точки зрения педагогики, четко определенное занятие, точно ограниченный род деятельности. Напротив того, определение философии как познания посредством чистых концептов можно считать окончательным. Только не следует противопоставлять друг другу познание посредством концептов и посредством конструирования концептов в возможном опыте (или интуиции). Ибо, согласно вердикту Ницше, вам ничего не познать с помощью концептов, если вы сначала сами их не сотворите, то есть не сконструируете их в свойственной каждому из них интуиции, – это поле, план, почва концептов, которые не совпадают с ними самими, но в них скрываются их зачатки и взращивающие их персонажи. Конструирование требует, чтобы любое творение было конструкцией в некотором плане, сообщающем ему автономное существование. Творить концепты – это уже значит нечто создавать. Тем самым вопрос о применении или пользе философии, или даже о ее вреде (кому же она вредит?) ставится по-новому.
Много проблем теснится перед глазами старика, которому явились бы в видении всевозможные философские концепты и концептуальные персонажи. Прежде всего, концепты всегда несли и несут на себе личную подпись: аристотелевская субстанция, декартовское cogito, лейбницианская монада, кантовское априори, шеллингианская потенция, бергсоновская длительность… А сверх того, некоторым из них требуется для своего обозначения необыкновенное слово, порой варварское или же шокирующее, тогда как другим достаточно самого обычного повседневного слова, наполняющегося столь далекими обертонами, что нефилософский слух может их и не различить. Одним потребны архаизмы, другим неологизмы, пронизанные головокружительными этимологическими изысканиями; этимология здесь – характерно философский род атлетизма. Очевидно, в каждом случае есть какая-то странная необходимость в этих словах и в их подборе, что-то вроде стиля. Для того чтобы окрестить новый концепт, требуется характерно философский вкус, проявляющийся грубо или же вкрадчиво и создающий внутри языка особый язык философии – особый не только по лексике, но и по синтаксису, который может отличаться возвышенностью или же великой красотой. Кроме того, хотя у каждого из концептов есть свой возраст, подпись создателя и имя, они по-своему бессмертны – и в то же время повинуются требованиям обновления, замены и мутации, благодаря которым философия имеет беспокойную историю и столь же беспокойную географию; каждый момент и каждое место пребывают – но во времени, и проходят – но вне времени. Если концепты непрерывно меняются, то спрашивается, в чем же тогда единство философских учений? И в чем состоит отличие наук и искусств, которые не применяют концептов? И как обстоит дело с их собственной историей? Если философия – это непрерывное творчество концептов, то, разумеется, возникает вопрос, что же такое концепт как философская Идея и в чем заключаются другие творческие Идеи, которые не являются концептами, относятся к наукам и искусствам и имеют свою собственную историю, свое собственное становление и свои разнообразные отношения друг с другом и с философией. Исключительное право на создание концептов обеспечивает философии особую функцию, но не дает ей никакого преимущества, никакой привилегии, ведь есть и много других способов мышления и творчества, других модусов идеации, которым не нужно проходить через концепт (например, научное мышление). И нам вновь придется вернуться к вопросу о том, для чего служит эта концептотворящая деятельность, в своем отличии от деятельности научной или художественной; зачем нужно творить все новые и новые концепты, какая в них необходимость, какая от них польза? Что с ними делать? Отвечать, будто величие философии именно в том, что она ни для чего не служит, – такое кокетство более не забавляет даже юношей. Во всяком случае, вопрос о смерти метафизики или преодолении философии у нас до сих пор еще не был проблематизирован, были лишь тягостно-никчемные пересказы давно известного. Сегодня толкуют о крахе философских систем, тогда как просто изменился концепт системы. Пока есть время и место для творчества концептов, соответствующая операция всегда будет именоваться философией или же не будет от нее отличаться, хотя бы ей и дали другое имя.
Однако мы знаем, что у друга или влюбленного как претендента всегда бывают соперники. Если философия действительно, как утверждают, берет начало в Греции, то это потому, что в греческом полисе, в отличие от империй или государств, изобрели агон как правило общества «друзей» – людей, которые свободны, поскольку соперничают между собой (граждан). Такова ситуация, постоянно описываемая у Платона: когда любой гражданин на что-нибудь претендует, он обязательно встречает себе соперников, а значит требуется умение судить об обоснованности претензий. Столяр притязает на дерево, но наталкивается на лесничего, угольщика, плотника, которые говорят: это я друг дерева. В заботах о людях тоже много претендентов, представляющихся друзьями человека: крестьянин его кормит, ткач одевает, врач лечит, воин защищает[7 - Платон, «Политик», 268а, 279а.]. И если во всех подобных случаях выбор все-таки делается из более или менее узкого круга людей, то иначе обстоит дело в политике, где кто угодно может претендовать на что угодно (в афинской демократии, какой видит ее Платон). Отсюда для Платона возникает необходимость навести порядок, создать инстанции, благодаря которым можно будет судить об обоснованности претензий; это и есть его Идеи как философские концепты. Но ведь даже и здесь приходится встречать всевозможных претендентов, говорящих: это я настоящий философ, это я друг Мудрости или же Обоснованности! Соперничество доходит до своего предела в споре философа и софиста, тяжущихся за наследство древнего мудреца, и как тут отличить ложного друга от настоящего, а концепт от симулякра? Подражатель и друг – таков спектакль, поставленный Платоном, где во множестве являются разные концептуальные персонажи, наделенные потенциями комизма и трагизма.
В более близкие к нам времена философия встречала себе и много новых соперников. Сначала подменить ее желали гуманитарные науки, особенно социология. А поскольку философия все больше пренебрегала своей задачей творчества концептов, стремясь укрыться в Универсалиях, то становилось уже и не совсем ясно, о чем шел спор. То ли имелось в виду вообще отказаться от всякого творчества концептов ради строгой науки о человеке, то ли, напротив, преобразить самую природу концептов, превратив их либо в коллективные представления, либо в мировоззрения, создаваемые народами, их жизненными, историческими и духовными силами. Далее настала очередь эпистемологии, лингвистики, даже психоанализа, а равно и логического анализа. Переживая новые и новые испытания, философия, казалось, обречена была встречать себе все более нахальных и все более убогих соперников, какие Платону не примерещились бы даже в самом комическом расположении духа. Наконец, до полного позора дело дошло тогда, когда самим словом «концепт» завладели информатика, маркетинг, дизайн, реклама – все коммуникационные дисциплины, заявившие: это наше дело, это мы творцы, это мы концепторы! Это мы друзья концепта, ведь мы вводим его в свои компьютеры. «Информация и творчество», «концепт и предпринимательство» – на эти темы уже есть обильная библиография… В маркетинге усвоили мысль о некотором отношении между концептом и событием; и вот уже концепт выступает как совокупность различных представлений о товаре (историческое, научное, художественное, сексуальное, прагматическое…), а событие – как презентация этого товара, в которой обыгрываются различные представления о нем и возникает-де некий «обмен идей». Нет событий, кроме презентаций, и нет концептов, кроме товаров, которые можно продать. Этот общий процесс подмены Критики службой сбыта не обошел стороной и философию. Симулякр, имитация какого-нибудь пакета с лапшой стала настоящим концептом, а презентатор продукта, товара или же художественного произведения стал философом, концептуальным персонажем или художником. Куда уж старухе философии наравне с молодыми специалистами бежать взапуски за универсалиями коммуникации, дабы охарактеризовать товарную форму концепта – МЕРЦА! Больно, конечно, слышать, что словом «Концепт» называется компания по разработке и обслуживанию информационных систем. Однако чем чаще философия сталкивается с бесстыдными и глупыми соперниками, чем чаще она встречает их внутри себя самой, тем более бодро она себя чувствует для выполнения своей задачи – творчества концептов, которые похожи скорее на аэролиты, чем на товары. Неудержимый смех отбивает у нее охоту плакать. Таким образом, вопрос философии – найти ту единственную точку, где соотносятся между собой концепт и творчество.
Философы до сих пор недостаточно занимались природой концепта как философской реальности. Они предпочитали рассматривать его как уже данное знание или представление, выводимое из способностей, позволяющих его формировать (абстракция или обобщение) или же им пользоваться (суждение). Но концепт не дается заранее, он творится, должен быть сотворен; он не формируем, а полагается сам в себе (самополагание). Одно вытекает из другого, поскольку все по-настоящему сотворенное, от живого существа до произведения искусства, способно в силу этого к самополаганию, обладает аутопойетическим характером, по которому его и узнают. Чем более концепт творится, тем более он сам себя полагает. Завися от вольной творческой деятельности, он также и полагает себя сам в себе, независимо и необходимо; самое субъективное оказывается и самым объективным.
В этом смысле наибольшее внимание концепту как философской реальности уделяли посткантианцы, особенно Шеллинг и Гегель. Гегель дает концепту мощное определение через Фигуры творчества и Моменты его самополагания: фигуры стали принадлежностями концепта, так как они образуют тот его аспект, в котором он творится сознанием и в сознании, через преемственность умов, тогда как моменты образуют другой аспект, в котором концепт сам себя полагает и объединяет разные умы в абсолюте Самости. Тем самым Гегель показал, что концепт не имеет никакого сходства с общей или абстрактной идеей, а равно и с несотворенной Мудростью, которая не зависела бы от самой философии. Но это было достигнуто ценой ничем не ограниченного расширения философии как таковой, которая уже почти не оставляла места для самостоятельного развития наук и искусств, потому что с помощью. своих собственных моментов воссоздавала универсалии, а персонажей своего собственного творчества рассматривала просто как призрачных фигурантов. Посткантианцы вращались в кругу универ-сальной энциклопедии концепта, связывающей его творчество с чистой субъективностью, вместо того чтобы заняться делом более скромным – педагогикой концепта, анализирующей условия творчества как факторы моментов, остающихся единичными[8 - В намеренно дидактической форме весьма интересная педагогика концепта предлагается в книге: Frеdеric Cossutta, Elеments pour la lecture des textes philosophiques, Ed. Bordas.]. Если три этапа развития концепта суть энциклопедия, педагогика и профессионально-коммерческая подготовка, то лишь второй из них может не дать нам с вершин первого низвергнуться в провал третьего – в этот абсолютный провал мысли, каковы бы ни были, разумеется, его социальные преимущества с точки зрения мирового капитализма.
I. Философия
1. Что такое концепт?
Не существует простых концептов. В концепте всегда есть составляющие, которыми он и определяется. Следовательно, в нем имеется шифр. Концепт – это множественность, хотя не всякая множественность концептуальна. Не бывает концепта с одной лишь составляющей: даже в первичном концепте, которым «начинается» философия, уже есть несколько составляющих, поскольку не очевидно, что философия должна иметь начало, а коль скоро ею таковое вводится, то она должна присовокупить к нему некоторую точку зрения или обоснование. Декарт, Гегель, Фейербах не только начинают не с одного и того же концепта, но даже и концепты начала у них неодинаковые. Всякий концепт является как минимум двойственным, тройственным и т. д. Не существует также и концепта, который имел бы сразу все составляющие, ибо то был бы просто-напросто хаос; даже так называемые универсалии как последняя стадия концептов должны выделяться из хаоса, ограничивая некоторый мир, из которого они выводятся (созерцание, рефлексия, коммуникация…). У каждого концепта – неправильные очертания, определяемые шифром его составляющих. Поэтому у разных авторов, от Платона до Бергсона, встречается мысль, что суть концепта в членении, разбивке и сечении. Он представляет собой целое, так как тотализирует свои составляющие, однако это фрагментарное целое. Только при этом условии он может выделиться из хаоса психической жизни, который непрерывно его подстерегает, не отставая и грозя вновь поглотить.
При каких условиях концепт бывает первичен – не в абсолютном смысле, а по отношению к другому? Например, обязательно ли Другой вторичен по отношению к «я»? Если обязательно, то лишь постольку, поскольку его концепт – это концепт иного, субъекта, предстающего как объект, особенный по отношению ко мне; таковы две его составляющие. Действительно, стоит отождествить его с некоторым особенным объектом, как Другой уже оказывается всего лишь другим субъектом, который предстает мне; если же отождествить его с другим субъектом, то тогда я сам есть Другой, который предстоит ему. Каждый концепт отсылает к некоторой проблеме, к проблемам, без которых он не имел бы смысла и которые могут быть выделены или поняты лишь по мере их разрешения; в данном случае это проблема множественности субъектов, их взаимоотношений, их взаимопредставления. Но все, разумеется, изменится, если мы станем усматривать здесь иную проблему: в чем заключается сама позиция Другого, которую лишь «занимает» другой субъект, когда предстает мне как особенный объект, и которую в свою очередь занимаю я сам как особенный объект, когда предстаю ему? С такой точки зрения, Другой – это никто, ни субъект ни объект. Поскольку есть Другой, то есть и несколько субъектов, но обратное неверно, В таком случае Другой требует некоторого априорного концепта, из которого должны вытекать особенный объект, другой субъект и «я», – но не наоборот. Изменился порядок мысли, как и природа концептов, как и проблемы, на которые они призваны давать ответ. Оставим в стороне вопрос о различии между проблемой в науке и в философии. Однако даже в философии концепты творятся лишь в зависимости от проблем, которые представляются нам дурно увиденными или дурно поставленными (педагогика концепта).
Грубо говоря, мы рассматриваем некоторое поле опыта, взятое как реальный мир, не по отношению к некоторому «я», а по отношению к простому «наличествованию». В некоторый момент наличествует тихо и спокойно пребывающий мир. И вдруг возникает испуганное лицо, которое смотрит куда-то наружу, за пределы этого поля. Здесь Другой предстает не как субъект или объект, а совсем иначе – как возможный мир, как возможность некоего пугающего мира. Этот возможный мир не реален или еще не реален, однако же он существует – это то выражаемое, что существует лишь в своем выражении, в чьем-то лице или эквиваленте лица. Другой – это и есть прежде всего такое существование возможного мира.
И этот возможный мир обладает в себе также и своей собственной реальностью, именно в качестве возможного мира: выражающему достаточно заговорить и сказать «мне страшно», чтобы придать реальность возможному как таковому (даже если его слова лживы). Слово «я» как языковой индекс иного смысла и не имеет. Впрочем, можно обойтись и без него: Китай – это возможный мир, но он обретает реальность, как только в данном поле опыта кто-то заговаривает о Китае или же на китайском языке. Это совсем не то же самое, как если бы Китай обретал реальность, сам становясь полем опыта. Таким образом, перед нами концепт Другого, предполагающий единственное условие – определенность некоторого чувственного мира. При этом условии Другой возникает как выражение чего-то возможного. Другой – это возможный мир, каким он существует в выражающем его лице, каким он осуществляется в придающей ему реальность речи. В этом смысле он является концептом из трех неделимых составляющих – возможный мир, существующее лицо и реальный язык, то есть речь.
У каждого концепта, разумеется, есть история. Данный концепт Другого отсылает к Лейбницу, к его теории возможных миров и монады как выражения мира; однако проблема здесь иная, так как возможные миры Лейбница не существуют в реальном мире. Он отсылает также к модальной логике пропозиций, но в них возможным мирам не приписывается реальность соответственно условиям их истинности (даже когда Витгенштейн изучает предложения о страхе или боли, он не усматривает в них модальности, выразимые через позицию Другого, потому что статус Другого у него колеблется между другим субъектом и особенным объектом). У возможных миров – долгая история[9 - Разнообразными эпизодами этой истории, которая начинается не с Лейбница, служат, например, предложение о Другом, проходящее как постоянная тема у Витгенштейна («у него болят зубы…»), или полагание Другого как теория возможного мира у Мишеля Турнье («Пятница, или Тихоокеанский лимб»).]. Говоря коротко, можно сказать, что вообще у всех концептов есть история, хотя она извилиста и при необходимости пересекает другие проблемы и разные планы. В концепте, как правило, присутствуют кусочки или составляющие, которые происходят из других концептов, отвечавших на другие проблемы и предполагавших другие планы. Это неизбежно, потому что каждый концепт осуществляет новое членение, принимает новые очертания, должен быть заново активирован или заново выкроен.
Но, с другой стороны, у концепта есть становление, которое касается уже его отношений с другими концептами, располагающимися в одном плане с ним. Здесь концепты пригнаны друг к другу, пересекаются друг с другом, взаимно координируют свои очертания, составляют в композицию соответствующие им проблемы, принадлежат к одной и той же философии, пусть даже история у них и различная. Действительно, любой концепт с конечным числом составляющих разветвляется на другие концепты, иначе составленные, но образующие разные зоны одного итого же плана, отвечающие на взаимно совместимые проблемы, участвующие в сотворчестве. Концепту требуется не просто проблема, ради которой он реорганизует или заменяет прежние концепты, но целый перекресток проблем, где он соединяется с другими, сосуществующими концептами. В случае с концептом Другого как выражения возможного мира в перцептивном поле нам приходится по-новому рассмотреть составляющие самого этого поля: не будучи более ни субъектом перцептивного поля, ни объектом в этом поле, Другой становится условием, при котором перераспределяются друг относительно друга не только субъект и объект, но также фигура и фон, окраины и центр, движение и ориентир, транзитивное и субстанциальное, длина и глубина… Другой всегда воспринимается как некто иной, но в своем концепте он является предпосылкой всякого восприятия, как иных, так и нас самих. Это условие, при котором можно перейти из одного мира в другой. Благодаря Другому мир проходит, и «я» обозначает теперь уже только прошлый мир («я был спокоен…»). Достаточно, к примеру, Другого, чтобы любая длина сделалась возможной глубиной в пространстве и наоборот, так что если бы в перцептивном поле не функционировал этот концепт, то любые переходы и инверсии были бы непостижимы, и мы бы все время натыкались на вещи, поскольку не осталось бы ничего возможного. Или уж тогда, оставаясь в пределах философии, нам пришлось бы отыскать какую-то другую причину, чтобы на них не натыкаться… Таким образом, находясь в том или ином доступном определению плане, можно как бы по мосту переходить от концепта к концепту: создание концепта Другого с такими-то и такими-то составляющими влечет за собой создание нового концепта перцептивного пространства, для которого придется определять другие составляющие (не натыкаться или не слишком часто натыкаться на вещи – одна из таких составляющих).
Мы начали с довольно сложного примера. Но как же иначе, коль скоро простых концептов не бывает? Читатель может обратиться к любому примеру по своему вкусу. Мы полагаем, что в итоге он получит те же самые выводы о природе концепта или о концепте концепта. Во-первых, каждый концепт отсылает к другим концептам – не только в своей истории, но и в своем становлении и в своих нынешних соединениях. В каждом концепте есть составляющие, которые в свою очередь могут быть взяты в качестве концептов (так, одной из составляющих Другого является человеческое лицо, но Лицо и само должно быть рассмотрено как концепт, имеющий свои собственные составляющие). Таким образом, концепты бесконечно множатся и хоть и сотворяются, но не из ничего. Во-вторых, для концепта характерно то, что составляющие делаются в нем неделимыми; различные, разнородные и вместе с тем неотделимые одна от другой – таков статус составляющих, которым и определяется консистенция концепта, его эндоконсистенция. Дело в том, что каждая отличная от других составляющая частично перекрывается какой-то другой, имеет с нею зону соседства, порог неразличимости: например, в концепте Другого возможный мир не существует вне выражающего его лица, хоть они и различаются как выражаемое и выражение; а лицо, в свою очередь, вплотную соседствует со словами, которым служит рупором. Составляющие остаются различны, но от одной к другой нечто переходит, между ними есть нечто неразрешимое; существует область ab, принадлежащая сразу и а и b, область, где а и b «становятся» неразличимы. Такие зоны, пороги или становления, такая неделимость характеризуют собой внутреннюю консистенцию концепта. Однако он обладает также и экзоконсистенцией – вместе с другими концептами, когда при создании каждого из них между ними приходится строить мосты в пределах одного плана. Эти зоны и мосты служат сочленениями концепта.
В-третьих, каждый концепт должен, следовательно, рассматриваться как точка совпадения, сгущения и скопления своих составляющих. Концептуальная точка постоянно пробегает по составляющим, движется в них вверх и вниз. В этом смысле каждая составляющая есть интенсивный признак, интенсивная ордината, которая должна пониматься не как общее или частное, а просто как чисто единичное – «такой-то» возможный мир, «такое-то» лицо, «такие-то» слова, – которое становится частным или общим в зависимости от того, связывают ли с ним переменные величины или приписывают ему константную функцию. Но, в противоположность тому, что происходит в науке, в концепте не бывает ни констант, ни переменных, так что невозможно различить ни переменных видов для некоторого постоянного рода, ни постоянного вида для переменных индивидов. Внутри-концептуальные отношения носят характер не включения и не расширения, а исключительно упорядочения, и составляющие концепта не бывают ни постоянными, ни переменными, а просто-напросто вариациями, упорядоченными по соседству. Они процессуальны, модулярны. Концепт той или иной птицы – это не ее род или вид, а композиция ее положений, окраски и пения; это нечто неразличимое, не столько синестезия, сколько синейдезия. Концепт – это гетерогенезис, то есть упорядочение составляющих по зонам соседства. Он ординален, он представляет собой интенсионал, присутствующий во всех составляющих его чертах. Непрерывно пробегая свои составляющие в недистантном порядке, концепт находится по отношению к ним в состоянии парящего полета. Он непосредственно, без всякой дистанции соприсутствует во всех своих составляющих или вариациях, снова и снова проходит через них; это ритурнель, музыкальное сочинение, обладающее своим шифром.
Концепт нетелесен, хотя он воплощается или осуществляется в телах. Но он принципиально не совпадает с тем состоянием вещей, в котором осуществляется. Он лишен пространственно-временных координат и имеет лишь интенсивные ординаты. В нем нет энергии, а есть только интенсивности, он анергетичен (энергия – это не интенсивность, а способ ее развертывания и уничтожения в экстенсивном состоянии вещей). Концепт – это событие, а не сущность и не вещь. Он есть некое чистое Событие, некая этость, некая целостность – например, событие Другого или событие лица (когда лицо само берется как концепт). Или же птица как событие. Концепт определяется как неделимость конечного числа разнородных составляющих, пробегаемых некоторой тонкой в состоянии абсолютного парения с бесконечной скоростью. Концепты – это «абсолютные поверхности или объемы», формы, не имеющие иного объекта, кроме неделимости отличных друг от друга вариаций[10 - О понятии парения, а также об абсолютных поверхностях и объемах как реальных существах, см.: Raymond Ruyer, Nе о-finalisme, P.U.F., ch. IX–XI.]. «Парение» – это состояние концепта или характерная для него бесконечность, хотя бесконечные величины бывают большими или меньшими в зависимости от шифра составляющих, порогов и мостов между ними. В этом смысле концепт есть не что иное, как мыслительный акт, причем мысль действует здесь с бесконечной (хотя и большей или меньшей) скоростью.
Соответственно, концепт одновременно абсолютен и относителен – относителен к своим собственным составляющим, к другим концептам, к плану, в котором он выделяется, к проблемам, которые призван разрешать, но абсолютен благодаря осуществляемой им конденсации, по месту, занимаемому им в плане, по условиям, которые он предписывает проблеме. Он абсолютен как целое, но относителен в своей фрагментарности. Он бесконечен в своем парящем полете, то есть в своей скорости, но конечен в том движении, которым описывает очертания своих составляющих. Философ постоянно реорганизует свои концепты, даже меняет их; порой достаточно какому-нибудь отдельному пункту концепта разрастись, и он производит новую конденсацию, добавляет новые или отнимает старые составляющие. Бывает, что философ являет пример настоящей амнезии, делающей его чуть ли не больным: по словам Ясперса, Ницше «подправлял свои собственные идеи, создавая новые, но не признавал этого открыто; в состоянии возбуждения он забывал те выводы, к которым приходил ранее». Или у Лейбница: «Я думал, что вхожу в гавань, но… был отнесен обратно в открытое море»[11 - Лейбниц, «Новая система природы», § 12.]. Одно, однако, остается абсолютным – тот способ, которым творимый концепт полагает себя в себе самом и наряду с другими. Относительность и абсолютность концепта – это как бы его педагогика и онтология, его сотворение и самополагание, его идеальность и реальность. Он реален без актуальности, идеален без абстрактности… Концепт характеризуется своей консистенцией – эндоконсистенцией и экзоконсистенцией, – но у него нет референции; он автореферентен, будучи творим, он одновременно сам полагает и себя и свой объект. В его конструировании объединяются относительное и абсолютное.
Наконец, концепт недискурсивен, и философия не является дискурсивным образованием, так как не выстраивает ряда пропозиций. Только путая концепт с пропозицией, можно верить в существование научных концептов и рассматривать пропозицию как настоящий «интенсионал» (то, что выражает собой фраза); философский же концепт при этом чаще всего предстает просто как пропозиция, лишенная смысла. Такая путаница царит в логике, и ею объясняется нелепое представление логики о философии. Концепты меряются «философской» грамматикой, которая подменяет их пропозициями, извлеченными из фраз, где они фигурируют; нас все время замыкают в альтернативе двух пропозиций, не видя, что концепт уже перешел в исключенное третье. Концепт – это ни в коем случае не пропозиция, он не пропозиционален, а пропозиция никогда не бывает интенсионалом. Пропозиции определяются своей референцией, а референция затрагивает не Событие, но отношение с состоянием вещей или тел, а также предпосылки этого отношения. Эти предпосылки отнюдь не образуют интенсионала, они всецело экстенсиональны: из них вытекает ряд операций расстановки по абсциссе (линеаризации), включающих интенсивные ординаты в пространственновременные или энергетические координаты, а также операции установления соответствий между выделенными таким образом множествами. Именно такого рода рядами и соответствиями определяется дискурсивность экстенсивных систем; независимость переменных в пропозициях противостоит неделимости вариаций в концепте. Обладая только консистенцией или же интенсивными внекоординатными ординатами, концепты свободно вступают в отношения недискурсивной переклички – либо потому, что составляющие одного из них сами становятся концептами, имеющими другие, опять-таки разнородные составляющие, либо потому, что между концептами ни на одном уровне нет никакой иерархической разницы. Концепты – это центры вибрации, каждый в себе самом и по отношению друг к другу. Поэтому в них все перекликается, вместо того чтобы следовать или соответствовать друг другу. Концептам незачем быть последовательными. В качестве фрагментарных целых концепты не являются даже деталями мозаики, так как их неправильные очертания не соответствуют друг другу. Вместе они образуют стену, но это стена сухой кладки, где все камни хоть и держатся вместе, однако каждый по-своему. Даже мосты между концептами – тоже перекрестки или же окольные пути, не описывающие никаких дискурсивных комплексов. Это подвижные мосты. В таком смысле не будет ошибкой считать, что философия постоянно находится в состоянии отклонения или дигрессивности.
Отсюда вытекают важные различия между высказыванием фрагментарных концептов в философии и высказыванием частных пропозиций в науке. В первом аспекте всякое высказывание является полагательным (de position); но оно остается вне пропозиции (proposition), потому что ее объектом является некоторое состояние вещей как референт, а ее предпосылками – референции, образующие истинностные значения (даже если сами по себе эти предпосылки являются внутренними по отношению к объекту). Напротив того, полагательное высказывание строго имманентно концепту, у которого нет другого объекта, кроме неделимости составляющих, через которые он сам вновь и вновь проходит; в этом и состоит его консистенция. Если же говорить о другом аспекте, о высказываниях творческих или обладающих личной подписью, то несомненно, что научные пропозиции и их корреляты носят ничуть не менее «подписной» и творческий характер, чем философские концепты; поэтому мы и говорим о теореме Пифагора, декартовых координатах, числе Гамильтона, функции Лагранжа, точно так же как и о платоновской Идее или картезианском cogito и т. п. Но сколь бы ни были историчны и исторически достоверны те личные имена, с которыми связывается при этом высказывание, они всего лишь маски для иных становлений, всего лишь псевдонимы для более таинственных единичных существ. В случае пропозиций таковыми являются внешние частные наблюдатели, научно определяемые по отношению к той или другой оси референции, в случае же концептов это внутренние концептуальные персонажи, витающие в том или ином плане консистенции. Мало сказать, что в философиях, науках и искусствах весьма по-разному употребляются личные имена: то же относится и к синтаксическим элементам, таким как предлоги, союзы, слова типа «но», «итак»… Философия говорит фразами, но из фраз, вообще говоря, не всегда извлекаются пропозиции. Пака что в нашем распоряжении есть только весьма общая гипотеза: из фраз или их эквивалента философия добывает концепты (не совпадающие с общими или абстрактными идеями), тогда как наука – проспекты (пропозиции, не совпадающие с суждениями), а искусство – перцепты и аффекты (также не совпадающие с восприятиями или чувствами). В каждом из трех случаев те испытания и применения, которым подвергается язык, не сравнимы друг с другом, однако ими не только определяется различие между этими дисциплинами, но также и постоянно образуются их пересечения.
ПРИМЕР I
Чтобы подтвердить вышеизложенный анализ, возьмем для начала какой-нибудь из самых известных «подписных» философских концептов – например, картезианское cogito, декартовское «Я»; это один из концептов «я». У этого концепта три составляющих – «сомневаться», «мыслить», «быть» (отсюда не следует, что всякий концепт троичен). Целостное высказывание, образуемое этим концептом как множественностью, таково: я мыслю, «следовательно» я существую; или в более полном виде – я, сомневающийся, мыслю, существую, я существую как мыслящая вещь. Таково постоянно возобновляемое событие мысли, каким видит его Декарт. Концепт сгущается в точке Я, которая проходит сквозь все составляющие и в которой совпадают Я’ – «сомневаться», Я”– «мыслить», Я’”– «существовать». Составляющие, то есть интенсивные ординаты, располагаются в зонах соседства или неразличимости, делающих возможным их взаимопереход и образующих их неделимость: первая такая зона находится между «сомневаться» и «мыслить» (я, сомневающийся, не могу сомневаться в том, что мыслю), вторая – между «мыслить» и «существовать» (чтобы мыслить, нужно существовать).
В данном случае составляющие концепта предстают как глаголы, но это не является правилом, достаточно лишь, чтобы они были вариациями. Действительно, сомнение включает в себя моменты, которые представляют собой не виды некоторого рода, а фазы некоторой вариации – сомнение чувственное, научное, обсессивное. (Таким образом, каждый концепт обладает фазовым пространством, хотя и по-другому, чем в науке.) То же самое относится и к модусам мышления – ощущать, воображать, составлять понятия. То же и в отношении типов существования (существа), вещного или субстанциального – бесконечное существо, конечное мыслящее существо, протяженное существо. Примечательно, что в последнем случае концепт «я» сохраняет за собой лишь вторую фазу существа и оставляет в стороне прочие части вариации. И это как раз является знаком того, что концепт как фрагментарная целостность замкнут формулой «я существую как мыслящая вещь»: другие фазы существа доступны только через посредство мостов-перекрестков, ведущих к другим концептам. Так, формула «в числе своих понятий я имею понятие о бесконечном» – это мост, ведущий от концепта «я» к концепту Бога, каковой сам обладает тремя составляющими, образующими «доказательства» существования Бога как бесконечного события, и третье из них (онтологическое) обеспечивает замкнутость концепта, но одновременно и открывает новый мост, новую развилку, ведущую к концепту протяженности, поскольку именно ею гарантируется объективное истинностное значение других ясных и связных понятий, которыми мы обладаем.
Жиль Делёз
Феликс Гваттари
Gallicinium
Совместная книга двух выдающихся французских мыслителей философа Жиля Делёза (1925–1995) и психоаналитика Феликса Гваттари (1930–1992) посвящена одной из самых сложных и вместе с тем традиционных для философского исследования тем: что такое философия? Модель философии, которую предлагают авторы, отдает предпочтение имманентности и пространству перед трансцендентностью и временем. Философия – творчество «концептов» работает в «плане имманенции» и этим отличается, в частности, от «мудрости» и религии, апеллирующих к трансцендентным реальностям. Философское мышление мышление пространственное, и потому основные его жесты «детерриториализация» и «ретерриториализация».
Для преподавателей философии, а также для студентов и аспирантов, специализирующихся в области общественных наук. Представляет интерес для специалистов философов, социологов, филологов, искусствоведов и широкого круга интеллектуалов.
Делез Жиль, Гваттари Феликс
Что такое философия
GALLICINIUM
Gilles DELEUZE
Fеlix GUATTARI
Quеst-ce que la philosophie?
LES ЕDITIONS DE MINUIT
1991
Перевод с французского С. Н. Зенкина
© С.Н. Зенкин, перевод, послесловие, 1998
© Les Еditions de Minuit, 1991
© Издательство «Институт экспериментальной социологии», 1998
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2013
Введение
Такой вот вопрос…
Пожалуй, вопросом «что такое философия» можно задаваться лишь в позднюю пору, когда наступает старость, а с нею и время говорить конкретно. Действительно, библиография по нашей проблеме весьма скудна. Это такой вопрос, которым задаются, скрывая беспокойство, ближе к полуночи, когда больше спрашивать уже не о чем. Его ставили и раньше, все время, но слишком уж косвенно или уклончиво, слишком искусственно, слишком абстрактно, излагая этот вопрос походя и свысока, не давая ему слишком глубоко себя зацепить. Недоставало трезвости. Слишком хотелось заниматься философией, а о том, что же это такое, спрашивали себя разве что упражняясь в изящном слоге; не доходили до той не-изящности слога, когда наконец можно спросить – так что же это за штука, которой я занимался всю жизнь? Бывает, что в старости человеку даруется не вечная молодость, но, напротив, высшая свобода, момент чистой необходимости, словно миг благодати между жизнью и смертью, и тогда все части машины действуют согласно, чтобы запустить в грядущее стрелу, которая пролетит сквозь столетия; так было с Тицианом, Тернером, Моне[1 - Ср.: L’Cuvre ultime, de Cеzanne ? Dubuffet, Fondation Maeght, предисловие Жана-Луи Пра.]. Тернер в старости приобрел или же завоевал себе право вести искусство живописи путем пустынным и без возврата, и то было не что иное, как последний вопрос. «Жизнь Ранее», пожалуй, знаменует собой одновременно старость Шатобриана и начало современной литературы[2 - Barbеris, Chateaubriand, Ed. Larousse: «"Ранее” – это книга о старости как недостижимой ценности, книга против старости, против ее власти; это книга о крушении целого мира, в которой утверждается одна лишь власть письма».]. В кино мы тоже порой видим, как человек получает щедрый дар в последнюю пору жизни, – когда, например, Ивенс сам хохочет со своей ведьмой среди буйных порывов ветра. Так и в философии: кантовская «Критика способности суждения» – произведение старчески буйное, и его наследники вечно за ним не поспевают: здесь все способности ума выходят за свои пределы, за те самые пределы, которые Кант столь тщательно фиксировал в своих книгах зрелой поры.
Мы не можем притязать на такой уровень. Просто нам тоже пришло время задаться вопросом, что такое философия. Мы и раньше все время его ставили, и у нас был на него неизменный ответ: философия – это искусство формировать, изобретать, изготавливать концепты. Но ответ должен быть не просто восприимчив к вопросу, – нужно, чтобы им еще и определялись момент и ситуация вопроса, его обстоятельства, пейзажи и персонажи, его условия и неизвестные величины. Нужно суметь задать этот вопрос «по-дружески», словно доверительное признание, или же бросить его в лицо врагу, словно вызов, а притом еще и дойти до некоей сумрачной поры, когда и другу не очень-то верят. До той поры, когда говорят: «Это так, только не знаю, хорошо ли я это высказал, довольно ли был убедителен». И тут замечают, что хорошо высказать и кого-то убедить значит немного, потому что в любом случае сейчас-то это так.
Как мы увидим, концепты нуждаются в концептуальных персонажах, которые способствуют их определению. Одним из таких персонажей является друг; говорят даже, что в нем сказывается греческое происхождение философии – в других цивилизациях были Мудрецы, а греки являют нам таких вот «друзей», которые не просто более скромные мудрецы. Как утверждают, именно греки окончательно зафиксировали смерть Мудреца и заменили его философами, друзьями мудрости, которые ищут ее, но формально ею не обладают[3 - Koj?ve, «Tyrannie et sagesse», p. 235 (in Lеo Strauss, De la tyrannie, Gallimard).]. Однако между философом и мудрецом различие не просто в степени, словно по некоторой шкале: скорее дело в том, что древний восточный мудрец мыслил Фигурами, философ же изобрел Концепты и начал мыслить ими. Вся мудрость сильно изменилась. Поэтому так трудно выяснить, что же значит «друг», даже у греков и особенно у них. Быть может, словом «друг» обозначается некая интимность мастерства, как бы любовь мастера к материалу и потенциальная зависимость от него, как у столяра с деревом, – хороший столяр потенциально зависит от дерева, значит, он друг дерева? Это важный вопрос, поскольку в философии под «другом» понимается уже не внешний персонаж, пример или же эмпирическое обстоятельство, а нечто внутренне присутствующее в мысли, условие самой ее возможности, живая категория, элемент трансцендентального опыта. Благодаря философии греки решительно изменили положение друга, который оказался соотнесен уже не с иным человеком, а с неким Существом, Объектностью, Целостностью. Он друг Платону, но еще более друг мудрости, истине или концепту, он Филалет и Теофил… Философ разбирается в концептах и даже при их нехватке знает, какие из них нежизнеспособны, произвольны или неконсистентны, не способны продержаться и минуты, а какие, напротив, сделаны добротно и даже несут в себе память о тревогах и опасностях творчества.
Что же значит «друг», когда он становится концептуальным персонажем, то есть предпосылкой мышления? Может, это влюбленный – да, пожалуй, скорее влюбленный? Ведь благодаря другу мысль вновь обретает жизненную связь с Другим, которая, казалось, исключена из чистого мышления. А может, здесь имеется в виду еще кто-то иной, не друг и не влюбленный? Ведь если философ – это друг мудрости или же влюбленный в нее, значит, он претендует на нее, будучи скорее в потенциальном стремлении, чем в действительном обладании. Тогда, стало быть, друг – это еще и претендент, а то, чьим другом он себя называет, – это Вещь, на которую обращено притязание, а вовсе не кто-то третий; тот-то, напротив, становится соперником. Получается, что в дружестве столько же состязательного недоверия к сопернику, сколько любовного стремления к предмету желаний. Стоит дружеству обратиться к сущностям, как двое друзей оказываются претендентом и соперником (впрочем, кто же их разберет?). Такова первая особенность, благодаря которой философия представляется нам явлением древнегреческой цивилизации, совпадающим с культурным вкладом городов-полисов: в них сформировались общества друзей или равных, но зато между ними и внутри каждого из них стимулировались отношения соперничества, во всех областях сталкивались друг с другом претенденты – в любви, играх, судах, в государственном управлении, в политике, даже в поэзии, чьей предпосылкой оказывается не друг, а претендент и соперник (диалектика, которую Платон характеризует как «амфисбетесис»). Соперничество свободных людей, атлетизм, возведенный в общий принцип – агон[4 - См., например, у Ксенофонта, «Государственное устройство Спарты», IV, 5. Эти аспекты греческого полиса специально анализируются у Детьена и Вернана.]. Дружество же призвано примирять целостность сущности с соперничеством претендентов. Не слишком ли тяжелая задача?
Друг, влюбленный, претендент, соперник – это трансцендентальные характеристики, которые, однако, не теряют своего интенсивно-одушевленного существования в лице одного или нескольких персонажей. И когда в наши дни Морис Бланшо – один из немногих мыслителей, рассматривающих смысл слова «друг» в философии, – вновь задается этим внутренним вопросом о предпосылках мысли как таковой, то он вводит в лоно чистой Мыслимости новых концептуальных персонажей – уже отнюдь не греческих, пришедших из других мест, переживших словно некую катастрофу, которая влечет их к новым жизненным отношениям, возводимым в ранг априорных характеров: это уклончивость, утомленность, даже какая-то подавленность друзей, превращающая самое дружество с мыслью о концепте в бесконечную недоверчивость и терпеливость[5 - О связи дружества с возможностью мышления в современном мире см.: Blanchot, L’amitiе et L’entretien infini (диалог двух утомленных), Gallimard. A также: Mascolo, Autour d’un effort de mеmoire, Ed. Nadeau.]. Список концептуальных персонажей никогда не бывает закрыт и тем самым играет важную роль в развитии и переменах философии; необходимо понять это разнообразие, не сводя его к единству – впрочем, и так уже сложному – греческого философа.
Философ – друг концепта, он находится в потенциальной зависимости от концепта. Это значит, что философия – не просто искусство формировать, изобретать или же изготавливать концепты, ибо концепты – это не обязательно формы, находки или продукты. Точнее будет сказать, что философия – дисциплина, состоящая в творчестве концептов. Стало быть, друг оказывается другом своих собственных творений? Или же действительность концепта отсылает к потенциям друга, сливая в одно целое творца и его двойника? Творить все новые концепты – таков предмет философии. Поскольку концепт должен быть сотворен, он связан с философом как с человеком, который обладает им в потенции, у которого есть для этого потенция и мастерство. На это нельзя возражать, что о «творчестве» обычно говорят применительно к чувственным вещам и к искусствам, – искусство философа сообщает существование также и умственным сущностям, а философские концепты тоже суть «sensibilia». Собственно, науки, искусства и философии имеют равно творческий характер, просто только философия способна творить концепты в строгом смысле слова. Концепты не ждут нас уже готовыми, наподобие небесных тел. У концептов не бывает небес. Их должно изобретать, изготавливать или, скорее, творить, и без подписи сотворившего они ничто. Ницше так характеризовал задачу философии: «Философы должны не просто принимать данные им концепты, чтобы чистить их и наводить на них лоск; следует прежде всего самим их производить, творить, утверждать и убеждать людей ими пользоваться. До сих пор, в общем и целом, каждый доверял своим концептам, словно это волшебное приданое, полученное из столь же волшебного мира», – но такую доверчивость следует заменить недоверчивостью, и философ особенно должен не доверять именно концептам, коль скоро он не сам их сотворил (об этом хорошо знал Платон, хотя и учил противоположному…)[6 - Nietzsche, Posthumes 1884–1885, Cuvres philosophiques XI, Gallimard, p. 215–216 (об «искусстве недоверия»).]. Платон говорил, что следует созерцать Идеи, но сперва он должен был сам создать концепт Идеи. Чего стоит философ, если о нем можно сказать: он не создал ни одного концепта, он не создал сам своих концептов?
Теперь, по крайней мере, мы видим, чем не является философия: она не есть ни созерцание, ни рефлексия, ни коммуникация, пусть даже она, бывало, и считала себя то одним, то другим из них, в силу способности каждой дисциплины порождать свои собственные иллюзии и укрываться за ею же специально наведенным туманом. Философия – не созерцание, так как созерцания суть сами же вещи, рассматриваемые в ходе творения соответствующих концептов. Философия – не рефлексия, так как никому не нужна философия, чтобы о чем-то размышлять; объявляя философию искусством размышления, ее скорее умаляют, чем возвышают, ибо чистые математики вовсе не дожидались философии, чтобы размышлять о математике, как и художники – о живописи или музыке; говорить же, будто при этом они становятся философами, – скверная шутка, настолько неотъемлемо их рефлексия принадлежит их собственному творчеству. Философия не обретает окончательного прибежища и в коммуникации, которая потенциально работает только с мнениями, дабы сотворить в итоге «консенсус», а не концепт. Идея дружеской беседы в духе западной демократии никогда не производила ни малейшего концепта; она, может, и берет свое начало у греков, да только сами греки настолько ей не доверяли, настолько сурово с ней обращались, что у них концепт звучал скорее одиноким голосом птицы, парящей над полем сражения и останками уничтоженных мнений (пьяных гостей на пиру). Философия не занята ни созерцанием, ни рефлексией, ни коммуникацией, хоть ей и приходится создавать концепты для этих активных или пассивных состояний. Созерцание, рефлексия и коммуникация – это не дисциплины, а машины, с помощью которых в любых дисциплинах образуются Универсалии. Универсалии созерцания, а затем Универсалии рефлексии, – таковы две иллюзии, через которые уже прошла философия в своих мечтах о господстве над другими дисциплинами (объективный идеализм и субъективный идеализм), и ей доставит ничуть не больше чести, если она начнет представлять себя в роли новых Афин и отыгрываться Универсалиями коммуникации, долженствующими-де доставить нам правиладля воображаемого господства над рынком и масс-медиа (интерсубъективный идеализм). Творчество всегда единично, и концепт как собственно философское творение всегда есть нечто единичное. Первейший принцип философии состоит в том, что Универсалии ничего не объясняют, они сами подлежат объяснению.
Познавать самого себя – учиться мыслить – поступать так, как если бы ничто не было самоочевидно, – удивляться, «изумляться бытию сущего»… во всех этих и многих других характеристиках философии формируются интересные, хотя в конечном счете и надоедающие человеческие позиции, однако в них не утверждается, даже с точки зрения педагогики, четко определенное занятие, точно ограниченный род деятельности. Напротив того, определение философии как познания посредством чистых концептов можно считать окончательным. Только не следует противопоставлять друг другу познание посредством концептов и посредством конструирования концептов в возможном опыте (или интуиции). Ибо, согласно вердикту Ницше, вам ничего не познать с помощью концептов, если вы сначала сами их не сотворите, то есть не сконструируете их в свойственной каждому из них интуиции, – это поле, план, почва концептов, которые не совпадают с ними самими, но в них скрываются их зачатки и взращивающие их персонажи. Конструирование требует, чтобы любое творение было конструкцией в некотором плане, сообщающем ему автономное существование. Творить концепты – это уже значит нечто создавать. Тем самым вопрос о применении или пользе философии, или даже о ее вреде (кому же она вредит?) ставится по-новому.
Много проблем теснится перед глазами старика, которому явились бы в видении всевозможные философские концепты и концептуальные персонажи. Прежде всего, концепты всегда несли и несут на себе личную подпись: аристотелевская субстанция, декартовское cogito, лейбницианская монада, кантовское априори, шеллингианская потенция, бергсоновская длительность… А сверх того, некоторым из них требуется для своего обозначения необыкновенное слово, порой варварское или же шокирующее, тогда как другим достаточно самого обычного повседневного слова, наполняющегося столь далекими обертонами, что нефилософский слух может их и не различить. Одним потребны архаизмы, другим неологизмы, пронизанные головокружительными этимологическими изысканиями; этимология здесь – характерно философский род атлетизма. Очевидно, в каждом случае есть какая-то странная необходимость в этих словах и в их подборе, что-то вроде стиля. Для того чтобы окрестить новый концепт, требуется характерно философский вкус, проявляющийся грубо или же вкрадчиво и создающий внутри языка особый язык философии – особый не только по лексике, но и по синтаксису, который может отличаться возвышенностью или же великой красотой. Кроме того, хотя у каждого из концептов есть свой возраст, подпись создателя и имя, они по-своему бессмертны – и в то же время повинуются требованиям обновления, замены и мутации, благодаря которым философия имеет беспокойную историю и столь же беспокойную географию; каждый момент и каждое место пребывают – но во времени, и проходят – но вне времени. Если концепты непрерывно меняются, то спрашивается, в чем же тогда единство философских учений? И в чем состоит отличие наук и искусств, которые не применяют концептов? И как обстоит дело с их собственной историей? Если философия – это непрерывное творчество концептов, то, разумеется, возникает вопрос, что же такое концепт как философская Идея и в чем заключаются другие творческие Идеи, которые не являются концептами, относятся к наукам и искусствам и имеют свою собственную историю, свое собственное становление и свои разнообразные отношения друг с другом и с философией. Исключительное право на создание концептов обеспечивает философии особую функцию, но не дает ей никакого преимущества, никакой привилегии, ведь есть и много других способов мышления и творчества, других модусов идеации, которым не нужно проходить через концепт (например, научное мышление). И нам вновь придется вернуться к вопросу о том, для чего служит эта концептотворящая деятельность, в своем отличии от деятельности научной или художественной; зачем нужно творить все новые и новые концепты, какая в них необходимость, какая от них польза? Что с ними делать? Отвечать, будто величие философии именно в том, что она ни для чего не служит, – такое кокетство более не забавляет даже юношей. Во всяком случае, вопрос о смерти метафизики или преодолении философии у нас до сих пор еще не был проблематизирован, были лишь тягостно-никчемные пересказы давно известного. Сегодня толкуют о крахе философских систем, тогда как просто изменился концепт системы. Пока есть время и место для творчества концептов, соответствующая операция всегда будет именоваться философией или же не будет от нее отличаться, хотя бы ей и дали другое имя.
Однако мы знаем, что у друга или влюбленного как претендента всегда бывают соперники. Если философия действительно, как утверждают, берет начало в Греции, то это потому, что в греческом полисе, в отличие от империй или государств, изобрели агон как правило общества «друзей» – людей, которые свободны, поскольку соперничают между собой (граждан). Такова ситуация, постоянно описываемая у Платона: когда любой гражданин на что-нибудь претендует, он обязательно встречает себе соперников, а значит требуется умение судить об обоснованности претензий. Столяр притязает на дерево, но наталкивается на лесничего, угольщика, плотника, которые говорят: это я друг дерева. В заботах о людях тоже много претендентов, представляющихся друзьями человека: крестьянин его кормит, ткач одевает, врач лечит, воин защищает[7 - Платон, «Политик», 268а, 279а.]. И если во всех подобных случаях выбор все-таки делается из более или менее узкого круга людей, то иначе обстоит дело в политике, где кто угодно может претендовать на что угодно (в афинской демократии, какой видит ее Платон). Отсюда для Платона возникает необходимость навести порядок, создать инстанции, благодаря которым можно будет судить об обоснованности претензий; это и есть его Идеи как философские концепты. Но ведь даже и здесь приходится встречать всевозможных претендентов, говорящих: это я настоящий философ, это я друг Мудрости или же Обоснованности! Соперничество доходит до своего предела в споре философа и софиста, тяжущихся за наследство древнего мудреца, и как тут отличить ложного друга от настоящего, а концепт от симулякра? Подражатель и друг – таков спектакль, поставленный Платоном, где во множестве являются разные концептуальные персонажи, наделенные потенциями комизма и трагизма.
В более близкие к нам времена философия встречала себе и много новых соперников. Сначала подменить ее желали гуманитарные науки, особенно социология. А поскольку философия все больше пренебрегала своей задачей творчества концептов, стремясь укрыться в Универсалиях, то становилось уже и не совсем ясно, о чем шел спор. То ли имелось в виду вообще отказаться от всякого творчества концептов ради строгой науки о человеке, то ли, напротив, преобразить самую природу концептов, превратив их либо в коллективные представления, либо в мировоззрения, создаваемые народами, их жизненными, историческими и духовными силами. Далее настала очередь эпистемологии, лингвистики, даже психоанализа, а равно и логического анализа. Переживая новые и новые испытания, философия, казалось, обречена была встречать себе все более нахальных и все более убогих соперников, какие Платону не примерещились бы даже в самом комическом расположении духа. Наконец, до полного позора дело дошло тогда, когда самим словом «концепт» завладели информатика, маркетинг, дизайн, реклама – все коммуникационные дисциплины, заявившие: это наше дело, это мы творцы, это мы концепторы! Это мы друзья концепта, ведь мы вводим его в свои компьютеры. «Информация и творчество», «концепт и предпринимательство» – на эти темы уже есть обильная библиография… В маркетинге усвоили мысль о некотором отношении между концептом и событием; и вот уже концепт выступает как совокупность различных представлений о товаре (историческое, научное, художественное, сексуальное, прагматическое…), а событие – как презентация этого товара, в которой обыгрываются различные представления о нем и возникает-де некий «обмен идей». Нет событий, кроме презентаций, и нет концептов, кроме товаров, которые можно продать. Этот общий процесс подмены Критики службой сбыта не обошел стороной и философию. Симулякр, имитация какого-нибудь пакета с лапшой стала настоящим концептом, а презентатор продукта, товара или же художественного произведения стал философом, концептуальным персонажем или художником. Куда уж старухе философии наравне с молодыми специалистами бежать взапуски за универсалиями коммуникации, дабы охарактеризовать товарную форму концепта – МЕРЦА! Больно, конечно, слышать, что словом «Концепт» называется компания по разработке и обслуживанию информационных систем. Однако чем чаще философия сталкивается с бесстыдными и глупыми соперниками, чем чаще она встречает их внутри себя самой, тем более бодро она себя чувствует для выполнения своей задачи – творчества концептов, которые похожи скорее на аэролиты, чем на товары. Неудержимый смех отбивает у нее охоту плакать. Таким образом, вопрос философии – найти ту единственную точку, где соотносятся между собой концепт и творчество.
Философы до сих пор недостаточно занимались природой концепта как философской реальности. Они предпочитали рассматривать его как уже данное знание или представление, выводимое из способностей, позволяющих его формировать (абстракция или обобщение) или же им пользоваться (суждение). Но концепт не дается заранее, он творится, должен быть сотворен; он не формируем, а полагается сам в себе (самополагание). Одно вытекает из другого, поскольку все по-настоящему сотворенное, от живого существа до произведения искусства, способно в силу этого к самополаганию, обладает аутопойетическим характером, по которому его и узнают. Чем более концепт творится, тем более он сам себя полагает. Завися от вольной творческой деятельности, он также и полагает себя сам в себе, независимо и необходимо; самое субъективное оказывается и самым объективным.
В этом смысле наибольшее внимание концепту как философской реальности уделяли посткантианцы, особенно Шеллинг и Гегель. Гегель дает концепту мощное определение через Фигуры творчества и Моменты его самополагания: фигуры стали принадлежностями концепта, так как они образуют тот его аспект, в котором он творится сознанием и в сознании, через преемственность умов, тогда как моменты образуют другой аспект, в котором концепт сам себя полагает и объединяет разные умы в абсолюте Самости. Тем самым Гегель показал, что концепт не имеет никакого сходства с общей или абстрактной идеей, а равно и с несотворенной Мудростью, которая не зависела бы от самой философии. Но это было достигнуто ценой ничем не ограниченного расширения философии как таковой, которая уже почти не оставляла места для самостоятельного развития наук и искусств, потому что с помощью. своих собственных моментов воссоздавала универсалии, а персонажей своего собственного творчества рассматривала просто как призрачных фигурантов. Посткантианцы вращались в кругу универ-сальной энциклопедии концепта, связывающей его творчество с чистой субъективностью, вместо того чтобы заняться делом более скромным – педагогикой концепта, анализирующей условия творчества как факторы моментов, остающихся единичными[8 - В намеренно дидактической форме весьма интересная педагогика концепта предлагается в книге: Frеdеric Cossutta, Elеments pour la lecture des textes philosophiques, Ed. Bordas.]. Если три этапа развития концепта суть энциклопедия, педагогика и профессионально-коммерческая подготовка, то лишь второй из них может не дать нам с вершин первого низвергнуться в провал третьего – в этот абсолютный провал мысли, каковы бы ни были, разумеется, его социальные преимущества с точки зрения мирового капитализма.
I. Философия
1. Что такое концепт?
Не существует простых концептов. В концепте всегда есть составляющие, которыми он и определяется. Следовательно, в нем имеется шифр. Концепт – это множественность, хотя не всякая множественность концептуальна. Не бывает концепта с одной лишь составляющей: даже в первичном концепте, которым «начинается» философия, уже есть несколько составляющих, поскольку не очевидно, что философия должна иметь начало, а коль скоро ею таковое вводится, то она должна присовокупить к нему некоторую точку зрения или обоснование. Декарт, Гегель, Фейербах не только начинают не с одного и того же концепта, но даже и концепты начала у них неодинаковые. Всякий концепт является как минимум двойственным, тройственным и т. д. Не существует также и концепта, который имел бы сразу все составляющие, ибо то был бы просто-напросто хаос; даже так называемые универсалии как последняя стадия концептов должны выделяться из хаоса, ограничивая некоторый мир, из которого они выводятся (созерцание, рефлексия, коммуникация…). У каждого концепта – неправильные очертания, определяемые шифром его составляющих. Поэтому у разных авторов, от Платона до Бергсона, встречается мысль, что суть концепта в членении, разбивке и сечении. Он представляет собой целое, так как тотализирует свои составляющие, однако это фрагментарное целое. Только при этом условии он может выделиться из хаоса психической жизни, который непрерывно его подстерегает, не отставая и грозя вновь поглотить.
При каких условиях концепт бывает первичен – не в абсолютном смысле, а по отношению к другому? Например, обязательно ли Другой вторичен по отношению к «я»? Если обязательно, то лишь постольку, поскольку его концепт – это концепт иного, субъекта, предстающего как объект, особенный по отношению ко мне; таковы две его составляющие. Действительно, стоит отождествить его с некоторым особенным объектом, как Другой уже оказывается всего лишь другим субъектом, который предстает мне; если же отождествить его с другим субъектом, то тогда я сам есть Другой, который предстоит ему. Каждый концепт отсылает к некоторой проблеме, к проблемам, без которых он не имел бы смысла и которые могут быть выделены или поняты лишь по мере их разрешения; в данном случае это проблема множественности субъектов, их взаимоотношений, их взаимопредставления. Но все, разумеется, изменится, если мы станем усматривать здесь иную проблему: в чем заключается сама позиция Другого, которую лишь «занимает» другой субъект, когда предстает мне как особенный объект, и которую в свою очередь занимаю я сам как особенный объект, когда предстаю ему? С такой точки зрения, Другой – это никто, ни субъект ни объект. Поскольку есть Другой, то есть и несколько субъектов, но обратное неверно, В таком случае Другой требует некоторого априорного концепта, из которого должны вытекать особенный объект, другой субъект и «я», – но не наоборот. Изменился порядок мысли, как и природа концептов, как и проблемы, на которые они призваны давать ответ. Оставим в стороне вопрос о различии между проблемой в науке и в философии. Однако даже в философии концепты творятся лишь в зависимости от проблем, которые представляются нам дурно увиденными или дурно поставленными (педагогика концепта).
Грубо говоря, мы рассматриваем некоторое поле опыта, взятое как реальный мир, не по отношению к некоторому «я», а по отношению к простому «наличествованию». В некоторый момент наличествует тихо и спокойно пребывающий мир. И вдруг возникает испуганное лицо, которое смотрит куда-то наружу, за пределы этого поля. Здесь Другой предстает не как субъект или объект, а совсем иначе – как возможный мир, как возможность некоего пугающего мира. Этот возможный мир не реален или еще не реален, однако же он существует – это то выражаемое, что существует лишь в своем выражении, в чьем-то лице или эквиваленте лица. Другой – это и есть прежде всего такое существование возможного мира.
И этот возможный мир обладает в себе также и своей собственной реальностью, именно в качестве возможного мира: выражающему достаточно заговорить и сказать «мне страшно», чтобы придать реальность возможному как таковому (даже если его слова лживы). Слово «я» как языковой индекс иного смысла и не имеет. Впрочем, можно обойтись и без него: Китай – это возможный мир, но он обретает реальность, как только в данном поле опыта кто-то заговаривает о Китае или же на китайском языке. Это совсем не то же самое, как если бы Китай обретал реальность, сам становясь полем опыта. Таким образом, перед нами концепт Другого, предполагающий единственное условие – определенность некоторого чувственного мира. При этом условии Другой возникает как выражение чего-то возможного. Другой – это возможный мир, каким он существует в выражающем его лице, каким он осуществляется в придающей ему реальность речи. В этом смысле он является концептом из трех неделимых составляющих – возможный мир, существующее лицо и реальный язык, то есть речь.
У каждого концепта, разумеется, есть история. Данный концепт Другого отсылает к Лейбницу, к его теории возможных миров и монады как выражения мира; однако проблема здесь иная, так как возможные миры Лейбница не существуют в реальном мире. Он отсылает также к модальной логике пропозиций, но в них возможным мирам не приписывается реальность соответственно условиям их истинности (даже когда Витгенштейн изучает предложения о страхе или боли, он не усматривает в них модальности, выразимые через позицию Другого, потому что статус Другого у него колеблется между другим субъектом и особенным объектом). У возможных миров – долгая история[9 - Разнообразными эпизодами этой истории, которая начинается не с Лейбница, служат, например, предложение о Другом, проходящее как постоянная тема у Витгенштейна («у него болят зубы…»), или полагание Другого как теория возможного мира у Мишеля Турнье («Пятница, или Тихоокеанский лимб»).]. Говоря коротко, можно сказать, что вообще у всех концептов есть история, хотя она извилиста и при необходимости пересекает другие проблемы и разные планы. В концепте, как правило, присутствуют кусочки или составляющие, которые происходят из других концептов, отвечавших на другие проблемы и предполагавших другие планы. Это неизбежно, потому что каждый концепт осуществляет новое членение, принимает новые очертания, должен быть заново активирован или заново выкроен.
Но, с другой стороны, у концепта есть становление, которое касается уже его отношений с другими концептами, располагающимися в одном плане с ним. Здесь концепты пригнаны друг к другу, пересекаются друг с другом, взаимно координируют свои очертания, составляют в композицию соответствующие им проблемы, принадлежат к одной и той же философии, пусть даже история у них и различная. Действительно, любой концепт с конечным числом составляющих разветвляется на другие концепты, иначе составленные, но образующие разные зоны одного итого же плана, отвечающие на взаимно совместимые проблемы, участвующие в сотворчестве. Концепту требуется не просто проблема, ради которой он реорганизует или заменяет прежние концепты, но целый перекресток проблем, где он соединяется с другими, сосуществующими концептами. В случае с концептом Другого как выражения возможного мира в перцептивном поле нам приходится по-новому рассмотреть составляющие самого этого поля: не будучи более ни субъектом перцептивного поля, ни объектом в этом поле, Другой становится условием, при котором перераспределяются друг относительно друга не только субъект и объект, но также фигура и фон, окраины и центр, движение и ориентир, транзитивное и субстанциальное, длина и глубина… Другой всегда воспринимается как некто иной, но в своем концепте он является предпосылкой всякого восприятия, как иных, так и нас самих. Это условие, при котором можно перейти из одного мира в другой. Благодаря Другому мир проходит, и «я» обозначает теперь уже только прошлый мир («я был спокоен…»). Достаточно, к примеру, Другого, чтобы любая длина сделалась возможной глубиной в пространстве и наоборот, так что если бы в перцептивном поле не функционировал этот концепт, то любые переходы и инверсии были бы непостижимы, и мы бы все время натыкались на вещи, поскольку не осталось бы ничего возможного. Или уж тогда, оставаясь в пределах философии, нам пришлось бы отыскать какую-то другую причину, чтобы на них не натыкаться… Таким образом, находясь в том или ином доступном определению плане, можно как бы по мосту переходить от концепта к концепту: создание концепта Другого с такими-то и такими-то составляющими влечет за собой создание нового концепта перцептивного пространства, для которого придется определять другие составляющие (не натыкаться или не слишком часто натыкаться на вещи – одна из таких составляющих).
Мы начали с довольно сложного примера. Но как же иначе, коль скоро простых концептов не бывает? Читатель может обратиться к любому примеру по своему вкусу. Мы полагаем, что в итоге он получит те же самые выводы о природе концепта или о концепте концепта. Во-первых, каждый концепт отсылает к другим концептам – не только в своей истории, но и в своем становлении и в своих нынешних соединениях. В каждом концепте есть составляющие, которые в свою очередь могут быть взяты в качестве концептов (так, одной из составляющих Другого является человеческое лицо, но Лицо и само должно быть рассмотрено как концепт, имеющий свои собственные составляющие). Таким образом, концепты бесконечно множатся и хоть и сотворяются, но не из ничего. Во-вторых, для концепта характерно то, что составляющие делаются в нем неделимыми; различные, разнородные и вместе с тем неотделимые одна от другой – таков статус составляющих, которым и определяется консистенция концепта, его эндоконсистенция. Дело в том, что каждая отличная от других составляющая частично перекрывается какой-то другой, имеет с нею зону соседства, порог неразличимости: например, в концепте Другого возможный мир не существует вне выражающего его лица, хоть они и различаются как выражаемое и выражение; а лицо, в свою очередь, вплотную соседствует со словами, которым служит рупором. Составляющие остаются различны, но от одной к другой нечто переходит, между ними есть нечто неразрешимое; существует область ab, принадлежащая сразу и а и b, область, где а и b «становятся» неразличимы. Такие зоны, пороги или становления, такая неделимость характеризуют собой внутреннюю консистенцию концепта. Однако он обладает также и экзоконсистенцией – вместе с другими концептами, когда при создании каждого из них между ними приходится строить мосты в пределах одного плана. Эти зоны и мосты служат сочленениями концепта.
В-третьих, каждый концепт должен, следовательно, рассматриваться как точка совпадения, сгущения и скопления своих составляющих. Концептуальная точка постоянно пробегает по составляющим, движется в них вверх и вниз. В этом смысле каждая составляющая есть интенсивный признак, интенсивная ордината, которая должна пониматься не как общее или частное, а просто как чисто единичное – «такой-то» возможный мир, «такое-то» лицо, «такие-то» слова, – которое становится частным или общим в зависимости от того, связывают ли с ним переменные величины или приписывают ему константную функцию. Но, в противоположность тому, что происходит в науке, в концепте не бывает ни констант, ни переменных, так что невозможно различить ни переменных видов для некоторого постоянного рода, ни постоянного вида для переменных индивидов. Внутри-концептуальные отношения носят характер не включения и не расширения, а исключительно упорядочения, и составляющие концепта не бывают ни постоянными, ни переменными, а просто-напросто вариациями, упорядоченными по соседству. Они процессуальны, модулярны. Концепт той или иной птицы – это не ее род или вид, а композиция ее положений, окраски и пения; это нечто неразличимое, не столько синестезия, сколько синейдезия. Концепт – это гетерогенезис, то есть упорядочение составляющих по зонам соседства. Он ординален, он представляет собой интенсионал, присутствующий во всех составляющих его чертах. Непрерывно пробегая свои составляющие в недистантном порядке, концепт находится по отношению к ним в состоянии парящего полета. Он непосредственно, без всякой дистанции соприсутствует во всех своих составляющих или вариациях, снова и снова проходит через них; это ритурнель, музыкальное сочинение, обладающее своим шифром.
Концепт нетелесен, хотя он воплощается или осуществляется в телах. Но он принципиально не совпадает с тем состоянием вещей, в котором осуществляется. Он лишен пространственно-временных координат и имеет лишь интенсивные ординаты. В нем нет энергии, а есть только интенсивности, он анергетичен (энергия – это не интенсивность, а способ ее развертывания и уничтожения в экстенсивном состоянии вещей). Концепт – это событие, а не сущность и не вещь. Он есть некое чистое Событие, некая этость, некая целостность – например, событие Другого или событие лица (когда лицо само берется как концепт). Или же птица как событие. Концепт определяется как неделимость конечного числа разнородных составляющих, пробегаемых некоторой тонкой в состоянии абсолютного парения с бесконечной скоростью. Концепты – это «абсолютные поверхности или объемы», формы, не имеющие иного объекта, кроме неделимости отличных друг от друга вариаций[10 - О понятии парения, а также об абсолютных поверхностях и объемах как реальных существах, см.: Raymond Ruyer, Nе о-finalisme, P.U.F., ch. IX–XI.]. «Парение» – это состояние концепта или характерная для него бесконечность, хотя бесконечные величины бывают большими или меньшими в зависимости от шифра составляющих, порогов и мостов между ними. В этом смысле концепт есть не что иное, как мыслительный акт, причем мысль действует здесь с бесконечной (хотя и большей или меньшей) скоростью.
Соответственно, концепт одновременно абсолютен и относителен – относителен к своим собственным составляющим, к другим концептам, к плану, в котором он выделяется, к проблемам, которые призван разрешать, но абсолютен благодаря осуществляемой им конденсации, по месту, занимаемому им в плане, по условиям, которые он предписывает проблеме. Он абсолютен как целое, но относителен в своей фрагментарности. Он бесконечен в своем парящем полете, то есть в своей скорости, но конечен в том движении, которым описывает очертания своих составляющих. Философ постоянно реорганизует свои концепты, даже меняет их; порой достаточно какому-нибудь отдельному пункту концепта разрастись, и он производит новую конденсацию, добавляет новые или отнимает старые составляющие. Бывает, что философ являет пример настоящей амнезии, делающей его чуть ли не больным: по словам Ясперса, Ницше «подправлял свои собственные идеи, создавая новые, но не признавал этого открыто; в состоянии возбуждения он забывал те выводы, к которым приходил ранее». Или у Лейбница: «Я думал, что вхожу в гавань, но… был отнесен обратно в открытое море»[11 - Лейбниц, «Новая система природы», § 12.]. Одно, однако, остается абсолютным – тот способ, которым творимый концепт полагает себя в себе самом и наряду с другими. Относительность и абсолютность концепта – это как бы его педагогика и онтология, его сотворение и самополагание, его идеальность и реальность. Он реален без актуальности, идеален без абстрактности… Концепт характеризуется своей консистенцией – эндоконсистенцией и экзоконсистенцией, – но у него нет референции; он автореферентен, будучи творим, он одновременно сам полагает и себя и свой объект. В его конструировании объединяются относительное и абсолютное.
Наконец, концепт недискурсивен, и философия не является дискурсивным образованием, так как не выстраивает ряда пропозиций. Только путая концепт с пропозицией, можно верить в существование научных концептов и рассматривать пропозицию как настоящий «интенсионал» (то, что выражает собой фраза); философский же концепт при этом чаще всего предстает просто как пропозиция, лишенная смысла. Такая путаница царит в логике, и ею объясняется нелепое представление логики о философии. Концепты меряются «философской» грамматикой, которая подменяет их пропозициями, извлеченными из фраз, где они фигурируют; нас все время замыкают в альтернативе двух пропозиций, не видя, что концепт уже перешел в исключенное третье. Концепт – это ни в коем случае не пропозиция, он не пропозиционален, а пропозиция никогда не бывает интенсионалом. Пропозиции определяются своей референцией, а референция затрагивает не Событие, но отношение с состоянием вещей или тел, а также предпосылки этого отношения. Эти предпосылки отнюдь не образуют интенсионала, они всецело экстенсиональны: из них вытекает ряд операций расстановки по абсциссе (линеаризации), включающих интенсивные ординаты в пространственновременные или энергетические координаты, а также операции установления соответствий между выделенными таким образом множествами. Именно такого рода рядами и соответствиями определяется дискурсивность экстенсивных систем; независимость переменных в пропозициях противостоит неделимости вариаций в концепте. Обладая только консистенцией или же интенсивными внекоординатными ординатами, концепты свободно вступают в отношения недискурсивной переклички – либо потому, что составляющие одного из них сами становятся концептами, имеющими другие, опять-таки разнородные составляющие, либо потому, что между концептами ни на одном уровне нет никакой иерархической разницы. Концепты – это центры вибрации, каждый в себе самом и по отношению друг к другу. Поэтому в них все перекликается, вместо того чтобы следовать или соответствовать друг другу. Концептам незачем быть последовательными. В качестве фрагментарных целых концепты не являются даже деталями мозаики, так как их неправильные очертания не соответствуют друг другу. Вместе они образуют стену, но это стена сухой кладки, где все камни хоть и держатся вместе, однако каждый по-своему. Даже мосты между концептами – тоже перекрестки или же окольные пути, не описывающие никаких дискурсивных комплексов. Это подвижные мосты. В таком смысле не будет ошибкой считать, что философия постоянно находится в состоянии отклонения или дигрессивности.
Отсюда вытекают важные различия между высказыванием фрагментарных концептов в философии и высказыванием частных пропозиций в науке. В первом аспекте всякое высказывание является полагательным (de position); но оно остается вне пропозиции (proposition), потому что ее объектом является некоторое состояние вещей как референт, а ее предпосылками – референции, образующие истинностные значения (даже если сами по себе эти предпосылки являются внутренними по отношению к объекту). Напротив того, полагательное высказывание строго имманентно концепту, у которого нет другого объекта, кроме неделимости составляющих, через которые он сам вновь и вновь проходит; в этом и состоит его консистенция. Если же говорить о другом аспекте, о высказываниях творческих или обладающих личной подписью, то несомненно, что научные пропозиции и их корреляты носят ничуть не менее «подписной» и творческий характер, чем философские концепты; поэтому мы и говорим о теореме Пифагора, декартовых координатах, числе Гамильтона, функции Лагранжа, точно так же как и о платоновской Идее или картезианском cogito и т. п. Но сколь бы ни были историчны и исторически достоверны те личные имена, с которыми связывается при этом высказывание, они всего лишь маски для иных становлений, всего лишь псевдонимы для более таинственных единичных существ. В случае пропозиций таковыми являются внешние частные наблюдатели, научно определяемые по отношению к той или другой оси референции, в случае же концептов это внутренние концептуальные персонажи, витающие в том или ином плане консистенции. Мало сказать, что в философиях, науках и искусствах весьма по-разному употребляются личные имена: то же относится и к синтаксическим элементам, таким как предлоги, союзы, слова типа «но», «итак»… Философия говорит фразами, но из фраз, вообще говоря, не всегда извлекаются пропозиции. Пака что в нашем распоряжении есть только весьма общая гипотеза: из фраз или их эквивалента философия добывает концепты (не совпадающие с общими или абстрактными идеями), тогда как наука – проспекты (пропозиции, не совпадающие с суждениями), а искусство – перцепты и аффекты (также не совпадающие с восприятиями или чувствами). В каждом из трех случаев те испытания и применения, которым подвергается язык, не сравнимы друг с другом, однако ими не только определяется различие между этими дисциплинами, но также и постоянно образуются их пересечения.
ПРИМЕР I
Чтобы подтвердить вышеизложенный анализ, возьмем для начала какой-нибудь из самых известных «подписных» философских концептов – например, картезианское cogito, декартовское «Я»; это один из концептов «я». У этого концепта три составляющих – «сомневаться», «мыслить», «быть» (отсюда не следует, что всякий концепт троичен). Целостное высказывание, образуемое этим концептом как множественностью, таково: я мыслю, «следовательно» я существую; или в более полном виде – я, сомневающийся, мыслю, существую, я существую как мыслящая вещь. Таково постоянно возобновляемое событие мысли, каким видит его Декарт. Концепт сгущается в точке Я, которая проходит сквозь все составляющие и в которой совпадают Я’ – «сомневаться», Я”– «мыслить», Я’”– «существовать». Составляющие, то есть интенсивные ординаты, располагаются в зонах соседства или неразличимости, делающих возможным их взаимопереход и образующих их неделимость: первая такая зона находится между «сомневаться» и «мыслить» (я, сомневающийся, не могу сомневаться в том, что мыслю), вторая – между «мыслить» и «существовать» (чтобы мыслить, нужно существовать).
В данном случае составляющие концепта предстают как глаголы, но это не является правилом, достаточно лишь, чтобы они были вариациями. Действительно, сомнение включает в себя моменты, которые представляют собой не виды некоторого рода, а фазы некоторой вариации – сомнение чувственное, научное, обсессивное. (Таким образом, каждый концепт обладает фазовым пространством, хотя и по-другому, чем в науке.) То же самое относится и к модусам мышления – ощущать, воображать, составлять понятия. То же и в отношении типов существования (существа), вещного или субстанциального – бесконечное существо, конечное мыслящее существо, протяженное существо. Примечательно, что в последнем случае концепт «я» сохраняет за собой лишь вторую фазу существа и оставляет в стороне прочие части вариации. И это как раз является знаком того, что концепт как фрагментарная целостность замкнут формулой «я существую как мыслящая вещь»: другие фазы существа доступны только через посредство мостов-перекрестков, ведущих к другим концептам. Так, формула «в числе своих понятий я имею понятие о бесконечном» – это мост, ведущий от концепта «я» к концепту Бога, каковой сам обладает тремя составляющими, образующими «доказательства» существования Бога как бесконечного события, и третье из них (онтологическое) обеспечивает замкнутость концепта, но одновременно и открывает новый мост, новую развилку, ведущую к концепту протяженности, поскольку именно ею гарантируется объективное истинностное значение других ясных и связных понятий, которыми мы обладаем.