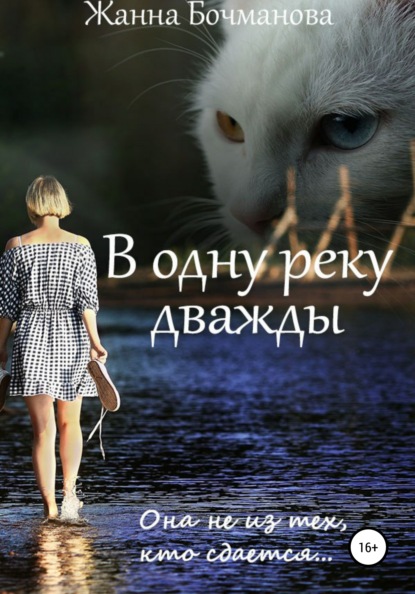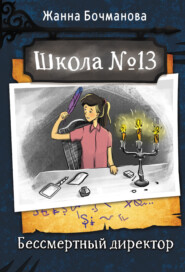По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В одну реку дважды
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да ты никак втюрилась? – ахнула Вилька, – Это плохо.
– Чего ж хорошего?
Мы помолчали.
– Ну ничего, – утешила Вилька, – может, и обойдется – отыщешь в нем пару недостатков – и как рукой снимет.
– Ага, «если вы на женщин слишком падки – в прелестях ищите недостатки».
– А что правильная песенка.
– Конечно, ты же у нас спец по песням. Кстати, а где «Божоле Нуво»?
– Где? В холодильнике. И ничего особенного – бражка какая-то. Я вот вчера «Шардоне» пила… вот это вещь, я скажу.
– У-у, – протянула я уважительно, – раскрутила мужика все-таки. Как его зовут, Поль, говоришь?
– А ты сомневалась в моих способностях?
– Что ты! Ни в коей мере. Ты-то уж наверняка все о нем узнала.
– Еще бы – надо же было чем-то мужика занимать целую ночь. А по лапше – я спец.
***
Я сидела на подоконнике и смотрела вниз, на улицу. Неужели это все со мной? Неужели только сегодня утром я целовалась с самым лучшим мужчиной в мире? Телефон загудел.
– Бон суар, ма птит экольер, – раздался его тихий голос, – я заеду за тобой в восемь вечера, жди меня у входа.
Я положила трубку с бессмысленной улыбкой на лице. Вилька только рукой махнула.
В восемь часов ноль-ноль минут я выскочила за ограду кампуса и ступила на тротуар. И почти тут же к обочине подкатила «Хонда». Ни слова не говоря, он протянул мне шлем и кивнул назад. Я села, уцепилась за него, как давеча, и мотоцикл рванул в ночь. Минут через пятнадцать мы остановились возле набережной, спустились по лесенке, и долго-долго целовались на виду у проплывающих мимо прогулочных корабликов. Эти странные двухъярусные набережные были словно предназначены для влюбленных.
– Вообще-то, для лодок, на которых привозили стройматериалы и прочие необходимые городу вещи, – улыбнулся Эрик.
Я кивнула и засунула руки ему под расстегнутую куртку. Днем ярко светило солнце, воздух прогревался настолько, что можно было ходить в одной джинсовой курточке, а вот к вечеру значительно холодало. Эрик повернулся так, чтобы загородить меня от резкого ветра, налетевшего вдруг с Сены. Мы еще немного поцеловались. Я бы осталась здесь жить, прямо на этой вот набережной, вон как эти вот бродяги, которые раскинули свой импровизированный лагерь под ближайшим мостом. Там виднелись небольшие туристские палатки. Даже бомжи в этом городе жили со своим клошарским парижским шиком. Мимо проплыл очередной кораблик, там играла музыка. Я проводила его взглядом.
– Пойдем, – предложил Эрик. – Ты замерзла. У тебя нос холодный.
Мы поднялись наверх. Слева высилась черная громада Консьержери, а справа сияли неоном бульвары и авеню. Я застыла, опять, в который раз, поймав себя на мысли о нереальности происходящего. Что-то было такое в этом городе, что медленно, но неотвратимо проникало в душу, отравляя ее сладким ядом. Ты знаешь, что это убьет тебя рано или поздно, но слишком велик соблазн и ты пьешь этот яд и с восторгом ждешь смерти.
– Очень красиво, – выдохнула я, прижимаясь к его плечу, – очень!
– Я люблю этот город, – сказал Эрик. – С тех самых пор, как увидел. Мне было десять лет, когда я приехал сюда впервые.
– Где ты родился? – спросила я.
Он засмеялся.
– На раскопках в Библосе.
– Где? – изумилась я. Библос, что-то знакомое, только не помню что.
– Ливан, – счел нужным пояснить Эрик. – Мой отец археолог. Он родился в Ливане, его отец, мой дед, директор отдела древностей Ливанского национального музея в Бейруте. Мама отсюда, из Франции. Ее отец тоже был археологом. Французское правительство тогда получило разрешение от ливанских властей начать раскопки в Библосе, и вот там-то они и встретились. Моя мать и мой отец. Они поженились, потом родился я, и мы жили в Ливане пока… пока там снова не началась война.
Я промолчала. Я ничего до сих пор не знала про Ливан, даже плохо представляла где это.
– Там, там красиво?
– Да, – кивнул Эрик. – Красиво. Она очень маленькая эта страна. Древняя Финикия. Города-государства. Тир, Сидон. Слышала, что-нибудь об этом?
– О, да, – обрадовалась я. – Нам в школе рассказывали.
– Пойдем, моя маленькая школьница, а то ты замерзнешь совсем.
И мы пошли, вернее, поехали и остановились недалеко от здания Опера-Гарньер. Там, на углу, смуглый парнишка лопаткой мешал каштаны в большой жаровне. Эрик купил нам по кулечку. По вкусу они чем-то напоминали печеный картофель. Здание Оперы возвышалось над нами, всеми своими колоннами, скульптурами, резными портиками. На широких ступенях сидели люди, слышался смех, играла музыка. Я засмеялась. Я поняла теперь, что имел в виду старик Хэм, писавший про «праздник, который всегда…» Ключевым словом здесь было именно это «всегда». Всегда. В любую погоду. В любое время. Всегда. Только не для меня. Для меня есть только здесь и сейчас. Вот именно здесь и именно сейчас. А потом уже не будет. Никогда. Страшное тягучее слово «ни-ког-да». Даже думать об этом было страшно, что никогда, никогда, это больше не повторится. Даже если когда-нибудь приеду в Париж, приду сюда, на эту площадь, куплю жареных каштанов, то это уже будет не та площадьи не те каштаны, и не будет рядом его, того, кто сейчас стоял рядом, в чьем кармане грелась моя ладонь, чья рука крепко обнимала меня сейчас за плечи. О, боже! Что я наделала! Я отбросила недоеденные каштаны и, повернувшись, уткнулась лицом Эрику в грудь.
– Поедем к тебе, – попросила я. – У нас так мало времени.
***
Две недели закончились очень быстро, просто мгновенно. Все дни я проводила с Эриком, игнорируя положенные нашей группе экскурсии и развлечения. То, что рассказывал мне о Париже Эрик, не рассказал бы ни один дипломированный гид. Я шла за ним по узким кривым улочкам Монмартра, по широким бульварам Монпарнаса, по изящным гравийным дорожкам Люксембургского сада, крепко держа его за руку, помня, что это только здесь и сейчас. И что скоро ничего этого больше не будет.
И вот этот день наступил. Весь день мы гуляли по городу, потом пообедали в уютном ресторанчике и не спеша направились к дому, где наверху, под самой крышей, прошли мои безумные Парижские ночи. Я посмотрела вверх, на лестницу, уходящую в небо. Вот если бы случилось чудо, и лестница никогда бы не кончалась, вот так бы всю жизнь подниматься и подниматься, держась за его руку. Но все кончается, и лестница тоже кончилась, и я вошла в его квартиру в последний раз. Я смотрела и старалась запомнить каждую деталь. Вот кровать под шелковым покрывалом, кресло с плетеной спинкой, телевизор, старинное зеркало в тяжелой раме. Странно, я никогда раньше не замечала, какой темный бронзовый цвет имеет блестящая поверхность стекла.
– Оно очень старое, – сказал Эрик из-за спины – это венецианское стекло. Женщина, смотрящаяся в него, всегда прекрасна.
Его руки легли мне на плечи, он склонил голову, прошелся губами по шее.
– Ты прекрасна, – шепнул он, поднимая глаза и глядя на мое отражение в зеркале.
Я повернулась и обняла его крепко-крепко:
– Это не я, это зеркало. Оно отражает то, чего нет.
Утром, стоя под душем, я пыталась запомнить каждую кафельную плитку, каждую трещинку, даже звук, с которым тонкие струйки хлестали по моему лицу.
– Сегодня я сварю тебе кофе, – решительно заявила я, появляясь на кухне. Ни слова не говоря, Эрик вылил дымящуюся гущу, только что сваренного кофе, в раковину и протянул мне турку. Он курил и улыбался, а я пыталась вспомнить, как же его варят этот кофе. Но в конце концов это у меня получилось, и я гордо продемонстрировала ему результат моего труда.
– Неплохо для первого раза, – одобрил Эрик.
– Почему первого? – подивилась я его догадливости.
– Целых две недели по утрам я варю кофе, но ты ни разу не предложила сделать это сама. Вывод: либо ты привыкла, что кофе варит мужчина, что маловероятно, либо ты его не умеешь варить вообще.
– Чего это маловероятно? – возмутилась я.
– Для того чтобы мужчина варил тебе кофе, он должен как минимум у тебя быть. Мужчина, естественно, а не кофе. А его у тебя нет, во всяком случае, такого, кто оставался бы у тебя ночевать.