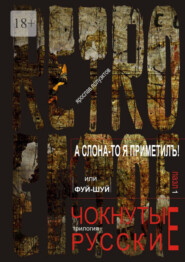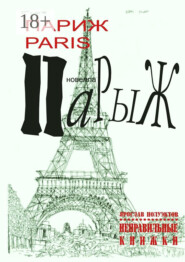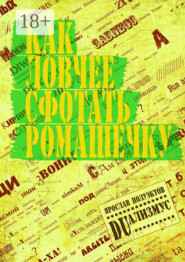По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
За гвоздями в Европу
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
3.
– Вот бы учредить приз от Президента за внимательность, за экономию, и, особенно, за участие в искоренении писательского терроризма! – думал другой. Этот усат, горбат, нечистоплотен, – и он был крайним справа.
4.
Контролирующий слева, – злобствующий, сутяжный философ В. Бесчиннов, – или С. Бесчестнов? – ровно так же, как и наш графоман, – пищущий человек. Но, не зарабатывающий ни грамма на теме любви среди слонов. «При таких выгодных условиях конкурса, а не поучаствовать ли в дальнейшей ловле писателя на слове? Силён ещё, и, ах, как полезен для россиян жанр сексотства! – думает он.
5.
– А если повезёт, то и на глубокоуважаемую мозоль наступить! – решает завистница и конкурентша на писательской ниве.
Её НИК… – к чёрту её НИК. Много чести! Эта НИК считает себя самым главным критиком Интернета, не написав ровно ничего. Её любимый форматный герой и образ, с которым она слилась навсегда – Старуха Шапокляк. Она ближайшая подруга некоего графомана сутяжного, который, так же как и Кирьян Егорович, писал про слонов. Но, сутяжный графоман писал про слонов – производителей фантастического интеллекта, а Кирьян Егорович про калечащие судьбы людей статуэтки, и о слоне – воспитателе юношества, производителе сексуальных мачо. И, хотя НИК с сутяжным графоманом (по всей видимости) спят в разных постелях, но брызжут интерактивной слюной одновременно, ровно сиамские девственницы.
6.
– Хватит нам таких псевдографоманистов – реформаторов. Бумаги в стране не хватает. Засоряют, понимаешь, Лазурные берега Интернета.
7.
– Довольно! – необдуманно бубнят следующие, нежась на отреставрированных Мартиниках и на искусственных, идеально круглых Канарах.
Натуральных Канар, как известно, на всех бездельников уже не хватает. Эти мечтают о других, неиспытанных ещё, местах отдыха. Они ностальгически листают кляссеры с марками бывших колоний. Они покачиваются в экологических, соломенных креслах—качалках мадамбоварских будуаров. Они топчут заросшие мусором, тёмные и непонятные им до конца прозрачные, искренние Бунинские аллеи. И плюются, и плюются, аж харкаются во все стороны.
8.
– Рано звездить!!! – кричат самые наивнимательнейшие педанты, требующие к себе уважения. – С той стороны двери герой был с только что зажжённой свечой, а с другой – уже с Огарковым Вовой.
9.
– Третья—то голова у крокодила чья? Забыл элементарную арифметику, а писать взялся, – орали настоящие инженеры и счетоводы—статистики. Они сумели точнее всех посчитать и сформулировать усреднённо общесамиздатовскую критическую мысль.
На что наиленивейший графоман (а его короткая личная увеличительная приставка «наи…», не менее значима, а то и выше, чем другие «самые—присамые наи—наи…»), в достаточно невежливой и короткой важной для столь важного обстоятельства, как количество голов у пресмыкающегося героя, ответил нижеследующей фразой:
«А третья кучерявая голова пресмыкающегося напоминала те чугунные памятники, что стоят на каждой площади имени Пушкина».
И добавил недостающую звезду.
«*».
– Шлёп!
И всё стало на свои места. Чего вот шуметь по таким пустякам?
***
Мы же – читательское меньшинство, находящееся в молчаливом, почти масонском альянсе, – аккуратны и вежливы. Мы понимаем суть намёков и недосказок. Мы умеем хранить чужие тайны. Мы читаем и перечитываем не понятное, возвращаемся в середину и в конец. Ища идею, мы следим за истоками рождения букв и смысла. Мы углядели разницу между первым вариантом рукописи, сокращённым и средним, предлагаемым сейчас. Мы удивляемся и сожалеем потерянным возможностям. Мы плачем по выдернутым страницам и почти стёртому с лица земли трёхголовому герою.
Переговариваются между собой взахлёб три французских монашки-читательницы творчества 1/2Эктова, штудировавшие книгу с начала её написания с целью перевода и внутреннего монастырского употребления:
– А вообще-то животное, оказывается, поначалу не было элементарным чудовищем.
– Оно было не просто сказочным, и не просто безобидным. Оно было весьма казаново-сексуально и критическо-литературно подкованным.
– Оно могло запросто, на выбор, высунуть только одну: или самую красивую, или самую умную, или самую поэтическую голову.
– Оно с целью инкогнито ходило в шляпе—колпаке полуневидимке, нахлобученной по самые плечи.
– Оно могло молчать, слушать разговорчики и пухнуть возражениями такими же бесцеремонно, как пахнет вяленая рыба, лёжа в багажнике.
– А могло, выбравшись на волю и спрятавшись за дорожный знак, чисто, со знанием сопрано, долго и обворожительно петь на трёх языках одновременно: как яйценоская соловьиха в паре с двумя павлинами.
– Оно могло швыркать ноздрями, уподобляясь простывшему гиппопотаму, вынутому из Лимпопо и интегрированнуму в продуваемый северными ветрами, замерзающий по ночам зоопарк Осло.
– Оно могло подмигнуть зевакам как на шествии ряженых, а потом, незаметно от всех, сжаться, сложить вдесятеро хвост наподобие раскладной книжки, и в таком виде спрятаться в любую щель.
– Неужто в любую? Вот это уже, – натурально, – сказки! – говорят неверующие монашки. Одна из них – излишне замкнутая, лет сорока, открыв чувственный рот, только что в упор пялилась на живой член приглашённого за плату натурщика. Член для лучшей запоминаемости свойств эрегирован третьей смотрительницей женского монастыря. Она лучше всех подкована в этих делах.
– Думаете, так не бывает, что такой большой и в любую щель? В наше-то расчётливое, материалистическое время, – когда не то, чтобы за щель, а даже за нано-любовь нужно платить?
– Ошибаетесь. Бывает. Именно в нано-любую и пролезет, – утверждают современные смотрительницы, сидя треугольником, теребя одной рукой клавиатуру шаловливого компьютера, другой…. Не будем народовать то, чем занимались их вторые руки.
Монастыри—то, в основном, и раскупают все тиражи Туземского К. Е. «Для обучения подопечных редкому и тайному искусству удовлетворения священной похоти». Вот итог их размышлений и одна из целей. Новое время – новые задачи!
– Пусть женщины впредь платят мужчинам не только за секс, но и даже за предпросмотр.
За эту наднациональную идею Туземский огребётся по полной, зато умрёт известным на все последующие сексуальные революции.
***
Упомянутое в пятой редакции с виду немыслимое дело, – хоть верь, хоть не верь, – происходило на мосту, в межграничной полосе. Вспотевшее туловище описанного животного перевалило через перила ж/б переправы и нырнуло в м. реч. Небуг в несколько шагов ширины, которую пехотинцы Рейха, переходя границу в далёком сорок первом, перепрыгивали, не засучивая штанов и даже не поднимая над головой автоматов.
А их генералы, составляли планы переправы на речке—ручейке, перекатывающей измождённых своих барашков аж до самого впадения в пограничный Буг. Они тыкали сигаретами в тонкую змеистую линию на карте и гоготали над такой смехотворной дислокационной ситуёвиной (das ist grosse russisch—schwein Parodie auf Maginot[16 - Русско—свинская пародия на оборонительную линию Мажино. (нем.)]). Они не удосужились нарисовать там ни одной двойной пунктирной черты с отогнутыми хвостами, которые хоть как—то могли бы обозначать временную военную переправу. И зря! На этом основании могли бы истребовать от вермахта хотя бы парочку железных крестов.
Зелёное туловище о трёх головах нырнуло в цыплячью речку Небуг совсем рядом с накуренным с предыдущего вечера и обомлевшим от такого видения Малёхой Ксанычем.
Малёха – честь ему и хвала – даже виду не подал.
Туловище не поспело вернуться обратно, застряв в тине и оставив открытым багажник, который Малёха, слегка дивясь обороту собственной фантазии, тут же торопко прищёлкнул обратно. Мозги – мозгами, а открывшийся багажник и его прихлоп, – с какой это стати? – были физически осязаемыми даже для сидящих внутри авто.
Бим проснулся от грохота. Повёл головой: «Где, что? Мы уже в Варшаве?»
– Х…я в Варшаве! Это ты уже в Польше, а мы ещё в Белоруссии, – отреагировал рассерженный генерал.
«Малюха! Сынок, – что ты там делаешь!?» – Это кричит он же, но уже ласково, примеряя на себя роль нежного отца.
Малюха: «Багажник захлопнул».
Папа: «А кто открыл?»