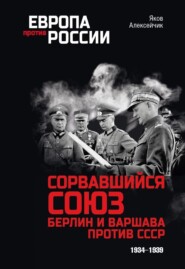По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Имя на площади Победы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Пантеон воинам, погибшим во время Великой Отечественно войны. На обратной стороне снимка рукой Заборского написано: «Фотография памятника пантеона героям Великой Отечественной войны, выполненного мной в 1943 году для Минска на берегу реки Свислочь. Рисовал в г. Троицке, где находился на излечении после госпиталя. Подлинник находится в нашем музее, был закуплен на выставке в Москве в 1943 г.»
На обратной стороне надпись: «г. Троицк, Пантеон для Минска. Гуашь, карандаш. 1944 год»
Курган славы – памятник погибшим воинам. Эскизный проект.
(Этот рисунок свидетельствует, что идея Кургана славы, без которого невозможно представить Минск и Беларусь, у Г. В. Заборского возникла еще в 1945 г.)
Памятник генералу Льву Доватору. 1942 г. Эскиз
На обратной стороне надпись: «Эскизный проект памятника советскому военачальнику. 1943 год»
На обратной стороне надпись: «Эскизный проект монумента в честь воинов-освободителей для садово-парковой зоны, 1944 год»
Триумфальная арка в честь воинов-освободителей и партизан при въезде в Минск. Эскизный проект. Троицк, 1943 г.
Триумфальная арка в честь воинов-освободителей и партизан при въезде в Минск. Эскизный проект. Троицк, 1943 г.
Памятник на братской могиле воинов и партизан. Эскизный проект, 1944–1945 гг.
Памятник на братской могиле воинов и партизан. Эскизный проект, 1944–1945 гг.
Еще один знак непоколебимой веры в победу над гитлеровцами – эскиз здания консерватории в Минске, выполненный Г. В. Заборским в декабре 1941 г.
Эскиз здания консерватории в Минске. 1942 г.
Проект памятника в Минске в честь освобождения БССР Красной Армией. 1944 г.
Проект памятника в Минске в честь освобождения республики Красной Армией. 1944 г.
Нулевой цикл минского феномена
Минск, несомненно, является уникальной столицей. И не только потому, что в самом центре двухмиллионного города у тротуаров главного проспекта можно увидеть, как забавляются белки, не обращая никакого внимания на шагающих рядом прохожих. Минчане знают, что в сквере, где стоит памятник белорусскому классику Янке Купале, в Центральном детском парке, где на скамейке под вербой, положив рядом свой плащ, сидит увековеченный в бронзе русский классик Максим Горький, хвостатые зверьки обитают давно. Привычными для минчан являются и трели соловья, раздающиеся из крон верб на берегу Свислочи в каких-то двухстах шагах от Дома офицеров. Но этим уже трудно удивить цивилизованный мир, в котором столько внимания принято уделять «братьям нашим меньшим». Необычность Минска состоит, прежде всего, в том, что редкому зданию в нем больше века, а тем более двух, несмотря на то, что только зафиксированный историками возраст белорусской столицы приближается к тысяче годков.
Впервые город упомянут в знаменитой «Повести временных лет» в связи с битвой на Немиге, в которой полоцкий князь Всеслав Чародей мерялся силами с киевскими Ярославичами – Изяславом, Святославом и Всеволодом. Тогда сначала на Руси забузил Чародей. Вдруг «заратился», то есть собрал рать, да и захватил Новгород, где снял колокола с Софийского храма. Надо полагать, сделал это потому, что и в Полоцке возводилась церковь в честь Святой Софии – матери Веры, Надежды и Любови, ставших символами христианской добродетели. После этого и «Ярославичи трие, совокупивше вой, идоша на Всеслава». По поводу той битвы сказано, что сошлись стороны «на Немизе, месяца марта в 3 день… И бысть сеча зла, и мнози падоша, и одолеша Изяслав, Святослав, Всеволод, Всеслав же бежа».
В давние времена была у летописцев мода упоминать о какой-либо местности или городе, как правило, в связи с битвой или мором, эпидемией по-нынешнему, иначе они фиксировали в своих текстах, что «в то лето» ничего важного не произошло. Случилась битва на Немиге в 1067 г. Минск тогда уже стоял и потерпел крепко. Но если теперь судить по его улицам, то придется сделать вывод, что на самом деле он юн, как новострой, «зачатый» в годы индустриальных советских пятилеток. В том быстро убедится каждый, едва заглянет в «метрику» практически любого дома на его главных проспектах, не говоря уже об окраинах, этажность которых все растет и растет. Например, на улице Якуба Коласа самое старое здание построено в 1938–1939 гг. В парках, на скамеечках у фонтанов еще можно встретить людей, которые помнят Минск довоенный, но унесенный ураганами той войны. Это был совсем иной город. И, конечно же, многие помнят тех, кто создал новый облик белорусской столицы. Заборского в числе творцов, которым выпала такая честь, знатоки, как правило, называют в первую очередь. Для того, чтобы лучше понять, каких усилий, не только финансовых, но и моральных, творческих, стоило возрождение Минска, нужно сделать отступление и напомнить, что осталось от города после ухода гитлеровцев.
К сожалению, сам Георгий Владимирович не оставил воспоминаний о том, какими были его впечатления от представших его глазам улиц, на которых он вырос. Сохранился только его рассказ, как он побывал на месте, где стоял их дом, и откопал бутылку с рисунком горящего Минска, сделанным 24 июня 1944 г. Самого дома не было. Мамы тоже. Она могла бы многое поведать о жизни в оккупированном городе, но ее, а также сестру Марию и ее маленькую дочь Светлану гитлеровцы вывезли в Германию. Елена Ивановна умерла по дороге на территории Польши. Кое-что потом рассказывала Мария, которая смогла вернуться домой, хотя ей довелось некоторое время подоить коров на ферме у немецкого бауэра. Многое из того, что его родным, соседям, всем горожанам пришлось испытать, он узнавал со слов коллеги Н. Н. Маклецовой, с которой работал в политехническом институте. Ей пришлось все годы оккупации пережить в Минске, и ее воспоминания – это картины, полные трагизма:
«…Минск. Страшный, разрушенный, обгорелый с неистребимым запахом пожарища… Площадка политехнического, сгоревшего 24 июня, была обнесена колючей проволокой, и там был уже огромный лагерь военнопленных…
Седьмого ноября 1941 года в 24-ю годовщину октябрьской революции в городе появились первые виселицы. В центральном сквере, на Советской улице, на перекладинах ворот частных домов в районе Комаровки. На каждой – трое повешенных: в середине женщина, по бокам мужчины… Убирать трупы не разрешали три дня. Немецкие офицеры с хохотом фотографировались на фоне виселиц.
…Помню, как страшно было встречать на улицах знакомых с желтыми отметинами на груди, робко побирающихся вдоль тротуаров – евреям ходить по тротуарам было запрещено».
Но с течением времени картина все-таки менялась не в пользу оккупантов:
«Рослые, румяные, с пышными шевелюрами, «чистые арийцы» (наши-то солдаты в то время ходили стриженными под машинку), это были вояки первых дней войны: сытые, холеные, самоуверенные, «властители мира»… А в сорок четвертом году минский гарнизон состоял из пожилых, хромых очкариков… Навсегда осталась в памяти последняя ночь с 2-го на 3-е июля. Сосед шофер жег в печке свою немецкую форму… Несколько немецких солдат, поливая стены бензином, пытались поджечь дома в нашем переулке, но жители дружно тушили возникавшие очаги огня».
И наконец:
«…Ночь в июле короткая, и быстро наступило утро счастливого дня 3 июля 1944 года. Пронесся слух: «Идут!». Все, кто мог, бросились к Логойскому тракту (теперь улица Я. Коласа), откуда доносился грохот танков. Я схватила на руки сына и помчалась вместе с другими. Невозможно словами передать охватившее тогда чувство…На нашей улице началось пиршество. Вынесли столы, вытащили кто что мог. Откуда-то появились трофейные консервы и роскошные вина из немецких военных складов. Люди, видимо, и тут не растерялись. Хватали со столов бутылки и еду и бежали навстречу проходившим солдатам. Все были, как в чаду, от счастья. Третьего и четвертого июля я в каком-то тумане бродила по улицам города и не верила, что не вижу ненавистных серо-зеленых фигур».
Разрушенный Минск. Улица Ленина. 1944 г. Новую улицу вскоре придется проектировать и восстанавливать Г. В. Заборскому. Кадр из документального фильма
Что оставалось от Минска? На этот вопрос Маклецова дала исчерпывающий ответ: «…Города по сути не было. Повсюду зияли черными глазницами бывших окон полуразрушенные коробки бывших зданий. Многие районы деревянной застройки представляли собой сплошное пепелище. Лишь кое-где торчали одинокие печные трубы. Одиноко стояли чудом уцелевшие Дом правительства, Дом офицеров, Дом ЦК и театр Янки Купалы. От Центральной площади (теперешней) далеко просматривался оперный театр». Как вспоминает и В. Н. Ал адов, Советская, на месте которой потом вырос нынешний проспект Независимости, на улицу становилась немного похожей только в ночное время. В темноте не видно было, что тянувшиеся вдоль нее здания фактически разрушены, а внутри их – груды кирпича. Прекрасный белорусский скульптор и друг Г. В. Заборского Заир Исаакович Азгур о послевоенном Минске в книге «То, что помнится…» тоже говорил в весьма печальных тонах: «…от площади Свободы до Дома печати тянулись сплошные руины… Города почти не было…».
А вот каким увидела Минск архитектор Л. Д. Усова, которая после войны приехала на работу в белорусскую столицу и многое для нее сделала. Любовь Дмитриевна проектировала дом, в котором теперь размещается исполком СНГ, многие жилые здания у Привокзальной площади, зоны отдыха. О том времени писала: «Едем по улице Советской во временное жилище. Трудно передать первое ощущение ужаса, открывшегося перед нашими глазами… Руины, развороченные дома…Сворачиваем к площади Свободы (по нынешней улице Ленина). Кругом руины. На площади – остатки городской ратуши… А слева – не действующий костел, и при нем чудом сохранившиеся сооружения монастыря – наше жилье… На второй день… отправились на работу. Шли через ныне Октябрьскую площадь… На месте нынешнего Дворца профсоюзов – руины бернардинского монастыря, одна стена…». Даже через два года демобилизовавшийся из армии В. М. Волчек с грустью констатировал, что «городской пейзаж» подавляет радость возвращения: «Руины, руины… Разыскал жилище архитектора Заборского. В разрушенном здании, в комнате с окном, забитым досками, – деревянный стол, нары вместо кровати, примус, на столе жестяные кружки и чайник».
В центральных микрорайонах уцелело менее 70 зданий. На улице Карла Маркса сохранилось только три дома и несколько обгорелых коробок. В Минске в 1944 г. был организован специальный хозрасчетный трест по разборке разрушенных сооружений. И не только в Минске. Наркоматом гражданского жилищного строительства были созданы конторы по разборке разрушенных зданий в Витебске, Полоцке и Гомеле. Во всех остальных городах тресты открывали для этих целей специальные участки. Полученные в результате разборки материалы тщательно сортировались, чтобы потом их можно было использовать при новом строительстве. И делалось так не только в БССР, даже не только в СССР. То же писал в своем отчете о поездке в Польшу в 1948 г. начальник Управления по делам архитектуры при Совете Министров БССР М. С. Осмоловский: «С кирпичом в Варшаве очень плохо. Все жилое строительство ведется из грузобетона. Это – щебень… Они из этого грузобетона возводят дома, начиная от основания и кончая крышей… Весь комплекс производства материала происходит на дворе…». В белорусской столице, как и в польской, разбирать было что.
Центр Минска летом 1944 г.
Как вскоре подсчитали, Минск был разрушен не менее чем на 80 процентов. С этим надо было что-то делать. Но сначала предстояло определиться, что именно, в какой очередности, какие для этого потребуются силы и средства. А еще нужно было понять меру своего соответствия возникшим задачам, готовности и умения их решать. И ответы на такие вопросы не могли быть простыми, тем более, что их сложность проистекала не только из катастрофических последствий той войны. Проблемы, с которыми нельзя было больше жить столичному городу, стали накапливаться в Минске еще раньше, корни некоторых из них уходили даже в глубину веков. Причем эти проблемы были характерны для большинства европейских городов, включая Париж. В том же Париже до грандиозной перепланировки, проведенной во второй половине девятнадцатого века гениальным архитектором бароном Жоржем Османом, из-за скученности застройки, слабости канализации довольно часто вспыхивали эпидемии, уносившие десятки тысяч жизней. Осману пришлось снести многие кварталы, проложить почти полторы сотни километров новых широких улиц. И это в Париже, который со статусом столицы, пусть и с перерывами, живет уже полторы тысячи лет. Что касается Минска, та же Наталья Маклецова не скрывала, что, приехав до войны в этот город на работу, она изрядно разочаровалась, увидев его: «25 сентября 1931 года я очутилась на привокзальной площади столицы Белоруссии и расстроилась. Одноэтажное здание вокзала, площадь, покрытая булыжником, извозчики с обшарпанными пролетками… Прямо против входа в вокзал – короткая улица, ныне Кирова, вместо теперешних парадных башен с обеих сторон приземистые деревянные одноэтажные дома, все какое-то жалкое после просторов и красот Ленинграда…
Наняла извозчика и храбро сказала: НККХ (наркомат коммунального хозяйства), площадь Свободы, так значилось в моем служебном предписании. Пролетка остановилась около невзрачного одноэтажного домика – приехали. Прямо за входной дверью канцелярия… Дома правительства еще не было, наркоматы были разбросаны в случайных зданиях по всему городу. НККХ ведал тогда строительством и архитектурой, городским хозяйством, дорогами и энергоснабжением. И при всей грандиозности стоящих задач весь его аппарат размещался в четырех небольших комнатах, включая отдел кадров и кабинет Наркома…Архитекторов в Минске тогда было всего шестеро…».
До войны в белорусской столице главной была площадь Свободы. Более того, этот ее статус предполагалось даже укрепить. 23 декабря 1925 г. на заседании президиума Минского окружного исполнительного комитета рассматривался вопрос «Аб вызначэннi мейсца дзеля пастаноyкi помнiка У. І. ЛЕНІНУ y г. Менску». В графе «Пастанавiлi» записано: «Лiчыць найбольш падхадзяшчым мейсцам для пастаноyкi помнiка У. І. Ленiну «Пляц Волi». Правда, к приезду Маклецовой по проекту Лангбарда уже строился Дом правительства. Но пока Минск выглядел как «типичный заштатный губернский городок… Было несколько мощеных улиц в центре с преобладающим булыжным покрытием… Одна линия трамвая по главной Советской улице… Трамвай появился только в 1929 году, до этого была конка – рельсовая дорога с «двигателем» в две лошадиные силы, а при подъеме на гору у теперешней центральной площади подпрягали еще пару гнедых». Это опять из записок Маклецовой. А вот цитата из книги «Минск», изданной в 1952 г. М. С. Осмоловским, по проектам которого около оперного театра в 1945–1947 гг. пленными немцами и итальянцами был построен целый микрорайон двухэтажных домов, который до сих пор называется «Осмоловкой». О довоенной белорусской столице он писал: «Архитектура города в целом, как и характер его застройки и благоустройства, находилась на чрезвычайно низком уровне. Минск формировался и рос как второстепенный губернский город, без крупной промышленности, с узкими и кривыми улицами, без канализации и водопровода (за исключением центральной части)… Монументальных и красивых зданий в городе было очень мало… Минским «небоскребом» являлось пятиэтажное здание гостиницы «Европа», выстроенное в 1906–1908 годах на углу нынешних площади Свободы и улицы Ленина…». В самом деле, в том году, в котором родился Заборский, в Минске числилось пятьдесят пять небольших фабрик и заводов, на которых трудилось в общей сложности только 1310 рабочих.
И архитекторы, и представители других профессий, оставившие записки о прежних временах, были на удивление единодушны в своих суждениях о старом Минске. Одни дружно твердили, что до революции это был заштатный городишко, строившийся без генерального плана. Формально такой план существовал и назывался «Александровским», так как на нем 25 сентября 1858 г. российский император Александр II начертал собственноручно «Быть по сему!». Однако в последующие полвека почти никто его не придерживался. Мало что изменилось, добавляли другие, и в межвоенные советские годы, хотя власти вынуждены были не раз обращаться к проблеме переустройства города, ставшего столицей республики. Например, на заседании президиума Минского окружного исполкома, которое состоялось 12 мая 1926 г., был заслушан «даклад прафесара Сямёнава аб праекце планiроyкi гор. Менску на блiжэйшае 25-годдзе». Доклад, к сожалению, в Минском государственном областном архиве, где гранятся бумаги тех заседаний, обнаружить не удалось, хотя он должен был быть приложен к протоколу, о чем есть соответствующая пометка, но в самом протоколе довольно подробно отражена суть прений. Например, заместитель председателя исполкома Рабинович отмечал, что, прежде всего, «трэба зьвярнуць увагу на надта дрэнную забудову нашага гораду да гэтага часу i намецiць так званыя чырвоныя рыскi для паступовага папаyнення гэтых недахопаy». Необходимость в новых «чырвоных рысках», то есть красных линиях, регулирующих застройку, настоятельно диктовалась тем, что Минск «зьяyляецца культурным i адмiнiстрацыйным цэнтрам i y гэтым напрамку ён будзе пашырацца». Однако одновременно подчеркивалось, что «горад наш зьяyляецца прыгранiчным, дзе асядае многа выпадковага элементу», а в этом виделась значительная проблема.
Близость границы, в самом деле, считалась моментом, весьма осложняющим жизнь Минска, который, как напоминали военные, был досягаем для дальнобойной артиллерии, расположенной на той стороне межгосударственного рубежа. По этой причине в декабре 1937 г. ЦК КП(б)Б и СНК БССР даже просили Москву перенести столицу в Могилев. Москва согласилась, и в Могилеве стали возводить Дом правительства – аналогичный минскому по тому же проекту Лангбарда. Но 14 октября 1939 г. – после воссоединения белорусских земель – бюро ЦК КП(б)Б попросило союзное руководство оставить столицей БССР Минск. Согласие было, конечно же, получено, ведь к тому времени граница с Польшей отодвинулась на триста километров. Однако в 1926 г. при обсуждении доклада профессора Семенова вопрос о том, что Минск перестанет быть столичным городом еще не вставал. Тем не менее в постановлении окружного исполкома было подчеркнуто, что именно по причине его пограничности «пашырэнне iснуючай прамысловасьцi бязумоyна будзе, але новыя буйныя заводы y нашых прыгранiчных умовах бадай што будавацца не будуць i з гэтай прычыны намячаць новыя прамысловыя раёны нятрэба». Говоря иными словами, Минску просто «не светило» стать большим городом, а тем более городом-миллионником. Скорее всего, ему предстояло оставаться транзитным пунктом, перевалочным для пассажиров и особенно для различных грузов. В этой связи тогдашний председатель окружного исполкома Яцкевич полагал, например, что «месца для унiверсiтэту на Бабруйскай вул. (там, где БГУ стоит теперь – Я. А.) адведзена неyдачна. Гэта мейсца неабходна скарыстаць як блiзкае да вакзалаy пад складачыя памяшканнi». Это значит, складские. Что касается особенностей языка, на котором написан протокол, то это было время, когда белорусизация осуществлялась ускоренными темпами, но к ней явно не все были готовы. Даже технически. Об этом можно судить уже по тому, что печатались протоколы на машинках, в которых не было букв «ё» и «y», а тексты выступлений нередко так переводились на белорусский язык, как получалось у тех, кто сидел за печатной машинкой. Случалось, русские слова просто печатали белорусским алфавитом.
На том заседании решили приступить к подготовке проекта планировки города на ближайшее 25-летие и постановили «для рэгулявання будаyнiцтва разьбiць горад на 4 будаyнiчых зоны па прыкмеце вышынi i густаты забудовы i прыменяемых матар?ялаy». В первой зоне «дапушчаюцца толькi каменныя будынкi, вышынёю ня больш 6-цi i ня меньш 3-х паверхаy…», во второй – «толькi каменныя будынкi вышынёю ня больш 4-х паверхаy…», в третьей – «толькi каменныя будынкi вышынёю ня больш 4-х паверхаy… Нараyне з каменнымi дапушчаюцца i дзеравянныя будынкi пры абавязковай умове незгараемай страхi», в четвертой – «вышыня ня больш 3-х паверхаy… Дапушчаюцца i дзеравянныя будынкi з усялякiмi стрэхамi апроч саломяных». Было решено, что «разрахуннае», как сказано в протоколе, то есть расчетное, население белорусской столицы к 1950 г. должно составить 250 тысяч человек. Предполагалось также «намецiць сетку радзiальных магiстраляy абходных пуцей i транзiтных лiнiяy», а также «прадугледзiць умацаваньне берагоy ракi Сьвiслач». Последнее было особенно важным, так как отсутствие канализации и необустроенность берегов Свисл очи и Немиги удручали горожан все больше. Затопления в некоторые годы становились настоящими наводнениями. Под водой оказывалась значительная часть нынешнего Центрального детского парка, который до 1936 г. носил имя «Профинтерна», а уж потом – Максима Горького, и даже то место, которое впоследствии стало Круглой площадью, а теперь известно, как площадь Победы. Как рассказывал Михась Константинович Мицкевич, младший сын Якуба Коласа, в 1931 г. вода в Свислочи поднялась настолько высоко, что перерезала Советскую улицу. Дом Янки Купалы был затоплен под карнизы. Знакомые парни помогли классику литературы перенести книги и ценные вещи на чердак, а самому Янке Купале пришлось на несколько недель переселиться к Якубу Коласу на Войсковой переулок. Паводок примерно такой же силы случился и в 1937 г. Тогда, как утверждают, уровень воды в реке поднялся на 3,5 метра. Реагировать на подобные явления городские власти в меру своих сил были просто вынуждены. Уже назавтра после доклада профессора Семенова – 13 мая 1926 г. – в исполкоме состоялось обсуждение «Пакета грунтовых заданьняy каналiзацыi y г. Менску, прадстаyлены «Вадаканалам». Пакет предложений был утвержден, притом особое внимание обращено на то, «каб сiстэма ачысткi сточных вод была прынята есьцественная бiолёгiчная…». А 26 мая по докладу Рабиновича решалась проблема «Аб вытворчасцi работ па заключэнню y трубу ракi Нямiгi y зьвязку з каналiзацiяй г. Менску». Поднимался даже вопрос о «выпрамленнi» реки Свислочь. Сделанное в то время на Немиге было разрушено в годы оккупации, а берега Свислочи оделись в бетон уже после войны. При этом от идеи ее выпрямления, слава Богу, отказались, но усилия по обузданию реки приняли довольно основательные.
Серьезной попыткой изменить ситуацию с паводками стало предвоенное решение минских властей соорудить на Свислочи – перед ее входом в город – плотину, чтобы создать искусственное водохранилище и получить возможность регулировать сток весенних паводковых вод. Это было местной самодеятельностью, за что П. К. Пономаренко, возглавившему республику в 1938 г., пришлось отчитываться перед самим Сталиным. Поводом послужила опубликованная в «Правде» статья «Плоды неуемной фантазии», основанная на письме читателя из Минска, который утверждал, что на самом деле около города пытаются выкопать озеро, людей на работы загоняют силой. В статье говорилось также, что озеро никому не нужно, что после него начнут насыпать под Минском горы и высаживать пальмы. Масла в огонь подлила байка руководившего тогда Украиной Н. С. Хрущева, который в разговоре со Сталиным заявил, что одного киевского профессора, приехавшего в Минск, прямо с вокзала отвезли на такие работы, где он пробыл целых три дня. Однако П. К. Пономаренко удалось привести более убедительные доводы. Как сказано в его мемуарах «События моей жизни», опубликованных в мартовском и апрельском номерах журнала «Неман» за 1992 г., он пояснил Сталину, что Свислочь фактически «делит город на высокую и низкую части», а «весной эта река становится настолько полноводной, что затопляет почти всю низкую часть города». От этого «убытки исчисляются миллионами, население терпит большой ущерб, каждый год образовываются комиссии по борьбе с наводнением и его последствиями». Потому-то «умные люди предложили, чтобы избежать наводнений, устроить перед городом водохранилище», тем более, что «река перед самым городом протекает по длинной широкой ложбине, и для образования водохранилища необходима только плотина».
Сталин тогда занял сторону Пономаренко, поручил выделить на те цели средства из союзного бюджета, а Хрущеву пришлось признать, что «минские приключения киевского профессора» на самом деле он придумал. Однако работы по обустройству протекающей по белорусской столице реки прервала война, после которой, по словам столичного профессора 3. К. Могилевчика, вновь несомненной проблемой города оставалось то, что «низменные места городской территории, расположенные у руч. Немига, и р. Свислочь, как Ляховка, парк Горького и другие… при весенних разливах и паводках затопляются…». Ляховкой раньше называлось то место, где теперь расположен стадион «Динамо», концертный зал «Минск», улица Свердлова, улица Октябрьская. До возникновения рядом с главным губернским городом железнодорожного узла она считалась пригородом Минска, и именно появление этого узла дало ей толчок для нового развития.
Однако суть проблем, связанных со Свислочью, отнюдь не ограничивалась паводками. В 1946 г. в своей справке о санитарном состоянии города старший госсанинспектор Минска Лившиц при подготовке «Основных положений генерального плана города Минска» отмечал: «Современное состояние Свисл очи не может удовлетворить самых элементарных требований, которые предъявляются к любому открытому водоему, расположенному на территории населенного пункта. Благодаря расположению и топографии города в отношении р. Свислочь, все нечистоты улиц, площадей смываются дождями и уносятся в реку. Ряд домовладений, имеющих поглощающие колодцы, спускают нечистоты в ренштоки улиц, которые в конечном счете попадают в реку… По обоим берегам можно встретить груды мусора, хлама и даже нечистоты из выгребных ям. Многие промышленные предприятия, как мясокомбинат, кожзавод «Большевик» и др., спускают свои сточные воды, без всякой предварительной очистки, в реку и тем самым вносят значительное загрязнение. Все это практически исключает возможность ее культурного использования на значительном протяжении и представляет, несомненно, санитарную опасность, что несовместимо с задачами восстановления, реконструкции и оздоровления гор. Минска». Кожзавод «Большевик» стоял неподалеку от нынешнего концертного зала «Минск».
Вообще-то, описанная выше ситуация во многом была традиционной и привычной для Минска тех времен, как и привычно само отношение к протекающей через город реке. В очередном томе статистического ежегодника «Памятная книжка Минской губернии», вышедшем в том самом году, в котором родился Г. В. Заборский, на сей счет содержатся впечатляющие суждения. В них говорится, что, хотя «г. Минск расположен в местности здоровой и при надлежащем соблюдении всех гигиенических условий мог бы быть городом с очень умеренной смертностью, но в нем замечается еще столько санитарных погрешностей и настолько не соблюдаются самые примитивные гигиенические условия, что смертность в нем не меньше других городов, в которых климатические и топографические условия менее благоприятны. Одною из наиболее важных причин, мешающих приведению гор. Минска в надлежащее санитарное состояние, является крайнее загрязнение реки Свислочи, из которой пользуется водою весьма значительная часть города, куда еще не проникла городская трубопроводная сеть…». Такому загрязнению Свислочи способствовало «то обстоятельство, что, благодаря возвышенному положению г. Минска, всякого рода нечистоты с улиц и дворов, а иногда из помойных и выгребных ям посредством уличных ренштоков направляются прямо в реку». Туда сбрасывались даже стоки инфекционного отделения земской больницы, стоявшей на перекрестке Александровской и Полицейской улиц (теперь это улицы Максима Богдановича и Янки Купалы). Потом долгие годы эта больница называлась второй клинической. И если такое было характерно для главного губернского города, то, надо полагать, не случайно наибольший процент в губернской статистике заболеваний давали именно заразные болезни: малярия, холера, оспа.
Судя по тому, насколько безапелляционно по поводу белорусской столицы выражался и Владимир Маяковский, который в двадцатые годы прошедшего века не раз посещал город на Свислочи, мало что изменилось в ней и в советское время. В своих очерках «Мое открытие Америки» о контрастах Нью-Йорка он писал, что «в бедных еврейских, негритянских, итальянских кварталах – на 2-й, на 3-й авеню, между первой и тридцатой улицами – грязь почище минской. В Минске очень грязно». После войны профессор 3. К. Могилевчик тоже указывал на явное противоречие, отмечая, что санитарное состояние Минска характеризуется, с одной стороны, «благоприятными в общем естественными условиями», а с другой – «сложившейся структурой беспорядочной застройки», а также «низким уровнем на протяжении веков санитарно-технического благоустройства». Территория же нынешнего Комаровского рынка и прилегающих к нему территорий была в таком состоянии, что профессор предлагал «застройку Комаровского болота, которое требует больших осушительных работ и санации в местах антисанитарной свалки, на проектный период исключить».
Об остроте санитарных проблем Минска говорит и то, что при рассмотрении генплана белорусской столицы они привлекли пристальное внимание Всесоюзной государственной санитарной инспекции в лице заместителя главного госсанинспектора Н. Литвиновой. В своем заключении от 4 июля 1946 г., направленном в Комитет по делам архитектуры при Совете Министров СССР на имя Б. Р. Рубаненко, она предлагала лучше проработать именно «вопросы организации очистки города, обезвреживания и утилизации нечистот и отбросов, что особенно важно в связи с отсутствием развитой сети канализации…», а также задачи водоснабжения, особенно в районах, где «население пользуется колодезной водой неудовлетворительного качества».
Говоря иными словами, чтобы восстанавливать город, возводить наземные сооружения, нужно было сначала создать соответствующие подземные коммуникации, от которых зависело не только наличие удобств в домах и квартирах, но и здоровье их обитателей. Общая сумма затрат на ликвидацию разрушений и решение накопившихся коммунальных и прочих проблем в Минске была такова, что многие поговаривали о переносе столицы в другой город. В. И. Шарапов в их числе называет В. А. Короля, который, по его словам, во время обсуждения планов восстановления столицы на собрании городского актива снова вспомнил о Могилеве. Назывались также Борисов, Орша, даже Столбцы, утверждает он, звучали также предложения строить столицу на новом месте. Некоторые из этих предложений теперь похожи на легенды и с течением времени обрастают все новыми «подробностями». В частности, одна из них изложена в мемуарах «Искушение властью» последнего главы правительства БССР и первого премьер-министра уже независимой Беларуси В. Ф. Кебича, вышедших из печати в 2008 г. В них со ссылкой на неназванные исторические документы с удивляющей детализацией говорится, что во время остановки в Минске по пути на Потсдамскую конференцию в июле 1945 г. И. В. Сталин, увидев на месте города сплошные развалины, «не обращаясь напрямую к своему спутнику, а скорее самому себе сказал: «Столицу Белоруссии будем строить на новом месте. Это экономически целесообразно. А на месте разрушенного города нужно создать величественный мемориал. Пусть внуки и правнуки знают, какой ценой досталась нам победа». Слушателем Сталина тогда был тот самый П. К. Пономаренко, работавший в республике до 1948 г. Он, якобы, встретил генералиссимуса еще в Орше и всю дорогу до Минска рассказывал ему о ситуации в республике. Но тогда на вокзале собрался с духом и возразил вождю: «Нет, товарищ Сталин, мы восстановим Минск на прежнем месте. и это будет лучшим памятником героизму советских людей». А далее идет рассказ о том, что такая смелость Пономаренко весьма удивила Сталина. Он «даже бросил на него строгий взгляд, достал изо рта погасшую трубку, несколько минут размышлял, расхаживая по просторному купе». Затем спросил, почему тот так думает. А Пономаренко ответил, что это не его мнение, а «мнение народа», что если бы Сталин прошелся по городским руинам, то увидел бы надписи, сделанные руками минчан и гласящие, что их родной Минск будет возрожден. И вождь сразу же согласился, потому что «народ всегда прав».
П. К. Пономаренко – первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии в 1938–1947 гг. и Председатель Совнаркома, затем Совета Министров БССР в 1944–1948 гг.
Сама стилистика приведенных строк свидетельствует о том, что вряд ли они взяты из конкретного документа, а, скорее всего, стали плодом «художественных размышлений» того, кто помогал Вячеславу Францевичу укладывать его воспоминания и суждения на бумагу. В этом случае он сослужил авторитетному человеку не лучшую службу. Сам Сталин, если бы мог прочитать приведенные строки, скорее всего, бросил бы свою знаменитую фразу: «Врет, как очевидец!». Тем более, что встречал его Пантелеймон Кондратьевич вовсе не в Орше, а на минском вокзале и уже из Минска сопровождал в сторону Бреста. О разговоре, связанном со строительством Минска на новом месте, в мемуарах П. К. Пономаренко вообще не упоминается, а ведь это слишком важный момент для столицы республики, которой он руководил, чтобы политик мог его упустить. Кроме того, П. К. Пономаренко был слишком тертым человеком для того, чтобы очертя голову бросаться в споры с всесильным вождем, перечить которому вообще было не принято. Вряд ли мог он возражать Сталину еще и потому, что собирался выпросить кое-что для восстановления города, пользуясь впечатлением, которое произвели на руководителя большой страны развалины, увиденные им во время движения по железной дороге и на минском вокзале. И серьезные обещания были даны. Их результатами белорусская столица, да и вся республика, пользуются до сих пор. Пантелеймону Кондратьевичу тогда удалось получить согласие на размещение в Минске тракторного завода, а потом и на строительство автомобильного.
Правда, о том, как именно он добивался помощи, тоже ходят разные версии. По одной из них, Пономаренко вел речь о средствах: деньгах, кирпиче, цементе, но Сталин заметил по этому поводу, что тот не умеет просить, что просить, мол, надо для города крупные предприятия, под которые пойдут и рубли, и кирпич, и цемент. Однако в мемуарах Пантелеймона Кондратьевича говорится, что разговор о большом заводе завел именно он, а Сталин в ответ сразу назвал тракторный. Не исключено, что источником обеих версий был сам Пономаренко. Просто, будучи опытным аппаратчиком, при жизни главного человека в СССР он приводил этот пример с точки зрения мудрости вождя, а после его смерти рассказывал о своей собственной предусмотрительности. Впрочем, некоторые авторы теперь утверждают, что тогда Пономаренко вообще отказывался от всякой помощи, мол, сами справимся, что вряд ли может быть правдой – уж очень сильны были разрушения. Игорь Козлов в своей публикации, посвященной В. И. Козлову и опубликованной в журнале «Беларуская думка» в октябре 2015 г., утверждает, что точку в спорах о том, где предстояло вырасти послевоенному Минску поставил именно Сталин во время той самой остановки на минском железнодорожном вокзале по пути на Потсдамскую конференцию. Именно по его распоряжению «разрушенную войной столицу стали возводить на старом месте». При этом автор публикации не делает никаких ссылок на документы или мемуарные источники.
А разговоры о возможном строительстве нового Минска на новом месте после войны действительно велись. Возникали они, как утверждают люди, помнящие то время, чаще всего в среде архитекторов. Белорусский историк Э. Г. Иоффе, ссылаясь на неопубликованные воспоминания В. А. Короля, утверждает, что «дискуссия о том, на каком месте восстанавливать Минск, длилась почти два года – 1945-й и 1946-й». В самом деле, в Белорусском государственном архиве научно-технической документации хранятся записи Владимира Адамовича, и в них говорится, что «не случайно возник вопрос, стоит ли восстанавливать город Минск на развалинах и руинах, имея в руках лопату и лом. Этот вопрос долго обсуждался, предлагалась новая площадка на расстоянии 10 км от Минска.
В результате тщательных экономических расчетов, а также с учетом традиций… и было принято решение восстанавливать и развивать Минск на прежнем месте. Жизнь доказала правильность данного решения». Каких-либо городов, куда можно было перенести столицу, он в своих записках не назвал.