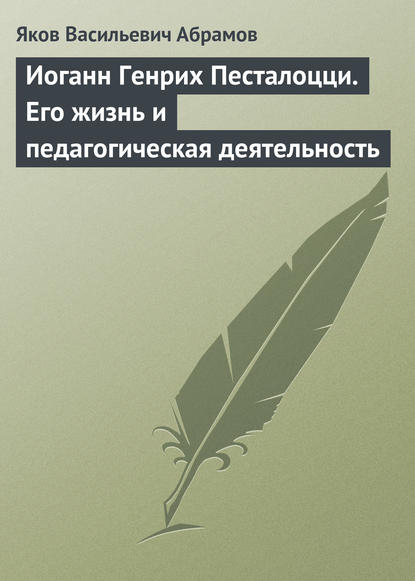По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Иоганн Генрих Песталоцци. Его жизнь и педагогическая деятельность
Автор
Жанр
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
“Азбука, – говорит Песталоцци, – должна заключать в себе в полном объеме все звуки, из которых состоит язык. В каждом доме дитя, начинающее читать склады по книге, или же сама мать ежедневно над колыбелью еще не говорящего младенца должна повторять эти звуки, дабы они через частое повторение глубоко укоренились в его сознании, прежде чем он будет в состоянии произнести хоть один из этих звуков. Никто не может себе представить, до какой степени это повторение отдельных звуков: “ба, ба, ба, да, да, ма, ма, ма, ла, ла, ла” возбуждает внимательность младенца и нравится ему”. “Когда дитя научится говорить, его надо заставлять ежедневно повторять эту вереницу звуков. Затем должно следовать упражнение в складах”.
Чтобы облегчить учителю и матери ведение этого изумительного упражнения над грудными и едва говорящими детьми, Песталоцци составил даже особую “книгу слогов”.
За этим началом ученья должно следовать не менее удивительное продолжение. В “Книге для матерей” приведен страшно длинный список названий “важнейших предметов из всех царств природы, из истории, географии, различных человеческих занятий и отношений”. Этот список имен всевозможных предметов ученик должен заучить наизусть, упражняясь на нем в чтении. “Опыт доказал мне, – говорит Песталоцци, – что память дитяти может вполне усвоить себе эти названия в тот промежуток времени, какой нужен ему, чтобы выучиться читать. Усвоение памятью такого обширного ряда самых разнообразных имен неимоверно облегчает для детей дальнейшее ученье”.
А “дальнейшее ученье” должно состоять в “языкоучении”. Суть этой удивительной науки состоит в следующем. Песталоцци делит все изучаемое на пять рубрик: землеописание, история, учение о мертвой природе, естественная история (учение о живой природе) и антропология. Каждый из этих отделов подразделяется на 40 меньших, так что получается всего 200 частей, причем для каждой из последних составлен в алфавитном порядке длиннейший ряд имен предметов, входящих в её состав. Эти ряды имен ученики должны повторять, пока не заучат. Чтобы показать наглядно все значение подобной системы, сообщаем здесь пример, который приводится самим Песталоцци. Европа есть одна из частей суши. Германия есть одна из частей Европы. Дойдя до Германии, ученикам сообщают, что она делится на десять округов, названия которых заучиваются учениками. Затем ученикам представляют длинные списки германских городов, рек, гор и т. д., и всё это они должны заучивать. Как велико число имен, зазубривать которые должны дети по этой системе, видно из того, например, что одних немецких городов, начинающихся с буквы а, занесено Песталоцци в “словарь имен” целых 31. Само собою разумеется, что 9/10 этих городов – ничтожнейшие местечки, знать имена которых решительно никому не нужно. Зазубрив несколько сот имен городов, дети должны были, смотря на таблицу, где помещены эти имена рядом с цифрами, означающими тот или иной округ, выкрикивать хором: “Ахен лежит в Вестфальском округе, Абенберг – во Франконском” и т. д. Покончив с городами, переходят к рекам, горам и т. д. После Германии таким же способом знакомились с другими странами Европы, после чего то же проделывали с другими частями света. Вызубрив несколько тысяч географических имен, дети могли сказать, что они закончили изучение одной из 200 частей великого словаря имен. Можно себе представить, что было бы с несчастными, одолевшими все 200 частей! К счастью, это физически невозможно. А между тем указанные упражнения представляют собою лишь начало “языкоучения”. Следующую ступень в этом деле должны составлять упражнения в приискивании признаков к предмету и предметов к признаку. Ученики выписывали из “словаря имен” названия предметов и приискивали к ним названия признаков. Получалось следующее:
Аист — серый, длинноногий, длинноносый.
Алмаз — прозрачный, твердый.
Апельсин — круглый, оранжевый, желтый и вкусный. И т. д.
Затем шли обратные упражнения:
Круглый — шар, шляпа, луна, солнце.
Легкий — перо, пух, воздух.
Теплый — печка, летний день.[7 - Подобные упражнения широко практикуются и современной педагогикой.]
Затем детям называют разные предметы, и они должны отвечать, куда должно отнести имена этих предметов: 1) к географии, 2) истории и 3) к естествознанию. Напрактиковавшись в этом упражнении, ученики должны составить таблицы имен по каждому из указанных отделов.
Далее ученики заучивают небольшие предложения: “Отец добр. Бабочка летает. Сосна пряма”,– после чего им задают вопросы: “Кто добр? Кто летает? Кто прям?”, а они отвечают заученными предложениями: “Отец добр”, и т. д.
Теперь ребенок считается подготовленным к более сложным упражнениям. Последние состоят в том, что ребенку предлагают такого рода удивительные вопросы:
Кто имеет что-нибудь, чего нет у других? Что он имеет?
Кто хочет? Чего хочет?
Кто может что-нибудь делать? Что он может делать?
Кто должен что-нибудь делать? Что он должен делать? И т. д.
Дети должны давать на эти вопросы ответы в таком роде:
Человек имеет разум. Лев – силу.
Голодный хочет есть. Пленник хочет свободы.
Рыба может плавать. Белка может прыгать.
Лошадь должна нести упряжь. И т. д.[8 - И такого рода упражнения усиленно практикуются современной педагогикой.]
Затем следует заучивание определений различных предметов и действий, вроде следующего:
“Колокол – это металлическая чашка, внизу открытая, широкая, сверху узкая; она имеет внутри отвесный стержень, свободно висящий, который ударяет в обе стороны чашки, если его двигать, и производить звук, который мы называем звоном”.
Далее следует изучение измерения, рисование и письмо. Мы, однако, не будем останавливаться на них; скажем только, что и эти предметы изучаются совершенно так же, как идет изучение языка. Остановимся только на “искусстве счисления”.
В “Книге для матерей” изображен ряд предметов, которые должны дать ребенку понятие единицы, двух, трех – до десяти. Затем детей упражняют в отыскании единиц, двоек, троек и т. д. на пальцах, на камешках и т. д. Когда дети изучают буквы, они вместе с тем считают их. То же проделывается со слогами и целыми словами. Берется табличка с буквами, и детей спрашивают: “Много здесь табличек?” Те отвечают: одна. Добавляется другая табличка и спрашивается: одна да одна, табличка – сколько всего? Дети должны отвечать: “Одна да одна составляют две”. Когда таким образом дойдут до десяти, идет обратный счет с вычитанием одной, двух и т. д. табличек. Затем ребенку дают две таблички и говорят:
“Если у тебя две таблички, то сколько раз у тебя повторена одна табличка?” На этот мудреный вопрос дитя должно отвечать:
“Если у меня две таблички, то у меня табличка повторена два раза”. Затем идут вопросы: “Сколько раз один содержится в трех, четырех” и т. д.
Мы не будем указывать здесь на то, что при изложенном способе ознакомления детей с вычислением – помимо вычурности искусственности самого способа – теряется всякое образовательное значение занятий арифметикой, которое именно и состоит в приучении детей к отвлеченному мышлению, – как не будем входить в критику и других рекомендуемых Песталоцци и указанных выше предметов обучения. Полагаем, – достаточно отметить эти приемы, а значение их слишком ясно и без всяких критических замечаний.
Еще в бульшие крайности вдавался Песталоцци как учитель-практик. Собственно говоря, нагляднее всего несостоятельность рекомендуемых им приемов обучения проявилась в его собственной преподавательской деятельности. Вот как описывает приемы Песталоцци Рамзауер, учившийся в его школе:
“Школьным образом, собственно говоря, мы там ничему не учились… Школьной программы не было; не было и распределения уроков… Преподавание ограничивалось рисованием, счислением и упражнениями в языке. Нас не занимали ни чтением, ни письмом; у нас не было ни книг, ни тетрадей; наизусть мы также не заучивали никаких отрывков ни светского, ни духовного содержания. Для рисования нам не раздавали ни оригиналов, ни каких-либо нужных для этого дела принадлежностей; был только мел да доски, и в то время как Песталоцци вслух говорил нам предложения из естественной истории (для упражнения в языке), мы должны были рисовать, кто что хочет. Но мы не знали, что нам рисовать, и потому один рисовал домики, другой человечков, третий чертил просто палочки, словом, рисовали всё, что вздумается. Впрочем, Песталоцци никогда и не глядел, что мы там нарисуем или, вернее, намараем; но по платью нашему и особенно по рукавам мог бы всякий заметить, что мы усердно занимались рисованием.
Для счисления садились мы по двое, и перед каждою парою была табличка, наклеенная на папку. На этой табличке были квадратики с точками; эти точки мы должны были складывать, делать над ними вычитание, умножение и деление. Но так как Песталоцци обыкновенно заставлял только повторять за собою по порядку, что он скажет, а никогда ничего не задавал и не спрашивал, то эти упражнения приносили мало пользы. К тому же он не был достаточно терпелив для того, чтобы заставлять повторять или задавать вопросы, и при всем рвении, с которым он преподавал, казалось, не заботился ни об одном ученике. Еще оригинальнее шли упражнения в языке, которые производились при содействии обоев классной комнаты как пособия для наглядного обучения. Обои были очень старые и во многих местах разорванные; перед ними-то стояли мы в ряд в течение 2–3 часов и должны были говорить предложениями обо всем, что замечаем на обоях, о всех рисунках, прорехах, о числе, цвете и фигуре видимого нами. Песталоцци обыкновенно начинал вопросом: “Мальчуганы, что вы тут видите?” Ответ: “Дыру на стене. Прореху на стене”. Песталоцци продолжал: “Хорошо! Теперь повторяйте за мной: “Я вижу прореху на обоях. Я вижу длинную прореху на обоях. За прорехою я вижу стену. За длинною, узкою прорехою я вижу стену”. Затем переходили к фигурам. Песталоцци начинал: “Говорите за мною: “Я вижу фигуры на обоях. Я вижу черные фигуры на обоях. Я вижу черные круглые фигуры на обоях. Я вижу четырехугольную желтую фигуру на обоях. Возле четырехугольной желтой фигуры я вижу круглую черную. Четырехугольная фигура соединяется с круглою посредством толстой черной черты”, и т. д. – без конца.
Еще менее достигали какой-либо цели те упражнения, которые состояли в перечислении предметов из естественной истории и при которых мы должны были рисовать, как упомянуто выше. Песталоцци говорил, а мы за ним: “Амфибии: ползающие амфибии. Пресмыкающиеся амфибии. Обезьяны: Хвостатые обезьяны. Бесхвостые обезьяны” и т. д. Из всего этого мы не понимали ни одного слова, потому что нам ни слова не объясняли, и притом это говорилось нараспев и так невнятно, что удивительно было бы, если бы кто-нибудь что-либо понял. Притом же Песталоцци кричал так оглушительно громко, что сам не мог расслышать, что мы за ним повторяли; а если бы и мог, то все равно никогда не выслушивал, а проговорив одно предложение, тотчас начинал другое, и так безостановочно прочитывал целые страницы. То, что он нам читал, было написано на полулисте огромной папки, и все повторение наше состояло или из отдельных слов, или даже из последних слогов: яны, яны, обезьяны, обезьяны. Вопросов и ответов не было”.
Читатель, без сомнения, весьма удивлен сообщенным в настоящей главе. В самом деле, каким образом человек, несомненно обладавший крупным, недюжинным умом, так блистательно обнаруживающимся в общих педагогических воззрениях Песталоцци и в особенности в его умелой оценке великого значения народного образования, мог, разрабатывая подробности приемов ведения дела, впасть в столь изумительные странности, а в своей школьной практике превратить дело обучения в какой-то сплошной курьез? Нам кажется, что искать объяснения этого странного факта нужно в тех особенностях психической организации Песталоцци, которые так отягощали всю его жизнь. Особенности эти можно охарактеризовать одним словом – непрактичность, понимая это слово в самом широком значении. Склад ума Песталоцци был всегда более пригоден для кабинетной работы; это был ум мыслителя. Каким он был блестящим в области чисто умственной работы, наглядно показывают, помимо создания педагогической системы, шедшей абсолютно вразрез с общепринятыми воззрениями, попытки Песталоцци касаться вопросов философии, истории и политики. Попытки эти были слишком случайны и отрывочны, чтобы из них вышло что-либо цельное, законченное; но они дают достаточное понятие о способности Песталоцци к работе в сфере общих вопросов. Сосредоточиться на этой области, однако, он не мог. Он был слишком живым человеком, чтобы довольствоваться одной отвлеченной работою мысли; он не мог утешиться тем, что его дело – пустить в обращение идею, а осуществление ее возьмут на себя другие. Ему хотелось самому непременно поработать для того великого дела, которое рисовалось в его мыслях. К тому же в тот век господства понятий, прямо противоположных идеям Песталоцци, он не видел, кто взял бы на себя осуществление его идей, и справедливо опасался, что идеи эти не привлекут всеобщего внимания, если им не будет сделано всего, что он в состоянии сделать для их практического осуществления. И Песталоцци сделал в этом отношении, как мы видели, очень многое. Его практическая деятельность действительно сыграла важную роль в деле распространения новых педагогических идей. Этим он обязан своей любящей натуре, которая давала ему возможность поставить воспитательную часть своей системы даже при самых неблагоприятных условиях, как, например, в Станце, в высшей степени образцово. Иное оказалось в преподавательской области. Здесь, помимо любви к делу, требовалась способность ориентироваться среди мелочей, применить великие общие идеи к требованиям практического положения вещей – и здесь Песталоцци оказался несостоятельным, как он оказывался несостоятельным всегда, когда ему приходилось выступать в роли практика. В этом отношении является в высшей степени характерным отзыв о Песталоцци его друга, знаменитого Лафатера. Он говорил Песталоцци:
“Если бы я был правителем государства, то сделал бы тебя моим главным советником по части просвещения; но не дал бы тебе заведовать самой последней деревенской школой”.
И действительно, великий мыслитель, давший стройную систему общих оснований педагогики, оказался совершенно несостоятельным при разработке частностей и еще более – при их практическом применении.
Теперь мы можем уяснить себе, каким образом сложилась легенда о том, что Песталоцци является “отцом современной педагогики”. Нетрудно заметить, что система, именуемая “современной педагогикой”, действительно сделала заимствования у Песталоцци. Но какого рода эти заимствования? Усвоила ли господствующая теперь система основные положения Песталоцци? Отнюдь нет. Господствующая ныне система так же далека от стремления дать перевес семейному и домашнему воспитанию и обучению перед школьным, как и система, господствовавшая сто лет назад; точно так же остается и ныне без применения требование Песталоцци о том, чтобы все воспитание и обучение были основаны на любви к детям и чтобы педагогом был только тот, кто любит своих питомцев; остается в пренебрежении и основное правило Песталоцци, чтобы и в воспитании, и в преподавании совершенно отсутствовал элемент принуждения, чтобы дети усваивали нравственные истины через практику нравственных дел, а не путем поучений, и чтобы они изучали то или другое в силу вызванного в них влечения к изучаемому, а не в силу обязательных требований; забыто и требование Песталоцци, чтобы обучение начиналось с действительного, с факта, близкого, родного и уже потом переходило к слову, существующему только в нашем представлении, далекому, чуждому, и т. д. Словом, все основные положения Песталоцци совершенно пренебрегаются господствующей системой. Зато последняя заимствовала у Песталоцци многое по части приемов преподавания – заимствования крайне сомнительного достоинства. Кто знаком с практикой современной системы, тот не может не видеть, как много перешло в нее от Песталоцци по части курьезных приемов при обучении языку, рисованию, письму, вычислению и по “наглядному обучению”. Некоторые приемы сохранились от Песталоцци до сих пор в их неприкосновенном виде. Таким образом, современная педагогика заимствовала от Песталоцци именно то, в чем он оказался несостоятельным, и совершенно пренебрегла основами системы великого педагога.
Значение Песталоцци не в том, что он выдумал занимать детей рисованием черточек, крестиков и квадратиков и держал их по полугоду на этом занятии, прежде чем перейти к обучению письму, и не в том, что он рекомендовал курьезный способ изучения языка, при котором является надобность в “книге слогов” и “словаре имен”. Только узкие немецкие умы могли искать в сочинениях великого педагога методических и дидактических указаний, совершенно противоречивших общим основаниям его системы, и только рабское следование во всем наших русских педагогов немецким образцам пересадило на нашу почву ошибки Песталоцци. Теперь, когда “современная педагогика” во многом утратила доверие к себе в обществе, быть может, настало время вспомнить великие педагогические начала, выраженные Песталоцци, и отметить его истинное значение – значение основателя дела народного образования и создателя педагогической системы, положившей в основу любовь к детям и уважение к их нравственной и умственной личности.
ИСТОЧНИКИ
1. Тимофеев. Генрих Песталоцци, знаменитый швейцарский педагог.
2. Н. Михайлов. Очерк жизни и деятельности Иоганна-Генриха Песталоцци.
3. К.В. Песталоцци и его мысли о воспитании и учении – “Семья и школа”, 1880, №№ 6–7 и 8–9.
4. Жизнь и воззрения Песталоцци (извлечение из полного собрания его сочинений). Перевод О. Поповой.
5. “Журнал Министерства народного просвещения”, 1861, №№ 8-10.
6. “Воспитание”, 1861, №№ 7–9.
7. “Учитель”, 1861, №№ 19, 20.
notes
Примечания
1
Чтобы облегчить учителю и матери ведение этого изумительного упражнения над грудными и едва говорящими детьми, Песталоцци составил даже особую “книгу слогов”.
За этим началом ученья должно следовать не менее удивительное продолжение. В “Книге для матерей” приведен страшно длинный список названий “важнейших предметов из всех царств природы, из истории, географии, различных человеческих занятий и отношений”. Этот список имен всевозможных предметов ученик должен заучить наизусть, упражняясь на нем в чтении. “Опыт доказал мне, – говорит Песталоцци, – что память дитяти может вполне усвоить себе эти названия в тот промежуток времени, какой нужен ему, чтобы выучиться читать. Усвоение памятью такого обширного ряда самых разнообразных имен неимоверно облегчает для детей дальнейшее ученье”.
А “дальнейшее ученье” должно состоять в “языкоучении”. Суть этой удивительной науки состоит в следующем. Песталоцци делит все изучаемое на пять рубрик: землеописание, история, учение о мертвой природе, естественная история (учение о живой природе) и антропология. Каждый из этих отделов подразделяется на 40 меньших, так что получается всего 200 частей, причем для каждой из последних составлен в алфавитном порядке длиннейший ряд имен предметов, входящих в её состав. Эти ряды имен ученики должны повторять, пока не заучат. Чтобы показать наглядно все значение подобной системы, сообщаем здесь пример, который приводится самим Песталоцци. Европа есть одна из частей суши. Германия есть одна из частей Европы. Дойдя до Германии, ученикам сообщают, что она делится на десять округов, названия которых заучиваются учениками. Затем ученикам представляют длинные списки германских городов, рек, гор и т. д., и всё это они должны заучивать. Как велико число имен, зазубривать которые должны дети по этой системе, видно из того, например, что одних немецких городов, начинающихся с буквы а, занесено Песталоцци в “словарь имен” целых 31. Само собою разумеется, что 9/10 этих городов – ничтожнейшие местечки, знать имена которых решительно никому не нужно. Зазубрив несколько сот имен городов, дети должны были, смотря на таблицу, где помещены эти имена рядом с цифрами, означающими тот или иной округ, выкрикивать хором: “Ахен лежит в Вестфальском округе, Абенберг – во Франконском” и т. д. Покончив с городами, переходят к рекам, горам и т. д. После Германии таким же способом знакомились с другими странами Европы, после чего то же проделывали с другими частями света. Вызубрив несколько тысяч географических имен, дети могли сказать, что они закончили изучение одной из 200 частей великого словаря имен. Можно себе представить, что было бы с несчастными, одолевшими все 200 частей! К счастью, это физически невозможно. А между тем указанные упражнения представляют собою лишь начало “языкоучения”. Следующую ступень в этом деле должны составлять упражнения в приискивании признаков к предмету и предметов к признаку. Ученики выписывали из “словаря имен” названия предметов и приискивали к ним названия признаков. Получалось следующее:
Аист — серый, длинноногий, длинноносый.
Алмаз — прозрачный, твердый.
Апельсин — круглый, оранжевый, желтый и вкусный. И т. д.
Затем шли обратные упражнения:
Круглый — шар, шляпа, луна, солнце.
Легкий — перо, пух, воздух.
Теплый — печка, летний день.[7 - Подобные упражнения широко практикуются и современной педагогикой.]
Затем детям называют разные предметы, и они должны отвечать, куда должно отнести имена этих предметов: 1) к географии, 2) истории и 3) к естествознанию. Напрактиковавшись в этом упражнении, ученики должны составить таблицы имен по каждому из указанных отделов.
Далее ученики заучивают небольшие предложения: “Отец добр. Бабочка летает. Сосна пряма”,– после чего им задают вопросы: “Кто добр? Кто летает? Кто прям?”, а они отвечают заученными предложениями: “Отец добр”, и т. д.
Теперь ребенок считается подготовленным к более сложным упражнениям. Последние состоят в том, что ребенку предлагают такого рода удивительные вопросы:
Кто имеет что-нибудь, чего нет у других? Что он имеет?
Кто хочет? Чего хочет?
Кто может что-нибудь делать? Что он может делать?
Кто должен что-нибудь делать? Что он должен делать? И т. д.
Дети должны давать на эти вопросы ответы в таком роде:
Человек имеет разум. Лев – силу.
Голодный хочет есть. Пленник хочет свободы.
Рыба может плавать. Белка может прыгать.
Лошадь должна нести упряжь. И т. д.[8 - И такого рода упражнения усиленно практикуются современной педагогикой.]
Затем следует заучивание определений различных предметов и действий, вроде следующего:
“Колокол – это металлическая чашка, внизу открытая, широкая, сверху узкая; она имеет внутри отвесный стержень, свободно висящий, который ударяет в обе стороны чашки, если его двигать, и производить звук, который мы называем звоном”.
Далее следует изучение измерения, рисование и письмо. Мы, однако, не будем останавливаться на них; скажем только, что и эти предметы изучаются совершенно так же, как идет изучение языка. Остановимся только на “искусстве счисления”.
В “Книге для матерей” изображен ряд предметов, которые должны дать ребенку понятие единицы, двух, трех – до десяти. Затем детей упражняют в отыскании единиц, двоек, троек и т. д. на пальцах, на камешках и т. д. Когда дети изучают буквы, они вместе с тем считают их. То же проделывается со слогами и целыми словами. Берется табличка с буквами, и детей спрашивают: “Много здесь табличек?” Те отвечают: одна. Добавляется другая табличка и спрашивается: одна да одна, табличка – сколько всего? Дети должны отвечать: “Одна да одна составляют две”. Когда таким образом дойдут до десяти, идет обратный счет с вычитанием одной, двух и т. д. табличек. Затем ребенку дают две таблички и говорят:
“Если у тебя две таблички, то сколько раз у тебя повторена одна табличка?” На этот мудреный вопрос дитя должно отвечать:
“Если у меня две таблички, то у меня табличка повторена два раза”. Затем идут вопросы: “Сколько раз один содержится в трех, четырех” и т. д.
Мы не будем указывать здесь на то, что при изложенном способе ознакомления детей с вычислением – помимо вычурности искусственности самого способа – теряется всякое образовательное значение занятий арифметикой, которое именно и состоит в приучении детей к отвлеченному мышлению, – как не будем входить в критику и других рекомендуемых Песталоцци и указанных выше предметов обучения. Полагаем, – достаточно отметить эти приемы, а значение их слишком ясно и без всяких критических замечаний.
Еще в бульшие крайности вдавался Песталоцци как учитель-практик. Собственно говоря, нагляднее всего несостоятельность рекомендуемых им приемов обучения проявилась в его собственной преподавательской деятельности. Вот как описывает приемы Песталоцци Рамзауер, учившийся в его школе:
“Школьным образом, собственно говоря, мы там ничему не учились… Школьной программы не было; не было и распределения уроков… Преподавание ограничивалось рисованием, счислением и упражнениями в языке. Нас не занимали ни чтением, ни письмом; у нас не было ни книг, ни тетрадей; наизусть мы также не заучивали никаких отрывков ни светского, ни духовного содержания. Для рисования нам не раздавали ни оригиналов, ни каких-либо нужных для этого дела принадлежностей; был только мел да доски, и в то время как Песталоцци вслух говорил нам предложения из естественной истории (для упражнения в языке), мы должны были рисовать, кто что хочет. Но мы не знали, что нам рисовать, и потому один рисовал домики, другой человечков, третий чертил просто палочки, словом, рисовали всё, что вздумается. Впрочем, Песталоцци никогда и не глядел, что мы там нарисуем или, вернее, намараем; но по платью нашему и особенно по рукавам мог бы всякий заметить, что мы усердно занимались рисованием.
Для счисления садились мы по двое, и перед каждою парою была табличка, наклеенная на папку. На этой табличке были квадратики с точками; эти точки мы должны были складывать, делать над ними вычитание, умножение и деление. Но так как Песталоцци обыкновенно заставлял только повторять за собою по порядку, что он скажет, а никогда ничего не задавал и не спрашивал, то эти упражнения приносили мало пользы. К тому же он не был достаточно терпелив для того, чтобы заставлять повторять или задавать вопросы, и при всем рвении, с которым он преподавал, казалось, не заботился ни об одном ученике. Еще оригинальнее шли упражнения в языке, которые производились при содействии обоев классной комнаты как пособия для наглядного обучения. Обои были очень старые и во многих местах разорванные; перед ними-то стояли мы в ряд в течение 2–3 часов и должны были говорить предложениями обо всем, что замечаем на обоях, о всех рисунках, прорехах, о числе, цвете и фигуре видимого нами. Песталоцци обыкновенно начинал вопросом: “Мальчуганы, что вы тут видите?” Ответ: “Дыру на стене. Прореху на стене”. Песталоцци продолжал: “Хорошо! Теперь повторяйте за мной: “Я вижу прореху на обоях. Я вижу длинную прореху на обоях. За прорехою я вижу стену. За длинною, узкою прорехою я вижу стену”. Затем переходили к фигурам. Песталоцци начинал: “Говорите за мною: “Я вижу фигуры на обоях. Я вижу черные фигуры на обоях. Я вижу черные круглые фигуры на обоях. Я вижу четырехугольную желтую фигуру на обоях. Возле четырехугольной желтой фигуры я вижу круглую черную. Четырехугольная фигура соединяется с круглою посредством толстой черной черты”, и т. д. – без конца.
Еще менее достигали какой-либо цели те упражнения, которые состояли в перечислении предметов из естественной истории и при которых мы должны были рисовать, как упомянуто выше. Песталоцци говорил, а мы за ним: “Амфибии: ползающие амфибии. Пресмыкающиеся амфибии. Обезьяны: Хвостатые обезьяны. Бесхвостые обезьяны” и т. д. Из всего этого мы не понимали ни одного слова, потому что нам ни слова не объясняли, и притом это говорилось нараспев и так невнятно, что удивительно было бы, если бы кто-нибудь что-либо понял. Притом же Песталоцци кричал так оглушительно громко, что сам не мог расслышать, что мы за ним повторяли; а если бы и мог, то все равно никогда не выслушивал, а проговорив одно предложение, тотчас начинал другое, и так безостановочно прочитывал целые страницы. То, что он нам читал, было написано на полулисте огромной папки, и все повторение наше состояло или из отдельных слов, или даже из последних слогов: яны, яны, обезьяны, обезьяны. Вопросов и ответов не было”.
Читатель, без сомнения, весьма удивлен сообщенным в настоящей главе. В самом деле, каким образом человек, несомненно обладавший крупным, недюжинным умом, так блистательно обнаруживающимся в общих педагогических воззрениях Песталоцци и в особенности в его умелой оценке великого значения народного образования, мог, разрабатывая подробности приемов ведения дела, впасть в столь изумительные странности, а в своей школьной практике превратить дело обучения в какой-то сплошной курьез? Нам кажется, что искать объяснения этого странного факта нужно в тех особенностях психической организации Песталоцци, которые так отягощали всю его жизнь. Особенности эти можно охарактеризовать одним словом – непрактичность, понимая это слово в самом широком значении. Склад ума Песталоцци был всегда более пригоден для кабинетной работы; это был ум мыслителя. Каким он был блестящим в области чисто умственной работы, наглядно показывают, помимо создания педагогической системы, шедшей абсолютно вразрез с общепринятыми воззрениями, попытки Песталоцци касаться вопросов философии, истории и политики. Попытки эти были слишком случайны и отрывочны, чтобы из них вышло что-либо цельное, законченное; но они дают достаточное понятие о способности Песталоцци к работе в сфере общих вопросов. Сосредоточиться на этой области, однако, он не мог. Он был слишком живым человеком, чтобы довольствоваться одной отвлеченной работою мысли; он не мог утешиться тем, что его дело – пустить в обращение идею, а осуществление ее возьмут на себя другие. Ему хотелось самому непременно поработать для того великого дела, которое рисовалось в его мыслях. К тому же в тот век господства понятий, прямо противоположных идеям Песталоцци, он не видел, кто взял бы на себя осуществление его идей, и справедливо опасался, что идеи эти не привлекут всеобщего внимания, если им не будет сделано всего, что он в состоянии сделать для их практического осуществления. И Песталоцци сделал в этом отношении, как мы видели, очень многое. Его практическая деятельность действительно сыграла важную роль в деле распространения новых педагогических идей. Этим он обязан своей любящей натуре, которая давала ему возможность поставить воспитательную часть своей системы даже при самых неблагоприятных условиях, как, например, в Станце, в высшей степени образцово. Иное оказалось в преподавательской области. Здесь, помимо любви к делу, требовалась способность ориентироваться среди мелочей, применить великие общие идеи к требованиям практического положения вещей – и здесь Песталоцци оказался несостоятельным, как он оказывался несостоятельным всегда, когда ему приходилось выступать в роли практика. В этом отношении является в высшей степени характерным отзыв о Песталоцци его друга, знаменитого Лафатера. Он говорил Песталоцци:
“Если бы я был правителем государства, то сделал бы тебя моим главным советником по части просвещения; но не дал бы тебе заведовать самой последней деревенской школой”.
И действительно, великий мыслитель, давший стройную систему общих оснований педагогики, оказался совершенно несостоятельным при разработке частностей и еще более – при их практическом применении.
Теперь мы можем уяснить себе, каким образом сложилась легенда о том, что Песталоцци является “отцом современной педагогики”. Нетрудно заметить, что система, именуемая “современной педагогикой”, действительно сделала заимствования у Песталоцци. Но какого рода эти заимствования? Усвоила ли господствующая теперь система основные положения Песталоцци? Отнюдь нет. Господствующая ныне система так же далека от стремления дать перевес семейному и домашнему воспитанию и обучению перед школьным, как и система, господствовавшая сто лет назад; точно так же остается и ныне без применения требование Песталоцци о том, чтобы все воспитание и обучение были основаны на любви к детям и чтобы педагогом был только тот, кто любит своих питомцев; остается в пренебрежении и основное правило Песталоцци, чтобы и в воспитании, и в преподавании совершенно отсутствовал элемент принуждения, чтобы дети усваивали нравственные истины через практику нравственных дел, а не путем поучений, и чтобы они изучали то или другое в силу вызванного в них влечения к изучаемому, а не в силу обязательных требований; забыто и требование Песталоцци, чтобы обучение начиналось с действительного, с факта, близкого, родного и уже потом переходило к слову, существующему только в нашем представлении, далекому, чуждому, и т. д. Словом, все основные положения Песталоцци совершенно пренебрегаются господствующей системой. Зато последняя заимствовала у Песталоцци многое по части приемов преподавания – заимствования крайне сомнительного достоинства. Кто знаком с практикой современной системы, тот не может не видеть, как много перешло в нее от Песталоцци по части курьезных приемов при обучении языку, рисованию, письму, вычислению и по “наглядному обучению”. Некоторые приемы сохранились от Песталоцци до сих пор в их неприкосновенном виде. Таким образом, современная педагогика заимствовала от Песталоцци именно то, в чем он оказался несостоятельным, и совершенно пренебрегла основами системы великого педагога.
Значение Песталоцци не в том, что он выдумал занимать детей рисованием черточек, крестиков и квадратиков и держал их по полугоду на этом занятии, прежде чем перейти к обучению письму, и не в том, что он рекомендовал курьезный способ изучения языка, при котором является надобность в “книге слогов” и “словаре имен”. Только узкие немецкие умы могли искать в сочинениях великого педагога методических и дидактических указаний, совершенно противоречивших общим основаниям его системы, и только рабское следование во всем наших русских педагогов немецким образцам пересадило на нашу почву ошибки Песталоцци. Теперь, когда “современная педагогика” во многом утратила доверие к себе в обществе, быть может, настало время вспомнить великие педагогические начала, выраженные Песталоцци, и отметить его истинное значение – значение основателя дела народного образования и создателя педагогической системы, положившей в основу любовь к детям и уважение к их нравственной и умственной личности.
ИСТОЧНИКИ
1. Тимофеев. Генрих Песталоцци, знаменитый швейцарский педагог.
2. Н. Михайлов. Очерк жизни и деятельности Иоганна-Генриха Песталоцци.
3. К.В. Песталоцци и его мысли о воспитании и учении – “Семья и школа”, 1880, №№ 6–7 и 8–9.
4. Жизнь и воззрения Песталоцци (извлечение из полного собрания его сочинений). Перевод О. Поповой.
5. “Журнал Министерства народного просвещения”, 1861, №№ 8-10.
6. “Воспитание”, 1861, №№ 7–9.
7. “Учитель”, 1861, №№ 19, 20.
notes
Примечания
1