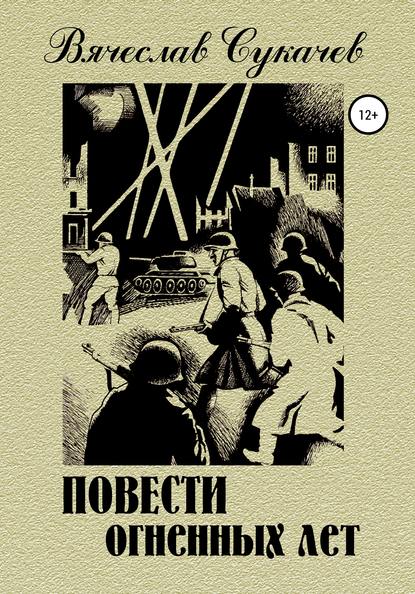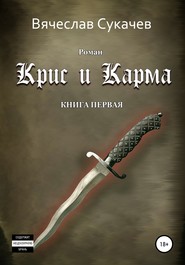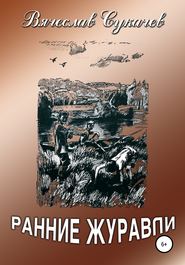По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Повести огненных лет
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А Военная плакала по ночам. Попыталась пойти в сельсовет, к Варьке, Варваре Петровне теперь, но та захлопнула дверь перед самым ее носом.
И опять говорили женщины:
– Бесстыжая, неужто драку в Совете хотела учинить?
– Дак, с нее станется.
А Военная по вечерам тайком пробиралась к Варькиному дому, и часами лежала в огороде между картофельных грядок, чтобы хоть на минуту взглянуть через окно на дочь. И опять плакала, кусая руки, боясь взвыть от великого бабьего горя.
А потом из района приехал милиционер. Он пришел к Серафиме, громко топая сапогами, грозно сел за стол, достал какие-то бумаги и вдруг увидел на стене фотографию в рамке. Поднялся, посмотрел, сравнил с Серафимой, грустно сидящей на топчанчике, и неожиданно воскликнул:
– Прости, сестричка!
И ничего больше не сказал, и записывать ничего не стал, а пошел в сельсовет и уехал вскорости.
Варька, Варвара Петровна, после этого долго дозванивалась в район, дозвонившись, плакала и ругалась.
Глава одиннадцатая
И пришел Матвей. Была уже осень. С вечера зарядил нудный, кислый дождь, к ночи перешедший в проливной. Матвей пришел промокший и пьяный, по-хозяйски разулся у порога и босиком, наступая на шнурки от кальсон, протопал по комнате, постоял у печки, погрел над ней руки и сел к столу. Редкие мокрые волосы разметались по лбу, лезли ему в глаза, он не замечал этого и долго сидел молча, сосредоточенно глядя прямо перед собой. Серафима смотрела, смотрела на него, и вдруг стало ей жаль мужика, но жалость эта была без любви, без чувства родства. Она давно ждала Матвея, знала, что он придет, готовилась к трудному разговору, а теперь вот, когда увидела его, жалкого и пьяного, все как-то вылетело из головы, и осталось лишь одно удивление – да неужто с этим человеком она прожила пять лет? Пять лет делила с ним одну крышу и постель, родила от него дочь, стирала ему нижнее белье и портянки. Не верилось во все это Серафиме, таким далеким и чужим увидела она то время. Казалось, его и не было никогда, а если и было, то жила в то время какая-то другая Серафима, к ней сегодняшней никакого отношения не имевшая.
– У тебя чай есть? – глухо спросил Матвей.
– Найдётся…
Серафима достала кружку, налила Матвею чаю, а сама опять села на низкий топчанчик и закурила.
– Навоевалась? – Он ухмыльнулся и осмотрел полупустую комнату. – Одна осталась, не скучаешь?
– Скучаю, – просто ответила Серафима.
– По ком же? – Матвей дернулся на табуретке, покривился, потом хрипло, через силу, засмеялся. – По фронтовикам?
– Нет, Матвей, по дочери.
– Ишь ты, – притворно удивился Матвей, – четыре года не скучала, а тут вспомнила… Позднёхонько, а, Серафима?
– Матвей, ты зачем пьяный-то пришел? Для смелости?
– Для смелости.
– Тогда ступай домой. Разговора у нас не получится.
– А может, я мириться пришел?
– Мы с тобой не ссорились, Матвей. А разговаривать я с тобой буду, когда Олю приведешь.
Матвей умолк, что-то туго соображая, и вдруг злые огоньки загорелись в его глазах, лицо расплылось в понимающей ухмылке:
– Ну да, я рылом не вышел… Там, поди, офицеры были, а то и генерал захаживал? А, Серафима? Чего молчишь? Я для тебя теперь не тот сорт. Фруктов, конфеток у меня нет, а ты, наверное, теперь к ним привычная. Молчишь? Сказать неча… Конечно, где уж мне с тобой разговаривать. Ты геройски воевала, а я тут просидел, груши околачивал…
– Матвей! – Серафима нахмурилась, и заболело, заныло в плече. – Иди домой.
– Гонишь? А я, может, у тебя хочу остаться. Я, может быть, люблю тебя. Неужто спать меня, своего законного мужика, не положишь?
– Нет, Матвей, не положу.
– Так, – Матвей угрожающе засопел, – брезгуешь после офицерья?
Он неожиданно быстро вскочил и бросился к ней. Серафима успела лишь приподняться, как сильный удар по голове опрокинул ее назад, на топчанчик. Всей тяжестью тела Матвей навалился на нее, схватил за горло и начал душить. Серафима не сопротивлялась. Мягко и сладко закружилась голова, кончики пальцев обожгло жаром, и перед глазами засияли ослепительно яркие радуги. И вдруг припомнилось Серафиме лицо Рыбочкина, его равнодушно-ленивый взгляд и шепелявый голос, и показалось ей, что это его руки на шее, его тяжелое жилистое тело навалилось вновь на нее, и рванулась Серафима с такой силой и яростью, что Матвей отлетел на пол, стукнувшись головой о стол. Не помня себя, накинулась Серафима на Матвея и принялась бить его по щекам, всхлипывая и давясь слезами…
И сидели они потом в тишине, и рассказывала Серафима притихшему Матвею все, как на духу выложила, задыхаясь от обиды и памяти.
Долго молчал Матвей, и хмеля его как не бывало. Ничего не сказал про Рыбочкина, а про Пухова спросил:
– Любишь его?
– Люблю, Матвей, – тихо ответила Серафима.
– Что же не уберегла?
– Не смогла.
– А я сволочь, Сима, – вдруг с тоскою сказал Матвей, – Ольгу для тебя не сберег. Сам-то уж ладно, а о ней вот и не подумал… Варька-то теперь её по своей мерке воспитывает. Ты бы съездила в район, может быть, там помогут. Съездий, Сима.
– Съезжу, Матвей… А может, ты сам уговоришь её? – с надеждой спросила Серафима.
– Уговаривал уже, – вздохнул Матвей, – нет, добром она её ни за что не отдаст.
Уже рассветало, когда уходил Матвей. Серафима проводила его до порога. Постояли в молчании. Матвей робко сказал:
– Я уж буду изредка проведывать тебя, ладно?
– Как хочешь, Матвей, – просто ответила она.
– Может, чего помочь?
– Нет, не надо… Лишние разговоры пойдут. Я уж как-нибудь сама.
– А в район съездий, Серафима. Я еще с ней поговорю, конечно, но сомневаюсь.
И Матвей ушел, оставив в ней грустную боль и далекие воспоминания…
В районе её долго слушали, отправляли из кабинета в кабинет, удивлялись, звонили в Покровский сельсовет, но так и не дозвонились. Наконец какой-то маленький и вёрткий человек сказал ей:
– Хорошо, Лукьянова, поезжайте домой. Мы пришлем представителя. Там, на месте, и разберемся.
Представитель приехал через неделю и оказался тем же маленьким, зырким человеком по фамилии Петрусевич. Вначале он долго беседовал в Совете с Варькой, а потом пригласил Серафиму.