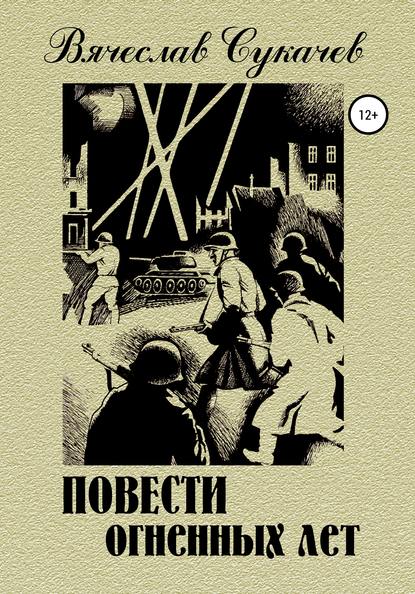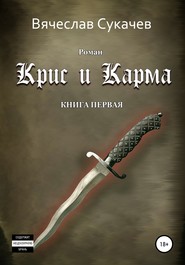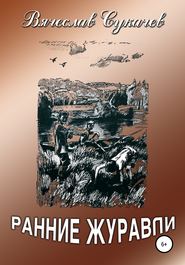По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Повести огненных лет
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Мама! – послышался с крыльца строгий окрик Ольги. – Мама, что это такое?
И в третий раз удивительная перемена произошла с Варварой Петровной. Она вдруг обмякла, задрожала подбородком, черты лица ее расползлись в разные стороны, а из глаз выскочили две неожиданно крупные слезинки.
Но Серафима уже не видела этого. Прикусив в углу рта папиросу, она молча шла по улице и винила себя лишь за то, что действительно вырядилась сегодня как попугай, хотя, конечно, надень Серафима повседневный наряд, Варвара Петровна и к этому бы прицепилась. Дело не в наряде, это понятно, дело в глухой Варькиной ненависти к ней, Серафиме, которая за тридцать лет не только не поубавилась, а еще больше стала.
Обиды Серафима не ощущала. Она лишь дивилась неистребимому чувству ненависти Варвары Петровны к ней и грустно усмехалась, припоминая, сколько довелось ей вытерпеть из-за этой Варькиной злобы.
До теплохода оставался еще час. Серафима прошла мимо своей каморки и встала у перил дебаркадера, и засмотрелась на воду, на солнечные блики, на первые желтые листья, вяло скользящие по реке.
Глава десятая
– Товарищ сержант, вы из какого села будете?
– Из Покровки.
– А я из Софийска.
Молоденький солдат восхищенно и радостно смотрел на нее. Наверное, он завидовал ее наградам, сержантскому званию, нашивкам за ранения.
– Воевали, товарищ сержант?
– Воевали, – вздохнула она.
– Теперь домой?
– Домой.
– А я на побывку. Десять дней без дороги дали. За пожар отметили…
Она уже не слушала, хотя и не хотела обидеть этого солдатика, которого могло сейчас не быть на земле, родись он на год раньше…
Теплоход мерно покачивался на волне, и она вспоминала, как добиралась в Хабаровск в июле сорок первого. Как пряталась за ящиком и пила с Осипом самогон, со страхом думая о неизвестном будущем. Минуло четыре года, уже нет того человека с косой челочкой и нет его армии, так остервенело бросившейся на земли русские, она возвращается аж из самого Берлина, а будущее, будущее, как было, так и осталось неизвестным. Матвей на ее письма не отвечал. Ни одного письма она от него не получила. До сорок третьего года писал ей свекор Петр Гордеевич. Когда свекор скончался, изредка присылала письма Мотька. А всего за четыре года набралось семнадцать писем, из которых она узнала, что через месяц после ее отъезда Матвей стал похаживать к Варьке Рындиной, а в сорок третьем году, схоронив отца, совсем перебрался к ней. И еще узнала, что Оленька зовет Варьку мамой, а про нее, Серафиму, говорит: «Мама меня босива, мама нехороса». И было от чего задуматься Серафиме, было чему подивиться.
А за кормой теплохода проплывали с детства знакомые места, горбатились сопки, грустно стояли темные, притихшие деревеньки, за войну потерявшие многих своих лучших мужиков. Смотрела на все это Серафима, и сердце щемило от боли, от печали неведомой наворачивались на глаза слезы и тут же просыхали под теплым ветром…
– Сестричка, закурить не найдется?
– Найдется. – Она оглянулась, с трудом уходя от своих мыслей. Перед ней стоял высокий крепкий мужик в выцветшей до белизны гимнастерке и широченных черных шароварах. Левый рукав был подвернут до самого плеча и перетянут суровой ниткой.
– Отвоевалась?
– Да уж хватит.
– Вот и я отвоевался,– усмехнулся мужик, закуривая кислую трофейную сигарету, – теперь хоть головой да в воду.
– Чего так?
– Да так, сестричка. Ты-то ещё домой на крыльях летишь, а нас уже встретили…
– Где руку потерял-то?
– Под Ельней… Слышала?
– Слышала. И мы недалеко от тех мест были.
Мужик облокотился на перила, курил. Закурила и Серафима.
– Чего без мужика-то? Многие с мужами возвращаются.
– Мой дома.
– Ну? Как же отпустил?
Мужик разговаривал с необидной насмешливостью. И в то же время в нём самом чувствовалась какая-то боль, заставлявшая приглядеться к нему, найти причину этой боли, и, может быть, именно поэтому хотелось рассказать о своём, поделиться, облегчить душу.
– Сама ушла. Еще в сорок первом, – тихо сказала Серафима. – Тебя как зовут-то?
– Иван. Иван Рубцов.
– А меня Серафима. Я-то ушла, да и он ушел.
– На фронт?
– Нет, к бабе.
– Так зачем едешь? Дерьма такого везде хватает…
– Дочка у меня, Оленька.
– А у меня баба скурвилась, – просто сказал Иван Рубцов, – скурвилась и удрала. Люди с голода пухнут, а она в торговле зад отъела, ну и крутить им начала.
– Теперь куда?
– А черт его знает. Куда-нибудь. Вот до Николаевска доберусь, а там посмотрю. Дружок у меня в Николаевске живет, вместе воевали, только я без руки, а он без ноги остался. Вот мы скооперируемся, да, глядишь, вдвоем-то чего и сообразим.
Помолчали, близко и хорошо понимая друг друга, и еще то, что вместе с последними выстрелами война для них не закончилась, что, может быть, еще долгие годы будут носить они на себе ее печать.
Ивана Рубцова Серафима запомнила надолго. Лет через пять встретила она его и не узнала. Был он счастлив и вел под руку маленькую добрую женщину, тесно приникшую к его плечу…
А уже показались из-за утеса первые дома Покровки, и Серафима так жадно потянулась к ним взглядом, что Иван догадался, кашлянул и ласково сказал:
– Ну, сестричка, прощай! Да не унижайся там, пошли его к черту… Ты же солдат, хоть и баба. Так что не срамись.
И он ушел по палубе, дымя трофейной сигареткой, а она подхватила свой чемоданчик, вздохнула глубоко и пошла к выходу, чувствуя, как колотится сердце и краска наплывает на лицо.
Трудно сказать, почему Серафима не решилась идти верхней улицей, а пошла вдоль Амура, по длинной, песчаной косе, потом по галечнику, поднялась на взгорок, минула овражек и по тропинке взошла на берег. Получилось так, что уходила она крадучись и вернулась тайком. Все как-то неладно складывалось в её жизни, и кто тому виной – разве доищешься. Нет, вины за собой Серафима никакой не чувствовала, но гордости, что вот она, Серафима, прошла всю войну, прошла с боями, на передовой была и ранена, и смерти в глаза смотрела, у нее не было. Перед родным селом, перед домом все это как-то враз позабылось, отодвинулось, словно далекий и трудный сон, и осталось лишь горькое чувство потери, которое переживает всякий человек, после долгой разлуки возвращающийся домой.
Она взошла на берег, обогнула раскидистый куст боярышника, увидела свою избу и остановилась. Сил идти дальше не было. И смотреть на свою избенку в два окна, крест-накрест заколоченных досками, на свой дворик, густо и пышно заросший бурьяном, на обвалившуюся трубу – она тоже не могла. От всего этого веяло таким одиночеством и запустением, что спазмы перехватили горло, стеснило дыхание, заныло, заболело простреленное плечо, и Серафима, торопливо отвернувшись, присела на свой чемоданчик, закурила трофейную сигаретку. Но тут же выплюнула ее в траву и свернула самокрутку из махры, крепко затянулась, прикрыла глаза, чувствуя, как мягко кружится голова и колотится, колотится сердце.