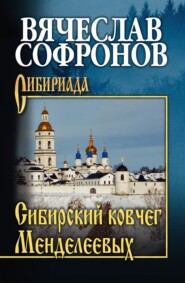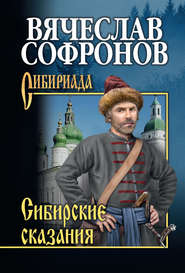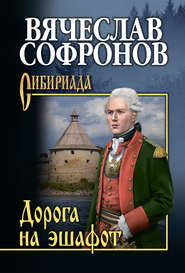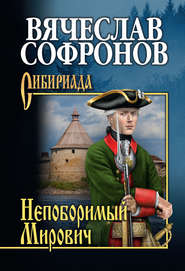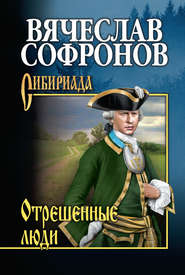По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Кучум
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ермак неторопливо вложил саблю в ножны и поскакал вслед за несущимся по ночной степи табуном, горяча коня. Когда обе половины распавшегося было табуна соединились, взмокшие от бешеной скачки казаки съехались, узнавая, не ранен ли кто. Бог миловал, и даже ни единой царапины ни у кого не было, настолько табунщики растерялись и не смогли дать отпор.
– Ну, атаман, и точно, голова ты у нас!
– Башка у тебя, Тимофеич, крепко варит, – восхищались казаки, перекидываясь на скаку словами. – Теперь главное дело – пригнать их до самого места, да чтоб погони не было.
– Ничего, мы следы запутаем, а пока они нас ищут, далеко уйдем.
На другой день он приказал несколько раз перейти мелкую речушку вброд со всем табуном, прогнать его по тому же следу, крутнулись в сторону, потом в другую и дальше гнали коней без остановки, спали в седлах по очереди и, наконец, на третий день поняли, что ушли, оторвались и теперь уже ногайцам не догнать их. Жалко было только жеребых кобылиц да малолеток, не желавших отставать и падающих без сил в степной ковыль. Табун сократился почти на одну треть, зато им стало легче управлять. Больше всего теряли времени на переправах, сбивая коней в единую массу, заставляя плыть на другую сторону.
Уже на седьмой день показались отроги гор. А вскоре они наткнулись на посты черкесов, укрывшихся в небольшом леске. Обсказали им свои условия обмена табуна на оружие, одежду, богатую посуду, и те послали гонца к своему князю. Тот приехал на другой день в окружении свиты, а позади казаки увидели ряд длинных повозок, укрытых цветастой дерюгой. Догадались, привезли товары для обмена. Князь придирчиво оглядывал едва ли не каждого коня, сетовал, что казаки чуть не загнали их, торговался, как простой купец на базаре. Зато совершенно не интересовался, откуда табун, хотя, конечно, догадывался, поглядывая время от времени по сторонам, словно опасаясь, что сейчас явятся настоящие хозяева коней.
Наконец, ударили по рукам, и казаки взяли под уздцы запряженных в повозки лошадей, предварительно осмотрев и оружие, и посуду, и одежду. Владельцами всего этого богатства теперь становились они. Не оборачиваясь, поехали неторопливо обратно, в душе браня черкесов, что, как обычно, надули, подсунув ношеную одежду, мятую посуду, только ружья и пистоли были исправны.
Добирались долго. Не торопились. Ночью не разводили огня, все еще опасаясь, что ногайцы наткнутся на них, а днем держали на телегах горящие фитили и наготове заряженные ружья. Но вместо ногайцев уже на подходе к Дону встретили своих казаков. Тех было около сотни, вели их Богдан Барбоша и Иван Кольцо, чернобровый красавец с кудрявыми волосами. Про Кольцо Ермак слышал как про добычливого казака, который, случалось, грабил русских купцов, ходил аж под самую Казань. Видел он его лишь один раз в своей станице, куда тот приезжал в окружении таких же удальцов.
Первым подъехал Барбоша, осмотрел повозки, усмехнулся. Стал сетовать, мол, сами они возвращаются после неудачного похода из Крыма и не грех бы поделить богатую добычу. Встреченные ими казаки и впрямь недвусмысленно, недобро, чуть не облизываясь, жадно поглядывали на их повозки. И Ермак, перекинувшись взглядом с товарищами, махнул рукой, чтоб сняли сундуки и мешки с двух повозок, оставив себе половину.
– Да тебе чего, повозок, что ли, жалко? – захохотал Барбоша. – нашел чего жалеть. Давай вместе с повозками.
Ермак ничего не ответил и поехал вперед, врезавшись в толпу конников, расступившихся перед ним, яростно глянул из-под насупленных бровей на Кольцо и его товарищей. И твердо решил, что при первой же возможности уйдет с Дона. Тут ему не жить.
Блаженство власти
Московский царь Симеон Бекбулатович пребывал в добром расположении духа. Мог ли он думать еще год назад, сидя у себя в городке Касимове, что вскоре очутится на самом знатном среди ближайших государств престоле московском. Когда ему передали грамоту царя Ивана Васильевича, в которой тот не приказал, нет, а милостиво просил прибыть его в Москву, то Симеон попрощался со своими родичами, полагая, что ехать ему предстоит не иначе как для принятия смерти. За что? Да, может, за то, что тесть его, князь Иван Федорович Мстиславский, в опалу попал, а теперь, страшно подумать, всех родственников на плаху потянут.
Слезно попрощавшись со всеми, выехал Симеон Бекбулатович тогда в печали великой из Касимова. Сам-то город ему давно опостылел. Не жаловал его народ касимовский за то, что крещение православное принял, русскую жену взял, обрядов дедовских, обычаев не придерживался, одевался под стать русским князьям и даже бороду отпустил им в подражание. А кто знал, что царь Иван Васильевич, уставший от трудов государственных, на него все княжество Московское переложит? Кто знал о том? Скажи о том ранее, так на дыбу в застенок поволокли бы.
Но нет, иная судьба была уготовлена князю Симеону. Еще в Казани живя, в малолетстве, видел, что все татарское не в чести у московитов. Смеялись над ними и за глаза узкие, и за бороды тощие. С дворовыми людьми лучше обращались, нежели с ними, с князьями. А все почему? Татары потому что. Когда же ему городок Касимов пожаловал царь Иван Васильевич, он нарадоваться не мог. Свои покои. Своя охрана. Свой выезд. Виновных карал, нужных людей возвеличивал. А уж про царскую милость не забыл, до конца дней своих помнить будет, чья рука подвела его к княжескому креслу. Потому на каждый праздник и отправлял в Москву подарки дорогие: скакунов наилучших, кречетов для соколиной охоты – дюжинами. Подарок, он не только руку греет, но и память оставляет о дарителе. Вспомнил-таки царь Иван, кто более других холопей ему предан, призвал Симеона ко двору, и не просто призвал, а, страшно подумать, венец царский на него возложил.
Симеон Бекбулатович слез с царского кресла, на котором сидел, пока не было в покоях обычных гостей, просителей, при них он все же стеснялся восседать на царском троне, прошелся по зале и приподнял осторожно крышку сундука, где лежал, посверкивая золотом, венец. Опустил крышку, пробежался к окну, выглянул, проверяя, не идет ли кто ко дворцу, и вернулся к сундучку, вынул венец и возложил себе на голову поверх шапочки, отороченной собольим мехом. Венец был маловат для его округлой тяжелой головы, посаженной на плечи при полном отсутствии шеи.
«Кто бы чего ни говорил там, а ведь не кому-нибудь царь место уступил, а я воспринял престол московский. Ко мне все бояре и послы иноземные на прием просятся, – горделиво откинул голову Симеон Бекбулатович, прошелся широким шагом по зале, опять глянул в окно, – да что послы-бояре, а сам царь кланяется низехонько и на лавку с краешку смирненько садится, глаза в землю опустив. Ох, я им еще покажу, дел понаделаю», – раскипятился новый царь московский, отставив чуть правую ногу и горделиво оглядываясь вокруг.
В это время дверь неожиданно открылась и вошел старший царев сын Иван Иоаннович, зыркнул по сторонам и, увидев Симеона Бекбулатовича, стоящего с гордо откинутой головой, выставленной вперед ногой, прыснул от смеха.
– Ты чего это, Семка, блудный сын, венец царский на башку нацепил? Спереть захотел? Я вот батюшке-то скажу, он повелит тебе плетей всыпать, спустит шкуру твою басурманскую.
– Зачем так говоришь, – обиделся тот, быстро снимая и пряча за спину злосчастный венец, – мне его царь носить доверил, чтоб видно было всем, кто государством правит.
– Это ты-то правишь?! Ты?! Морда татарская! Моя бы воля, так я тебе псарней собственной не доверил управлять, – вкладывая все возможное презрение в свои слова, двинулся на Симеона царевич.
– Но-но, – попятился тот, – не балуй, а то стрельцов позову и царю пожалуюсь, как ты говоришь нехорошо.
– Зови, зови своих стрельцов! Поглядим, что они сделают мне. А?! Испужался! А ну, отдавай сюда венец, я его в свои покои снесу, – он протянул руку, придерживая другой длинную саблю, висевшую на боку.
Симеон Бекбулатоввич не на шутку струхнул и попятился в сторону двери, надеясь, верно, спастись бегством от расшумевшегося царского сынка, чей крутой нрав (а уж нравом он точно в батюшку пошел) был всем хорошо известен. Неизвестно, чем бы все закончилось, но тут дверь вновь открылась и в залу робко вошел младший сын царя, Федор Иоаннович. На его бледном, еще безусом лице блуждала застенчивая улыбка, и занят он был какими-то своими потаенными мыслями, не сразу разобрав, что происходит. Но, увидев испуганно пятившегося к нему Симеона Бекбулатовича с зажатым в руке золотым венцом и приступающего старшего брата, все понял и бросился вперед, выставив руки, заговорил тихим, но очень чистым голосом:
– Братец, опять ты донимаешь бедного нашего Симеона Бекбулатовича. Ему батюшка такое дело доверил, такое дело… – он внезапно смешался, словно забыв, о чем же он хотел сказать, вновь обвел взглядом залу и, проведя тонкой рукой по лбу, закончил, – искал посла английского, да не нашел… А он сказывал, мол, будет здесь с утра. Не было? – вопросительно глянул по сторонам, словно посол мог укрыться за лавкой или огромным шкафом с серебряной посудой.
– Зачем тебе посол тот надобен? – ворчливо проговорил Иван, делая вид, будто забыл про свою ссору с Симеоном Бекбулатовичем.
– Хотел у него порошок попросить…
– Вот те на… Наша телятя бодаться вздумала? – своей насмешливостью Иван пытался уколоть младшего брата. – Отравить кого вздумал? Уж не меня ли?
– Что ты, братец! Посол говорил мне, будто есть такой порошок, который всех людей счастливыми делает. А травить… – лицо Федора при этом исказилось судорогой, пробежавшей по губам, – этого и в мыслях никогда не держал. Как можно человека жизни лишить…
– Как, говоришь?! – Иван захохотал громко и несдержанно, показывая всю неприязнь к Федору. – Или ни разу на казнях не был? Не видел, как жизней лишают? Бжик, и все! – и он провел ребром ладони по горлу.
Симеон Бекбулатович меж тем незаметно подошел к сундуку и, осторожно приоткрыв его, просунул вовнутрь злосчастный венец. Иван повернулся на скрип открываемой крышки, хотел что-то сказать, но лишь махнул рукой, скорчил презрительную гримасу и, подойдя к Федору, взял его за локоть, повел к двери.
– Куда ты меня ведешь, брат? – попытался тот вырваться.
– Ты ж англичанина Сильверста хотел найти, вот и пошли. Мне он тоже по делу нужен, – и вывел слегка упирающегося Федора из залы, метнув на прощание взгляд, полный злобы, Симеону Бекбулатовичу и даже подмигнул ему.
Касимовский царевич, оставшись один, выпустил воздух, тряхнул головой, словно наваждение отогнал, и со стоном опустился на помост возле царского кресла.
– За что он меня так не любит? – спросил, ни к кому не обращаясь. – Зачем такие плохие слова говорит? Зачем глядит так? – и вдруг соскочив, топнул короткой ногой, завизжал дико с подвыванием: – Убью! Зарежу! На плаху пошлю! Пусть только уедет царь из Москвы, я им всем покажу!
На его голос в дверь сунулся дьяк Андрей Клобуков и с изумлением уставился на кричавшего.
– Тут вот купцы ждут, – проговорил негромко.
– Какие там купцы? Кто велел?
– Так сами же и приглашали купцов с Твери. Велели сегодня с утра пожаловать, – Клобуков стоял на пороге и не входил в покои, показывая тем самым, что его дело сторона, как скажут, так и исполнит. Царь Иван Васильевич приставил его к Симеону Бекбулатовичу, строго наказав сообщать ему самолично обо всем, что тот будет говорить, кого принимать, и доносить немедля. Однако царь не объяснил, как звать касимовского царевича, по какому титулу величать перед послами, купцами и другим разным людом. Поэтому дьяк исхитрялся говорить с царевичем вообще без титула. Хуже приходилось, когда он вводил послов в палату и должен был при этом громко объявлять не только имя, но и титул царя. Но и тут хитрый дьяк нашел выход. Впуская послов, он объявлял: «Прибыл такой-то…» – и тут же скрывался за дверью, предоставляя послам догадываться самим, кто перед ним находится на царском троне.
– А-а-а, – вспомнил или только сделал вид, что вспомнил, Симеон, – проси, проси, давно жду.
«Ну и дурак, – подумал Клобуков, – давно ждет. Разве может царь московский давно ждать? То его ждут, а не он», – и распахнул широко дверь перед купцами.
Тех было трое – из Твери и Торжка – торговые люди. Они приехали жаловаться на утеснения своего посадника и даже не ожидали, что могут столь быстро попасть к царю. Другие болтали, будто по полгода сидят, в приказе дожидаясь, проедая кучу денег по московской дороговизне и еще поднося дьякам и приказным разные подарки. А тут… вчера пришли, а сегодня их царь принял. «Ну и дела», – крутили они головами.
Войдя в палату, упали на колени, дружно стукнувшись лбами о большой, смягчающий удары красный ковер. Потихоньку подняли головы и обомлели: перед ними стоял не царь, а узкоглазый и кривоногий самый настоящий татарин. Они соскочили с колен, стали оглядывать залу, но никого более не найдя, спросили:
– А царь-батюшка где-кось будет? Мы до него…
– Я царь и есть, – ответил татарин.
Купцы переглянулись, но деваться было некуда, и они обсказали свое дело, приведшее их в Москву. Татарин выслушал и крикнул дьяка.
– Пиши мою грамоту, – объявил ему. Клобуков послушно вынул перо, чернильницу, достал чистый лист и пристроился у небольшого стола.
– Велю я, Симеон, царь московский, купцам тверским урону никакого не чинить, а коль они мне сызнова пожалуются, то обидчика ихнего велю сечь плетьми до смерти, – продиктовал Симеон Бекбулатович.
Андрей Федорович быстро и скоро записал сказанное, посыпал грамоту песком, стряхнул, дунул для верности и подал на подпись.
Когда обескураженные купцы вышли из Кремля, держа в руках грамоту, вновь переглянулись, перекрестились истово на купола церквей, и самый пожилой, Савелий Карнаухов, зашептал:
– Ну, атаман, и точно, голова ты у нас!
– Башка у тебя, Тимофеич, крепко варит, – восхищались казаки, перекидываясь на скаку словами. – Теперь главное дело – пригнать их до самого места, да чтоб погони не было.
– Ничего, мы следы запутаем, а пока они нас ищут, далеко уйдем.
На другой день он приказал несколько раз перейти мелкую речушку вброд со всем табуном, прогнать его по тому же следу, крутнулись в сторону, потом в другую и дальше гнали коней без остановки, спали в седлах по очереди и, наконец, на третий день поняли, что ушли, оторвались и теперь уже ногайцам не догнать их. Жалко было только жеребых кобылиц да малолеток, не желавших отставать и падающих без сил в степной ковыль. Табун сократился почти на одну треть, зато им стало легче управлять. Больше всего теряли времени на переправах, сбивая коней в единую массу, заставляя плыть на другую сторону.
Уже на седьмой день показались отроги гор. А вскоре они наткнулись на посты черкесов, укрывшихся в небольшом леске. Обсказали им свои условия обмена табуна на оружие, одежду, богатую посуду, и те послали гонца к своему князю. Тот приехал на другой день в окружении свиты, а позади казаки увидели ряд длинных повозок, укрытых цветастой дерюгой. Догадались, привезли товары для обмена. Князь придирчиво оглядывал едва ли не каждого коня, сетовал, что казаки чуть не загнали их, торговался, как простой купец на базаре. Зато совершенно не интересовался, откуда табун, хотя, конечно, догадывался, поглядывая время от времени по сторонам, словно опасаясь, что сейчас явятся настоящие хозяева коней.
Наконец, ударили по рукам, и казаки взяли под уздцы запряженных в повозки лошадей, предварительно осмотрев и оружие, и посуду, и одежду. Владельцами всего этого богатства теперь становились они. Не оборачиваясь, поехали неторопливо обратно, в душе браня черкесов, что, как обычно, надули, подсунув ношеную одежду, мятую посуду, только ружья и пистоли были исправны.
Добирались долго. Не торопились. Ночью не разводили огня, все еще опасаясь, что ногайцы наткнутся на них, а днем держали на телегах горящие фитили и наготове заряженные ружья. Но вместо ногайцев уже на подходе к Дону встретили своих казаков. Тех было около сотни, вели их Богдан Барбоша и Иван Кольцо, чернобровый красавец с кудрявыми волосами. Про Кольцо Ермак слышал как про добычливого казака, который, случалось, грабил русских купцов, ходил аж под самую Казань. Видел он его лишь один раз в своей станице, куда тот приезжал в окружении таких же удальцов.
Первым подъехал Барбоша, осмотрел повозки, усмехнулся. Стал сетовать, мол, сами они возвращаются после неудачного похода из Крыма и не грех бы поделить богатую добычу. Встреченные ими казаки и впрямь недвусмысленно, недобро, чуть не облизываясь, жадно поглядывали на их повозки. И Ермак, перекинувшись взглядом с товарищами, махнул рукой, чтоб сняли сундуки и мешки с двух повозок, оставив себе половину.
– Да тебе чего, повозок, что ли, жалко? – захохотал Барбоша. – нашел чего жалеть. Давай вместе с повозками.
Ермак ничего не ответил и поехал вперед, врезавшись в толпу конников, расступившихся перед ним, яростно глянул из-под насупленных бровей на Кольцо и его товарищей. И твердо решил, что при первой же возможности уйдет с Дона. Тут ему не жить.
Блаженство власти
Московский царь Симеон Бекбулатович пребывал в добром расположении духа. Мог ли он думать еще год назад, сидя у себя в городке Касимове, что вскоре очутится на самом знатном среди ближайших государств престоле московском. Когда ему передали грамоту царя Ивана Васильевича, в которой тот не приказал, нет, а милостиво просил прибыть его в Москву, то Симеон попрощался со своими родичами, полагая, что ехать ему предстоит не иначе как для принятия смерти. За что? Да, может, за то, что тесть его, князь Иван Федорович Мстиславский, в опалу попал, а теперь, страшно подумать, всех родственников на плаху потянут.
Слезно попрощавшись со всеми, выехал Симеон Бекбулатович тогда в печали великой из Касимова. Сам-то город ему давно опостылел. Не жаловал его народ касимовский за то, что крещение православное принял, русскую жену взял, обрядов дедовских, обычаев не придерживался, одевался под стать русским князьям и даже бороду отпустил им в подражание. А кто знал, что царь Иван Васильевич, уставший от трудов государственных, на него все княжество Московское переложит? Кто знал о том? Скажи о том ранее, так на дыбу в застенок поволокли бы.
Но нет, иная судьба была уготовлена князю Симеону. Еще в Казани живя, в малолетстве, видел, что все татарское не в чести у московитов. Смеялись над ними и за глаза узкие, и за бороды тощие. С дворовыми людьми лучше обращались, нежели с ними, с князьями. А все почему? Татары потому что. Когда же ему городок Касимов пожаловал царь Иван Васильевич, он нарадоваться не мог. Свои покои. Своя охрана. Свой выезд. Виновных карал, нужных людей возвеличивал. А уж про царскую милость не забыл, до конца дней своих помнить будет, чья рука подвела его к княжескому креслу. Потому на каждый праздник и отправлял в Москву подарки дорогие: скакунов наилучших, кречетов для соколиной охоты – дюжинами. Подарок, он не только руку греет, но и память оставляет о дарителе. Вспомнил-таки царь Иван, кто более других холопей ему предан, призвал Симеона ко двору, и не просто призвал, а, страшно подумать, венец царский на него возложил.
Симеон Бекбулатович слез с царского кресла, на котором сидел, пока не было в покоях обычных гостей, просителей, при них он все же стеснялся восседать на царском троне, прошелся по зале и приподнял осторожно крышку сундука, где лежал, посверкивая золотом, венец. Опустил крышку, пробежался к окну, выглянул, проверяя, не идет ли кто ко дворцу, и вернулся к сундучку, вынул венец и возложил себе на голову поверх шапочки, отороченной собольим мехом. Венец был маловат для его округлой тяжелой головы, посаженной на плечи при полном отсутствии шеи.
«Кто бы чего ни говорил там, а ведь не кому-нибудь царь место уступил, а я воспринял престол московский. Ко мне все бояре и послы иноземные на прием просятся, – горделиво откинул голову Симеон Бекбулатович, прошелся широким шагом по зале, опять глянул в окно, – да что послы-бояре, а сам царь кланяется низехонько и на лавку с краешку смирненько садится, глаза в землю опустив. Ох, я им еще покажу, дел понаделаю», – раскипятился новый царь московский, отставив чуть правую ногу и горделиво оглядываясь вокруг.
В это время дверь неожиданно открылась и вошел старший царев сын Иван Иоаннович, зыркнул по сторонам и, увидев Симеона Бекбулатовича, стоящего с гордо откинутой головой, выставленной вперед ногой, прыснул от смеха.
– Ты чего это, Семка, блудный сын, венец царский на башку нацепил? Спереть захотел? Я вот батюшке-то скажу, он повелит тебе плетей всыпать, спустит шкуру твою басурманскую.
– Зачем так говоришь, – обиделся тот, быстро снимая и пряча за спину злосчастный венец, – мне его царь носить доверил, чтоб видно было всем, кто государством правит.
– Это ты-то правишь?! Ты?! Морда татарская! Моя бы воля, так я тебе псарней собственной не доверил управлять, – вкладывая все возможное презрение в свои слова, двинулся на Симеона царевич.
– Но-но, – попятился тот, – не балуй, а то стрельцов позову и царю пожалуюсь, как ты говоришь нехорошо.
– Зови, зови своих стрельцов! Поглядим, что они сделают мне. А?! Испужался! А ну, отдавай сюда венец, я его в свои покои снесу, – он протянул руку, придерживая другой длинную саблю, висевшую на боку.
Симеон Бекбулатоввич не на шутку струхнул и попятился в сторону двери, надеясь, верно, спастись бегством от расшумевшегося царского сынка, чей крутой нрав (а уж нравом он точно в батюшку пошел) был всем хорошо известен. Неизвестно, чем бы все закончилось, но тут дверь вновь открылась и в залу робко вошел младший сын царя, Федор Иоаннович. На его бледном, еще безусом лице блуждала застенчивая улыбка, и занят он был какими-то своими потаенными мыслями, не сразу разобрав, что происходит. Но, увидев испуганно пятившегося к нему Симеона Бекбулатовича с зажатым в руке золотым венцом и приступающего старшего брата, все понял и бросился вперед, выставив руки, заговорил тихим, но очень чистым голосом:
– Братец, опять ты донимаешь бедного нашего Симеона Бекбулатовича. Ему батюшка такое дело доверил, такое дело… – он внезапно смешался, словно забыв, о чем же он хотел сказать, вновь обвел взглядом залу и, проведя тонкой рукой по лбу, закончил, – искал посла английского, да не нашел… А он сказывал, мол, будет здесь с утра. Не было? – вопросительно глянул по сторонам, словно посол мог укрыться за лавкой или огромным шкафом с серебряной посудой.
– Зачем тебе посол тот надобен? – ворчливо проговорил Иван, делая вид, будто забыл про свою ссору с Симеоном Бекбулатовичем.
– Хотел у него порошок попросить…
– Вот те на… Наша телятя бодаться вздумала? – своей насмешливостью Иван пытался уколоть младшего брата. – Отравить кого вздумал? Уж не меня ли?
– Что ты, братец! Посол говорил мне, будто есть такой порошок, который всех людей счастливыми делает. А травить… – лицо Федора при этом исказилось судорогой, пробежавшей по губам, – этого и в мыслях никогда не держал. Как можно человека жизни лишить…
– Как, говоришь?! – Иван захохотал громко и несдержанно, показывая всю неприязнь к Федору. – Или ни разу на казнях не был? Не видел, как жизней лишают? Бжик, и все! – и он провел ребром ладони по горлу.
Симеон Бекбулатович меж тем незаметно подошел к сундуку и, осторожно приоткрыв его, просунул вовнутрь злосчастный венец. Иван повернулся на скрип открываемой крышки, хотел что-то сказать, но лишь махнул рукой, скорчил презрительную гримасу и, подойдя к Федору, взял его за локоть, повел к двери.
– Куда ты меня ведешь, брат? – попытался тот вырваться.
– Ты ж англичанина Сильверста хотел найти, вот и пошли. Мне он тоже по делу нужен, – и вывел слегка упирающегося Федора из залы, метнув на прощание взгляд, полный злобы, Симеону Бекбулатовичу и даже подмигнул ему.
Касимовский царевич, оставшись один, выпустил воздух, тряхнул головой, словно наваждение отогнал, и со стоном опустился на помост возле царского кресла.
– За что он меня так не любит? – спросил, ни к кому не обращаясь. – Зачем такие плохие слова говорит? Зачем глядит так? – и вдруг соскочив, топнул короткой ногой, завизжал дико с подвыванием: – Убью! Зарежу! На плаху пошлю! Пусть только уедет царь из Москвы, я им всем покажу!
На его голос в дверь сунулся дьяк Андрей Клобуков и с изумлением уставился на кричавшего.
– Тут вот купцы ждут, – проговорил негромко.
– Какие там купцы? Кто велел?
– Так сами же и приглашали купцов с Твери. Велели сегодня с утра пожаловать, – Клобуков стоял на пороге и не входил в покои, показывая тем самым, что его дело сторона, как скажут, так и исполнит. Царь Иван Васильевич приставил его к Симеону Бекбулатовичу, строго наказав сообщать ему самолично обо всем, что тот будет говорить, кого принимать, и доносить немедля. Однако царь не объяснил, как звать касимовского царевича, по какому титулу величать перед послами, купцами и другим разным людом. Поэтому дьяк исхитрялся говорить с царевичем вообще без титула. Хуже приходилось, когда он вводил послов в палату и должен был при этом громко объявлять не только имя, но и титул царя. Но и тут хитрый дьяк нашел выход. Впуская послов, он объявлял: «Прибыл такой-то…» – и тут же скрывался за дверью, предоставляя послам догадываться самим, кто перед ним находится на царском троне.
– А-а-а, – вспомнил или только сделал вид, что вспомнил, Симеон, – проси, проси, давно жду.
«Ну и дурак, – подумал Клобуков, – давно ждет. Разве может царь московский давно ждать? То его ждут, а не он», – и распахнул широко дверь перед купцами.
Тех было трое – из Твери и Торжка – торговые люди. Они приехали жаловаться на утеснения своего посадника и даже не ожидали, что могут столь быстро попасть к царю. Другие болтали, будто по полгода сидят, в приказе дожидаясь, проедая кучу денег по московской дороговизне и еще поднося дьякам и приказным разные подарки. А тут… вчера пришли, а сегодня их царь принял. «Ну и дела», – крутили они головами.
Войдя в палату, упали на колени, дружно стукнувшись лбами о большой, смягчающий удары красный ковер. Потихоньку подняли головы и обомлели: перед ними стоял не царь, а узкоглазый и кривоногий самый настоящий татарин. Они соскочили с колен, стали оглядывать залу, но никого более не найдя, спросили:
– А царь-батюшка где-кось будет? Мы до него…
– Я царь и есть, – ответил татарин.
Купцы переглянулись, но деваться было некуда, и они обсказали свое дело, приведшее их в Москву. Татарин выслушал и крикнул дьяка.
– Пиши мою грамоту, – объявил ему. Клобуков послушно вынул перо, чернильницу, достал чистый лист и пристроился у небольшого стола.
– Велю я, Симеон, царь московский, купцам тверским урону никакого не чинить, а коль они мне сызнова пожалуются, то обидчика ихнего велю сечь плетьми до смерти, – продиктовал Симеон Бекбулатович.
Андрей Федорович быстро и скоро записал сказанное, посыпал грамоту песком, стряхнул, дунул для верности и подал на подпись.
Когда обескураженные купцы вышли из Кремля, держа в руках грамоту, вновь переглянулись, перекрестились истово на купола церквей, и самый пожилой, Савелий Карнаухов, зашептал: