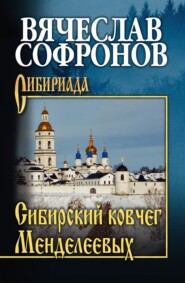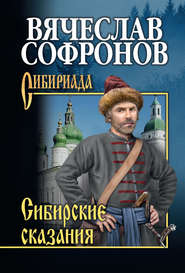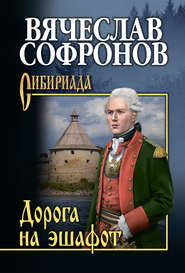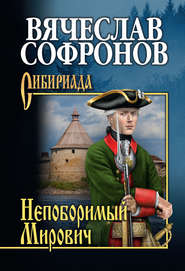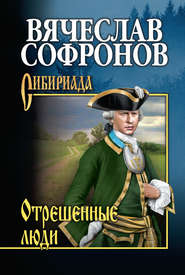По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Кучум
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Согласен ли ты, Афанасий, обещать мне, что поминки, братом моим Иваном посылаемые, будут теми же, что и отец его посылал хану нашему Махмет-Гирею?
– Как я могу за царя отвечать, – улыбнулся Нагой, – у царя своя голова на плечах. Все ему передам как есть, а решать ему.
– Царь хочет мир со мной подписать?
– Давно хочет, да только ты, хан, не соглашаешься.
– Как же я могу согласиться, когда Казань у царя Ивана, брата моего, просил? Просил. Астрахань просил? Просил, – хан начал загибать свои морщинистые пальцы, поднося их близко к глазам, – а царь Иван мне что ответил?
– Царь наш, Иван Васильевич, отвечал, мол, как можно города те отдать, когда там в посадах и по селам давно церкви православные поставлены и русские люди живут. Татарам же даны поместья и службы в землях новгородской, псковской, московской, тверской. А в Казанской земле поставлены семь городов: на Свияге, на Чебоксаре, на Суре, на Алатыре, на Курмыше, – как по писаному начал перечислять посол, но хан замахал руками, показывая нежелание слушать дальше.
– Вон сколько у брата моего Ивана городов! А он?! Двух городов пожалел. Ай-яй-яй, – совсем по-русски закончил хан.
– Мал золотник, да дорог, – усмехнулся Нагой.
– Говорили мне, будто бы царь Иван жадный, да я не верил. А какой город он вздумал ставить на Тереке? Он мое разрешение на то спросил?
Нагой, затаив усмешку в озорно блеснувших глазах, оправил русую бороду, с достоинством ответил:
– А как же! Он сына твоего хотел в Касимов-город на княженье посадить? Хотел, да хан отказался. Жену ему из нашенских предлагал? Хан не пустил сына жениться. Зато черкесский царь Темрюк дочь свою царю нашему в жены отдал, сыновей отпустил, а царь наш, Иван Васильевич, за то в помощь ему и крепость для обороны ставит. Разве он у тебя, хан, согласия дружить не спрашивал? А ты до сих пор судишь-рядишь, с кем дружить, с кем в мире жить… и решить не можешь.
– Так ведь мне, бедному, как иначе? Кто больше предложит – тот мне и друг, – чистосердечно признался Девлет-Гирей.
– Вот-вот. А ногайцы тебе что дали? А султан турецкий?
– И они дружбу предлагают. И хан бухарский, и хан сибирский – все дружбы моей ищут.
При последних словах Нагой насторожился. До него уже давно доходили сведения, будто из Бухары вместе с караванами к крымскому хану шлют грамоты, в которых предлагают соединить усилия всех мусульманских государей и вернуть обратно и Казань, и Астрахань, потеснить Москву, мечтают о временах Батыева нашествия.
– Как же насчет поминок, – вернул его к своим заботам Девлет-Гирей, – хочу те, что при Махмет-Гирее были назначены. Так и отпиши царю своему. Иначе не бывать миру меж нами.
Афанасию надоело торговаться, и он решил немного остудить боевой задор крымского правителя, напомнить о его действительном положении. Прошли те времена, когда Русь боялась татарских полчищ. Не усмотрели те, как буквально под носом у Крыма возникла немалая сила, называемая казаками.
– Хан, верно, знает, что на Дону, на Волге живут люди, что казаками себя прозывают? Сколь их там обитается, и мы того не ведаем. Сила их столь велика, что хан ногайский слезно к царю нашему писал, жалился на них. А вдруг да казаки те на Крым пойти похотят? Тогда как?
– Не бывать тому, – презрительно усмехнулся Девлет-Гирей, – всякий сброд, казаки какие-то не посмеют напасть на мое ханство.
– Еще как посмеют, – поднял предупредительно руку Афанасий Нагой, – только тогда пусть ваши послы не стучатся в двери царского дворца, не просят о помощи.
– Зачем такие нехорошие слова говоришь? – хитро сощурился крымский хан, хорошо понимая, что русский посол не зря напомнил ему о казаках, которые последнее время начали регулярно тревожить его аулы, каждый раз все ближе подбираясь к границам ханства. Много уже жалоб получил он от беков и мурз, чьи табуны были угнаны невесть откуда налетающими никому ранее не известными воинами. Урон, конечно, был от них небольшой, но укус даже маленького комара в больное место всегда ощущаешь болезненно, и даже раздавив зловредное насекомое, долго чешешь оставшуюся после него ранку. И сейчас посол задел ту самую болячку, которая последнее время не давала покоя крымскому хану. – Мы хотим в мире жить с нашим братом, царем московским, а просим его всего лишь о такой малости.
– Малости? – переспросил Нагой. – Астрахань и Казань – малость? Что же тогда будет большим для хана?
– Аллах с ними, с городами, – пренебрежительно отмахнулся Девлет-Гирей, – хлопот с ними не оберешься, с городами теми. Пущай ими брат наш московский владеет, коль они ему так нужны. У меня и здесь дел полно, – и он тяжело вздохнул, давая понять, как нелегко ему приходится в собственном дворце. – Троим сыновьям недавно обрезание делали, четырех дочек замуж собирать надо, а денег в казне нет, пусто. А все почему? Потому что на Москву давно не ходили мои нукеры, не привозили мне десятую часть от взятого в набеге. И царь московский поминок не шлет.
– Сколь надо? – обыденно, словно они находились на базаре, спросил Нагой.
– Две тыщи рублев надо, – выдохнул доверительно в лицо послу Гирей и добавил, – золотом.
– Как скоро нужны деньги? – поинтересовался Нагой.
– Ой, да хоть завтра, – обрадовался крымский правитель, и глаза его ласково заблестели, – в вечном мире с братом моим московским жить будем.
– Я напишу моему государю, – проговорил Афанасий Нагой, вставая, – но пока гонец до Москвы доскачет, пока его там примут, обратно вернется…
– Ждать стану, время терпит, – торопливо закивал головой Девлет-Гирей, – приходи сегодня ко мне ужинать, когда гонца в Москву направишь.
– Хорошо, – согласился Нагой, – сегодня и направлю, но ужинать, извини, хан, прийти не могу, свой повар у меня готовит. Нынче ведь пост Успенский, а ты, поди, сызнова барашка молодого к столу подашь.
– Для дорогого гостя ничего не жалко, – осклабился крымский правитель, – но как знаешь, неволить не буду.
– Поди радуешься, что одним едоком меньше будет, – буркнул про себя Нагой, уже выходя из дворца и с неприязнью глянув на стражников, что буквально ели его глазами, ожидая обычной подачки. – Фиг вам, – проговорил по-русски, надеясь, что те не поймут его слов.
Через два месяца из Москвы вернулся гонец и привез всего двести золотых, которые Иван Васильевич поручал послу вручить хану. Девлет-Гирей несказанно обрадовался этой подачке, словно позабыл, что просил в десять раз больше. В грамоте к Афанасию Нагому государь писал: «Отдай крымскому хану наши деньги, что под рукой оказались, а буде он еще поминок несуразных требовать, то припомни ему, что деньги и все злато земное есть тлен, которые с собой на небеса взять не можно…» Посол счел лучшим не сообщать о тех царских словах обидчивому Девлет-Гирею и через две недели, окончательно удостоверившись, что крымчаки не собираются готовить очередной набег на Москву, благополучно выехал из Бахчисарая.
Блаженство юности
Последние несколько лет Зайла-Сузге жила в Бухаре при дворце Амар-хана, доводившегося дальним родственником правителю страны Абдулле-хану. При ней был и сын ее Сейдяк, который стал к тому времени статным юношей и уже дважды ходил в походы на кочевья Хакк-Назара, проявив при том удаль и отвагу.
Порой ей не верилось, что она не наложница, не скрывается по лесам от головорезов, не мчится верхом по степи, спасаясь от преследователей, не прячется на окраине Бухары, а живет свободно и открыто у друга отца. Верно говорят восточные мудрецы: человек должен долго, очень долго страдать, прежде чем счастье чуть-чуть улыбнется ему и протянет благодать на мизинце. А ведь все произошло почти случайно. Но разве есть в этом мире что-то случайное? Разве человек не ищет тот случай, не выбирает себе путь и не идет по нему? А счастье – это лишь заветный оазис в конце пути.
Раз в неделю, когда на бухарских базарах появлялись дехкане из окрестных кишлаков, привозившие на небольших повозках овощи, свежее мясо, и цены были самыми низкими, она отправлялась обменять или продать сшитые за неделю вещи. Ей помогала соседская девочка, дочь лудильщика Зухра, с родителями которой она дружила и в особо трудные времена могла попросить взаймы ложку масла, горсть муки, пучок лука. Зухре шел уже одиннадцатый год, и родители поговаривали, что пора бы выдавать ее замуж за юношу, с которым она с детства была обручена. Когда Зайла-Сузге спрашивала о ее женихе, девочка краснела и убегала в соседнюю комнатку, откуда выходила нескоро с гордо задранным носиком и оттопыренной верхней губой.
– Любит ли тебя твой жених? – пыталась разговорить девочку Зайла-Сузге.
– Не знаю, ата. Но он обещал быть хорошим мужем и не наказывать меня. Сейчас они с родителями готовят калым, и как только соберут его, то приедут свататься.
– Да за что же тебя наказывать? – всплескивала руками Зайла-Сузге. – Ты такая послушная, такая красивая, все умеешь делать.
От этих слов Зухра лишь краснела, и рука с иглой начинала бегать еще быстрее, а головка склонялась ниже к шитью. Однажды она отважилась спросить:
– А Сейдяк тоже обручен с кем-нибудь? У него есть невеста в Сибири?
– Нет, – грустно ответила Зайла-Сузге, – когда мы бежали оттуда, не было и времени подумать об обручении. А здесь… Я думаю, рано говорить Сейдяку о свадьбе. Еще не известно, как все повернется.
– Что повернется? – не отставала Зухра, и по ее заинтересованности легко было понять девичий интерес к молодому парню, ее ровеснику, с которым она виделась почти каждый день.
Зайле-Сузге нравилась быстрая и исполнительная Зухра, и она была бы не прочь видеть ее своей невесткой. Но она хорошо понимала, что не вправе распоряжаться судьбой своего сына, и не от нее зависело, как сложатся дальнейшие события. Все же он законный наследник сибирского престола и, войдя в лета, став мужчиной, сам должен выбрать себе место в этом мире.
Сейдяк обращался с Зухрой как с сестрой, ничем не выделяя ее среди других девочек, живущих поблизости. Но Зайла-Сузге опытным материнским взглядом, а больше сердцем угадывала влечение сына к робкой, застенчивой Зухре.
«Но разве пара дочь простого медника, что целыми днями лудит на своем дворе медные кувшины и тазы, ее сыну, чей род восходит к потомкам великого Чингиза? – размышляла она. – Не будут ли они оба несчастны, если соединят свои судьбы? У ее сына невеста должна соответствовать его положению. Вряд ли он станет таким же лудильщиком или красильщиком шерсти. Нет, он воин и должен унаследовать то, что принадлежит ему по праву рождения. Как лудильщик унаследовал инструменты своего отца, а красильщик – чаны, пастух – седло и стада, дехканин – кусок обработанной земли, так и ее сын должен стать наследником земли своего отца».
Теплыми вечерами, сидя в небольшом садике за домом, она изредка заводила с сыном разговор о Сибири, о ее непроходимых лесах, могучих реках, рассказывала о Бек-Булате, Едигире. Сейдяк слушал с интересом и лишь потом, когда она умолкала, осторожно спрашивал, чувствуя, сколь болезненны для матери эти воспоминания:
– А когда я вырасту, то мы вернемся в Сибирь?
– Обязательно, сынок, – отвечала она, гладя его черную голову с большим вихром на лбу.
– Как я могу за царя отвечать, – улыбнулся Нагой, – у царя своя голова на плечах. Все ему передам как есть, а решать ему.
– Царь хочет мир со мной подписать?
– Давно хочет, да только ты, хан, не соглашаешься.
– Как же я могу согласиться, когда Казань у царя Ивана, брата моего, просил? Просил. Астрахань просил? Просил, – хан начал загибать свои морщинистые пальцы, поднося их близко к глазам, – а царь Иван мне что ответил?
– Царь наш, Иван Васильевич, отвечал, мол, как можно города те отдать, когда там в посадах и по селам давно церкви православные поставлены и русские люди живут. Татарам же даны поместья и службы в землях новгородской, псковской, московской, тверской. А в Казанской земле поставлены семь городов: на Свияге, на Чебоксаре, на Суре, на Алатыре, на Курмыше, – как по писаному начал перечислять посол, но хан замахал руками, показывая нежелание слушать дальше.
– Вон сколько у брата моего Ивана городов! А он?! Двух городов пожалел. Ай-яй-яй, – совсем по-русски закончил хан.
– Мал золотник, да дорог, – усмехнулся Нагой.
– Говорили мне, будто бы царь Иван жадный, да я не верил. А какой город он вздумал ставить на Тереке? Он мое разрешение на то спросил?
Нагой, затаив усмешку в озорно блеснувших глазах, оправил русую бороду, с достоинством ответил:
– А как же! Он сына твоего хотел в Касимов-город на княженье посадить? Хотел, да хан отказался. Жену ему из нашенских предлагал? Хан не пустил сына жениться. Зато черкесский царь Темрюк дочь свою царю нашему в жены отдал, сыновей отпустил, а царь наш, Иван Васильевич, за то в помощь ему и крепость для обороны ставит. Разве он у тебя, хан, согласия дружить не спрашивал? А ты до сих пор судишь-рядишь, с кем дружить, с кем в мире жить… и решить не можешь.
– Так ведь мне, бедному, как иначе? Кто больше предложит – тот мне и друг, – чистосердечно признался Девлет-Гирей.
– Вот-вот. А ногайцы тебе что дали? А султан турецкий?
– И они дружбу предлагают. И хан бухарский, и хан сибирский – все дружбы моей ищут.
При последних словах Нагой насторожился. До него уже давно доходили сведения, будто из Бухары вместе с караванами к крымскому хану шлют грамоты, в которых предлагают соединить усилия всех мусульманских государей и вернуть обратно и Казань, и Астрахань, потеснить Москву, мечтают о временах Батыева нашествия.
– Как же насчет поминок, – вернул его к своим заботам Девлет-Гирей, – хочу те, что при Махмет-Гирее были назначены. Так и отпиши царю своему. Иначе не бывать миру меж нами.
Афанасию надоело торговаться, и он решил немного остудить боевой задор крымского правителя, напомнить о его действительном положении. Прошли те времена, когда Русь боялась татарских полчищ. Не усмотрели те, как буквально под носом у Крыма возникла немалая сила, называемая казаками.
– Хан, верно, знает, что на Дону, на Волге живут люди, что казаками себя прозывают? Сколь их там обитается, и мы того не ведаем. Сила их столь велика, что хан ногайский слезно к царю нашему писал, жалился на них. А вдруг да казаки те на Крым пойти похотят? Тогда как?
– Не бывать тому, – презрительно усмехнулся Девлет-Гирей, – всякий сброд, казаки какие-то не посмеют напасть на мое ханство.
– Еще как посмеют, – поднял предупредительно руку Афанасий Нагой, – только тогда пусть ваши послы не стучатся в двери царского дворца, не просят о помощи.
– Зачем такие нехорошие слова говоришь? – хитро сощурился крымский хан, хорошо понимая, что русский посол не зря напомнил ему о казаках, которые последнее время начали регулярно тревожить его аулы, каждый раз все ближе подбираясь к границам ханства. Много уже жалоб получил он от беков и мурз, чьи табуны были угнаны невесть откуда налетающими никому ранее не известными воинами. Урон, конечно, был от них небольшой, но укус даже маленького комара в больное место всегда ощущаешь болезненно, и даже раздавив зловредное насекомое, долго чешешь оставшуюся после него ранку. И сейчас посол задел ту самую болячку, которая последнее время не давала покоя крымскому хану. – Мы хотим в мире жить с нашим братом, царем московским, а просим его всего лишь о такой малости.
– Малости? – переспросил Нагой. – Астрахань и Казань – малость? Что же тогда будет большим для хана?
– Аллах с ними, с городами, – пренебрежительно отмахнулся Девлет-Гирей, – хлопот с ними не оберешься, с городами теми. Пущай ими брат наш московский владеет, коль они ему так нужны. У меня и здесь дел полно, – и он тяжело вздохнул, давая понять, как нелегко ему приходится в собственном дворце. – Троим сыновьям недавно обрезание делали, четырех дочек замуж собирать надо, а денег в казне нет, пусто. А все почему? Потому что на Москву давно не ходили мои нукеры, не привозили мне десятую часть от взятого в набеге. И царь московский поминок не шлет.
– Сколь надо? – обыденно, словно они находились на базаре, спросил Нагой.
– Две тыщи рублев надо, – выдохнул доверительно в лицо послу Гирей и добавил, – золотом.
– Как скоро нужны деньги? – поинтересовался Нагой.
– Ой, да хоть завтра, – обрадовался крымский правитель, и глаза его ласково заблестели, – в вечном мире с братом моим московским жить будем.
– Я напишу моему государю, – проговорил Афанасий Нагой, вставая, – но пока гонец до Москвы доскачет, пока его там примут, обратно вернется…
– Ждать стану, время терпит, – торопливо закивал головой Девлет-Гирей, – приходи сегодня ко мне ужинать, когда гонца в Москву направишь.
– Хорошо, – согласился Нагой, – сегодня и направлю, но ужинать, извини, хан, прийти не могу, свой повар у меня готовит. Нынче ведь пост Успенский, а ты, поди, сызнова барашка молодого к столу подашь.
– Для дорогого гостя ничего не жалко, – осклабился крымский правитель, – но как знаешь, неволить не буду.
– Поди радуешься, что одним едоком меньше будет, – буркнул про себя Нагой, уже выходя из дворца и с неприязнью глянув на стражников, что буквально ели его глазами, ожидая обычной подачки. – Фиг вам, – проговорил по-русски, надеясь, что те не поймут его слов.
Через два месяца из Москвы вернулся гонец и привез всего двести золотых, которые Иван Васильевич поручал послу вручить хану. Девлет-Гирей несказанно обрадовался этой подачке, словно позабыл, что просил в десять раз больше. В грамоте к Афанасию Нагому государь писал: «Отдай крымскому хану наши деньги, что под рукой оказались, а буде он еще поминок несуразных требовать, то припомни ему, что деньги и все злато земное есть тлен, которые с собой на небеса взять не можно…» Посол счел лучшим не сообщать о тех царских словах обидчивому Девлет-Гирею и через две недели, окончательно удостоверившись, что крымчаки не собираются готовить очередной набег на Москву, благополучно выехал из Бахчисарая.
Блаженство юности
Последние несколько лет Зайла-Сузге жила в Бухаре при дворце Амар-хана, доводившегося дальним родственником правителю страны Абдулле-хану. При ней был и сын ее Сейдяк, который стал к тому времени статным юношей и уже дважды ходил в походы на кочевья Хакк-Назара, проявив при том удаль и отвагу.
Порой ей не верилось, что она не наложница, не скрывается по лесам от головорезов, не мчится верхом по степи, спасаясь от преследователей, не прячется на окраине Бухары, а живет свободно и открыто у друга отца. Верно говорят восточные мудрецы: человек должен долго, очень долго страдать, прежде чем счастье чуть-чуть улыбнется ему и протянет благодать на мизинце. А ведь все произошло почти случайно. Но разве есть в этом мире что-то случайное? Разве человек не ищет тот случай, не выбирает себе путь и не идет по нему? А счастье – это лишь заветный оазис в конце пути.
Раз в неделю, когда на бухарских базарах появлялись дехкане из окрестных кишлаков, привозившие на небольших повозках овощи, свежее мясо, и цены были самыми низкими, она отправлялась обменять или продать сшитые за неделю вещи. Ей помогала соседская девочка, дочь лудильщика Зухра, с родителями которой она дружила и в особо трудные времена могла попросить взаймы ложку масла, горсть муки, пучок лука. Зухре шел уже одиннадцатый год, и родители поговаривали, что пора бы выдавать ее замуж за юношу, с которым она с детства была обручена. Когда Зайла-Сузге спрашивала о ее женихе, девочка краснела и убегала в соседнюю комнатку, откуда выходила нескоро с гордо задранным носиком и оттопыренной верхней губой.
– Любит ли тебя твой жених? – пыталась разговорить девочку Зайла-Сузге.
– Не знаю, ата. Но он обещал быть хорошим мужем и не наказывать меня. Сейчас они с родителями готовят калым, и как только соберут его, то приедут свататься.
– Да за что же тебя наказывать? – всплескивала руками Зайла-Сузге. – Ты такая послушная, такая красивая, все умеешь делать.
От этих слов Зухра лишь краснела, и рука с иглой начинала бегать еще быстрее, а головка склонялась ниже к шитью. Однажды она отважилась спросить:
– А Сейдяк тоже обручен с кем-нибудь? У него есть невеста в Сибири?
– Нет, – грустно ответила Зайла-Сузге, – когда мы бежали оттуда, не было и времени подумать об обручении. А здесь… Я думаю, рано говорить Сейдяку о свадьбе. Еще не известно, как все повернется.
– Что повернется? – не отставала Зухра, и по ее заинтересованности легко было понять девичий интерес к молодому парню, ее ровеснику, с которым она виделась почти каждый день.
Зайле-Сузге нравилась быстрая и исполнительная Зухра, и она была бы не прочь видеть ее своей невесткой. Но она хорошо понимала, что не вправе распоряжаться судьбой своего сына, и не от нее зависело, как сложатся дальнейшие события. Все же он законный наследник сибирского престола и, войдя в лета, став мужчиной, сам должен выбрать себе место в этом мире.
Сейдяк обращался с Зухрой как с сестрой, ничем не выделяя ее среди других девочек, живущих поблизости. Но Зайла-Сузге опытным материнским взглядом, а больше сердцем угадывала влечение сына к робкой, застенчивой Зухре.
«Но разве пара дочь простого медника, что целыми днями лудит на своем дворе медные кувшины и тазы, ее сыну, чей род восходит к потомкам великого Чингиза? – размышляла она. – Не будут ли они оба несчастны, если соединят свои судьбы? У ее сына невеста должна соответствовать его положению. Вряд ли он станет таким же лудильщиком или красильщиком шерсти. Нет, он воин и должен унаследовать то, что принадлежит ему по праву рождения. Как лудильщик унаследовал инструменты своего отца, а красильщик – чаны, пастух – седло и стада, дехканин – кусок обработанной земли, так и ее сын должен стать наследником земли своего отца».
Теплыми вечерами, сидя в небольшом садике за домом, она изредка заводила с сыном разговор о Сибири, о ее непроходимых лесах, могучих реках, рассказывала о Бек-Булате, Едигире. Сейдяк слушал с интересом и лишь потом, когда она умолкала, осторожно спрашивал, чувствуя, сколь болезненны для матери эти воспоминания:
– А когда я вырасту, то мы вернемся в Сибирь?
– Обязательно, сынок, – отвечала она, гладя его черную голову с большим вихром на лбу.