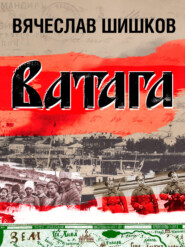По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Угрюм-река. Книга 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Выстрелы смолкли. Живые поднялись: кто прытко, не оглядываясь, побежал, кто вспотычку побрел домой: от страха одрябли ноги. Мертвые лежали смирно, лицом зарывшись в пыль или глядя в небо немым стеклом зрачков. Раненые мучились в корчах. Пыль от крови превратилась в грязь, как на скотобойне.
Протасов едва встал, но не мог идти. Его кто-то повел, крепко прижав к себе. Потом Кэтти подошла, взяла его под руку. Плакала, вся дикая, растрепанная, всхлипывала, грозила кулаком, бессвязно выкрикивала брань, плевалась. Протасов трясся, ничего не понимал.
Разбитый, едва живой, с открытым ртом, с выпученными глазами, подъезжал к месту расстрела прокурор, рядом с ним в пролетке врач. У врача в походной сумочке – шприц и камфара для прокурора.
На земле груды раненых и мертвых. Тишина. Уныние.
15
Чрез тайгу, не видя света, бежали во всю мочь охваченные паническим страхом рабочие. Многие мешались в уме, теряли силы, валились. Любой из всадников не смог бы ответить, чей конь под ним, как он на этого коня попал. Все было смутно и смятенно. Сама тайга, свет солнца, воздух – все кругом стало враждебным, вражьим.
Сгруживались, горько спрашивали друг друга:
– За что? Что мы сделали? Хоть бы стекло в три копейки разбили или бы проволоку порвали…
Был большой плач.
Подбирали убитых и раненых, складывали на телеги. Живых везли в больницу, мертвых – в котловину, возле бани.
Первый примчался на коне к своим баракам землекоп Кувалдин. Свалился с коня, забрал в горсть бороду, по-дурному зашумел.
– Чего сидите?! Чего ждете?.. Идите подбирать покойников.
Из бараков высыпали старики, бабы, ребята.
– Марья! Беги скорей, – гундил нутряным голосом Кувалдин. – Митрийтвой кровью обливается. Подле меня лежал. Беги, молодайка!
Марья обомлела. Кровь с лица разом схлынула. С резким, пугающим воем бросилась Марья в тайгу. За нею спешили парнишка и старуха мать.
Только утром, среди мертвых, на телеге нашла его Марья. Правый глаз убитого открыт.
– Живой! – не своим голосом крикнула она. – Митрий, Митрий! Вставай… – Подняла его голову, сняла картуз, – на темени мозг, из раны пуля выпала.
Она заулыбалась и тихонечко заплакала. Она три дня была в испуге, не помнила, что с нею. На четвертый день бросилась с камня в Угрюм-реку.
А там, на бойне, много народу собралось, ребята, старики и женщины.
Был неутешный большой плач.
Подбирали весь вечер, до глухой ночи. Труп Константина Фаркова увез на своей лошади сын.
По всему поселку, в каждом домище, домочке, избе, в каждом бараке, землянке и всюду – настроение свинцовое, мрачное. Как будто всю местность, весь мир охватило моровое поветрие.
Темно и тихо. Народ ушел. Но там, на бойне, еще не все мертвецы подобраны. Многосемейный слесарь Пров, – тот, что когда-то беседовал в бараке с Ниной, – со стоном приподнялся на локтях, привалился разбитым плечом к двум лежавшим друг на друге покойникам: «Ой, смерть моя!..»
Идут два стражника. Слесарь Пров взмолил:
– Милый, дайте тряпочку либо платочек, рану мне перевязать…
Бородатый, весь изрытый оспой стражник, рассматривая с фонарем убитых, присел возле одного и поспешно стал разжимать его стиснутую в кулак ладонь.
– Погоди, гадина… Я живой еще, – прохрипел тяжко раненый. – Вот умру, тогда твое кольцо…
После второго залпа, когда многие рабочие повалились на землю, отец Ипат крикнул: «Народ бьют!» – закачался, упал; паралич поразил правую половину тела, отнялся язык.
Теперь отец Ипат дома, на кровати. Мычит, мечется, плачет. Манечка в отчаянии. Лик дьякона Ферапонта почернел. Злоба на всех и, вместе с жалостью, злоба на Прохора.
В котловине, где груда мертвецов, вечер и ночь проходят в сосущей сердце жути.
По настоянию судьи был произведен в присутствии понятых осмотр убитых: кто куда ранен, опознания, протоколы. Руководят судья и врач. Родственники убитых, перешагивая через трупы, разыскивают своих. Как безумные кидаются на похолодевших близких, стараясь лаской, слезами, дыханием согреть их, оживить. Их стоны режут ножами каждую живую душу. Стоны летят во все стороны тайги. В тайге пугаются белки, поджимают уши медведи, горько плачет птица выпь. Тьма содрогается, тьма гасит звезды.
Отец Александр записывает в дневник кровавое событие. Кухарка подает приказ жандармского ротмистра:
«Именем закона запрещаю вам отпевать рабочих в храме, также хоронить в церковной ограде и на кладбищах. Для них будут вырыты ямы около ледников, и там отпоете понесших наказание крамольников без всякой торжественности».
Отец Александр по-сердитому крякнул и первый раз в жизни выругался:
– Паршивый черт! Изувер! На-ка, выкуси. Встал, весь смятенный, пронизанный нервной дрожью, и быстро пошел в больницу напутствовать умирающих. Глухая ночь.
Ночью летели телеграммы ротмистра губернатору и в Петербург. Выдержки из телеграммы:
«…Около четырех часов пополудни рабочие предприятий Громова, в числе четырех тысяч человек, вооруженные железными палками, кольями, кирпичами, двинулись на поселок. Толпа имела намерение сломить военную силу, завладеть положением, начать хищническую разработку золотых приисков. На мое требование остановиться продолжали наступать на военную команду, подошли на расстояние ста шестидесяти шагов, после чего я вынужден был передать власть начальнику команды, который открыл огонь по толпе. После первых залпов толпа с криками «ура» хотела броситься на войска, но огонь команды обратил ее в бегство. Убито 125, ранено 170, но есть еще раненые, которых унесла толпа».
Урядники, стражники, пристав – вся эта свора, подкрепленная состоявшими на службе казаками, рыскала возле бараков, по тайге, стараясь схватить подозреваемых зачинщиков. Были пойманы тридцать человек правых и неправых и той же ночью отосланы в тюрьму. Кое-кто из политических, пользуясь всеобщей суматохой и невнятицей, бесследно скрылся.
Анна Иннокентьевна в сопровождении своего кучера спешно уехала ночевать к отцу. Ей показалось, что ее муж опять сошел с ума. Действительно, когда весть о расстреле разнеслась повсюду, Петр Данилыч, весь пегий, давно небритый, распахнул окно в пустынную тайгу, охватившую со всех сторон его новое жилище, и до хрипоты целый час орал в пустой простор:
– Ребята! Рабочие! Мой сын преступник… Мой сын христопродавец. Не слушайтесь его!.. Я – хозяин. Я вам дам денег сколько пожелаете. Все мое – все ваше. Ура, ребята, ура!..
Срочная ночная телеграмма:
«Прокурор Черношварц с четверга на пятницу в 2 часа 32 минуты пополуночи скоропостижно скончался. Ротмистр фон Пфеффер».
Отец Александр, весь измученный, вернулся из больницы лишь ранним утром. Шатаясь, едва добрался до кровати. Одежда, руки его в крови, старуха кухарка испугалась.
Ротмистр ночевал в Народном доме, под охраной солдат.
Кэтти и техник Матвеев ночевали у Протасова.
Возле больницы спали вповалку на лугу, сидели, ходили старики, женщины, ребята – родственники раненых. Умерших выносили из больницы в церковь, открытую после резкого препирательства священника с бароном.
В десять часов утра бравый офицер Борзятников постучался в квартиру Кэтти. Механик, у которого она квартировала, сказал, что барышня ушла еще вчера и домой не возвращалась. Скорей всего – она у инженера Протасова, она вчера вела его, больного, под руку. Скорей всего она там. Она теперь… Знаете?.. Как бы вам сказать…
Офицер Борзятников позвонил к Протасову. С треском распахнулось окно:
– Что вам угодно?
– Простите… Не у вас ли Екатерина Львовна?
Протасов едва встал, но не мог идти. Его кто-то повел, крепко прижав к себе. Потом Кэтти подошла, взяла его под руку. Плакала, вся дикая, растрепанная, всхлипывала, грозила кулаком, бессвязно выкрикивала брань, плевалась. Протасов трясся, ничего не понимал.
Разбитый, едва живой, с открытым ртом, с выпученными глазами, подъезжал к месту расстрела прокурор, рядом с ним в пролетке врач. У врача в походной сумочке – шприц и камфара для прокурора.
На земле груды раненых и мертвых. Тишина. Уныние.
15
Чрез тайгу, не видя света, бежали во всю мочь охваченные паническим страхом рабочие. Многие мешались в уме, теряли силы, валились. Любой из всадников не смог бы ответить, чей конь под ним, как он на этого коня попал. Все было смутно и смятенно. Сама тайга, свет солнца, воздух – все кругом стало враждебным, вражьим.
Сгруживались, горько спрашивали друг друга:
– За что? Что мы сделали? Хоть бы стекло в три копейки разбили или бы проволоку порвали…
Был большой плач.
Подбирали убитых и раненых, складывали на телеги. Живых везли в больницу, мертвых – в котловину, возле бани.
Первый примчался на коне к своим баракам землекоп Кувалдин. Свалился с коня, забрал в горсть бороду, по-дурному зашумел.
– Чего сидите?! Чего ждете?.. Идите подбирать покойников.
Из бараков высыпали старики, бабы, ребята.
– Марья! Беги скорей, – гундил нутряным голосом Кувалдин. – Митрийтвой кровью обливается. Подле меня лежал. Беги, молодайка!
Марья обомлела. Кровь с лица разом схлынула. С резким, пугающим воем бросилась Марья в тайгу. За нею спешили парнишка и старуха мать.
Только утром, среди мертвых, на телеге нашла его Марья. Правый глаз убитого открыт.
– Живой! – не своим голосом крикнула она. – Митрий, Митрий! Вставай… – Подняла его голову, сняла картуз, – на темени мозг, из раны пуля выпала.
Она заулыбалась и тихонечко заплакала. Она три дня была в испуге, не помнила, что с нею. На четвертый день бросилась с камня в Угрюм-реку.
А там, на бойне, много народу собралось, ребята, старики и женщины.
Был неутешный большой плач.
Подбирали весь вечер, до глухой ночи. Труп Константина Фаркова увез на своей лошади сын.
По всему поселку, в каждом домище, домочке, избе, в каждом бараке, землянке и всюду – настроение свинцовое, мрачное. Как будто всю местность, весь мир охватило моровое поветрие.
Темно и тихо. Народ ушел. Но там, на бойне, еще не все мертвецы подобраны. Многосемейный слесарь Пров, – тот, что когда-то беседовал в бараке с Ниной, – со стоном приподнялся на локтях, привалился разбитым плечом к двум лежавшим друг на друге покойникам: «Ой, смерть моя!..»
Идут два стражника. Слесарь Пров взмолил:
– Милый, дайте тряпочку либо платочек, рану мне перевязать…
Бородатый, весь изрытый оспой стражник, рассматривая с фонарем убитых, присел возле одного и поспешно стал разжимать его стиснутую в кулак ладонь.
– Погоди, гадина… Я живой еще, – прохрипел тяжко раненый. – Вот умру, тогда твое кольцо…
После второго залпа, когда многие рабочие повалились на землю, отец Ипат крикнул: «Народ бьют!» – закачался, упал; паралич поразил правую половину тела, отнялся язык.
Теперь отец Ипат дома, на кровати. Мычит, мечется, плачет. Манечка в отчаянии. Лик дьякона Ферапонта почернел. Злоба на всех и, вместе с жалостью, злоба на Прохора.
В котловине, где груда мертвецов, вечер и ночь проходят в сосущей сердце жути.
По настоянию судьи был произведен в присутствии понятых осмотр убитых: кто куда ранен, опознания, протоколы. Руководят судья и врач. Родственники убитых, перешагивая через трупы, разыскивают своих. Как безумные кидаются на похолодевших близких, стараясь лаской, слезами, дыханием согреть их, оживить. Их стоны режут ножами каждую живую душу. Стоны летят во все стороны тайги. В тайге пугаются белки, поджимают уши медведи, горько плачет птица выпь. Тьма содрогается, тьма гасит звезды.
Отец Александр записывает в дневник кровавое событие. Кухарка подает приказ жандармского ротмистра:
«Именем закона запрещаю вам отпевать рабочих в храме, также хоронить в церковной ограде и на кладбищах. Для них будут вырыты ямы около ледников, и там отпоете понесших наказание крамольников без всякой торжественности».
Отец Александр по-сердитому крякнул и первый раз в жизни выругался:
– Паршивый черт! Изувер! На-ка, выкуси. Встал, весь смятенный, пронизанный нервной дрожью, и быстро пошел в больницу напутствовать умирающих. Глухая ночь.
Ночью летели телеграммы ротмистра губернатору и в Петербург. Выдержки из телеграммы:
«…Около четырех часов пополудни рабочие предприятий Громова, в числе четырех тысяч человек, вооруженные железными палками, кольями, кирпичами, двинулись на поселок. Толпа имела намерение сломить военную силу, завладеть положением, начать хищническую разработку золотых приисков. На мое требование остановиться продолжали наступать на военную команду, подошли на расстояние ста шестидесяти шагов, после чего я вынужден был передать власть начальнику команды, который открыл огонь по толпе. После первых залпов толпа с криками «ура» хотела броситься на войска, но огонь команды обратил ее в бегство. Убито 125, ранено 170, но есть еще раненые, которых унесла толпа».
Урядники, стражники, пристав – вся эта свора, подкрепленная состоявшими на службе казаками, рыскала возле бараков, по тайге, стараясь схватить подозреваемых зачинщиков. Были пойманы тридцать человек правых и неправых и той же ночью отосланы в тюрьму. Кое-кто из политических, пользуясь всеобщей суматохой и невнятицей, бесследно скрылся.
Анна Иннокентьевна в сопровождении своего кучера спешно уехала ночевать к отцу. Ей показалось, что ее муж опять сошел с ума. Действительно, когда весть о расстреле разнеслась повсюду, Петр Данилыч, весь пегий, давно небритый, распахнул окно в пустынную тайгу, охватившую со всех сторон его новое жилище, и до хрипоты целый час орал в пустой простор:
– Ребята! Рабочие! Мой сын преступник… Мой сын христопродавец. Не слушайтесь его!.. Я – хозяин. Я вам дам денег сколько пожелаете. Все мое – все ваше. Ура, ребята, ура!..
Срочная ночная телеграмма:
«Прокурор Черношварц с четверга на пятницу в 2 часа 32 минуты пополуночи скоропостижно скончался. Ротмистр фон Пфеффер».
Отец Александр, весь измученный, вернулся из больницы лишь ранним утром. Шатаясь, едва добрался до кровати. Одежда, руки его в крови, старуха кухарка испугалась.
Ротмистр ночевал в Народном доме, под охраной солдат.
Кэтти и техник Матвеев ночевали у Протасова.
Возле больницы спали вповалку на лугу, сидели, ходили старики, женщины, ребята – родственники раненых. Умерших выносили из больницы в церковь, открытую после резкого препирательства священника с бароном.
В десять часов утра бравый офицер Борзятников постучался в квартиру Кэтти. Механик, у которого она квартировала, сказал, что барышня ушла еще вчера и домой не возвращалась. Скорей всего – она у инженера Протасова, она вчера вела его, больного, под руку. Скорей всего она там. Она теперь… Знаете?.. Как бы вам сказать…
Офицер Борзятников позвонил к Протасову. С треском распахнулось окно:
– Что вам угодно?
– Простите… Не у вас ли Екатерина Львовна?